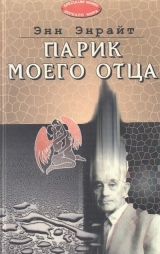
Текст книги "Парик моего отца"
Автор книги: Энн Энрайт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
СПАРИВАНИЕ
Той ночью я стала приставать к Стивену – просто так, потому что это грустное занятие и потому что он начал пахнуть, как мужчины из категории моих потенциальных знакомых. Днем он постриг себе ногти – в пепельнице у кровати остались обрезки. Я их пересчитала – в обрезках ногтей есть что-то такое, заставляющее тебя проверить, все ли они на месте. И пока я их считаю (в общей сложности оказалось девять), до меня доходит, что главная моя проблема – как сообщить ему, что я его люблю.
Может быть, попросить, чтобы, когда я умру, он положил мое тело в лодку, спустил ее на воду и сжег?
Дотрагиваюсь до его лица в темноте – и слышу, как его дыхание становится беспокойным, сбивается с ритма. Дотрагиваюсь до его груди – и, кажется, моя рука уже не та, что была. Моя ладонь парит по воздуху, облепляющему его бедро, боясь коснуться, а волоски на его коже встают на ее пути.
Медленно-медленно он скидывает с себя одеяло и медленно-медленно нащупывает ногами пол. Отвернувшись, усаживается на край постели.
Наклоняется к полу и вновь распрямляется, глядя на кончики своих пальцев. Он нашел последний обрезок ногтя и теперь кидает его в пепельницу. А я не могу понять, что тут меня сильнее нервирует – кусочки, которые он обрезал, или то, что осталось на его пальцах. Ногти у него толстые, белые и чистые. Когда в кино крупным планом показывают руки с такими ногтями, сразу становится ясно – сейчас эти руки сделают что-нибудь гадкое.
Он снова опускает глаза к полу, отталкивается от кровати и идет в темноте к креслу в углу комнаты. Начинает говорить.
Он говорит со мной о своей жене, о том, что ничегошеньки не понимал. Говорит, что однажды пришел домой, а на снегу во дворе разбросаны игральные карты; висевшие на веревке штаны так смерзлись, что чуть не разломились в его руках.
Он рассудил, что она от него ушла, но, войдя в дверь, увидел ее. Он рассудил, что она ушла, но увидев ее сидящей дома, понял – она беременна.
– Мужчине трудно понять такое, – говорит он.
Снег не давал ей замерзнуть. Как пьяницам. Чем больше разрасталась его жена, тем ярче становилось сияние ее белой кожи – от снега; жилки вен на ее грудях и жилки вен на ее животе разветвлялись голубыми языками пламени, вылизывая ее изнутри. Она росла всю зиму, белая-белая, а с приходом весны, как пшеница, пошли в рост волосы у нее между ног. Но страшно ему было именно зимой: белая жара в постели у него под боком, и живот сугробом у ее набухших грудей, как снег – стены. Ее кровь пела в постели у него под боком, ребенок – ведь это ребенок сидел у нее в животе – кипятил ее кровь. Это ребенок ее грел – был печкой в животе – а Стивен мог делать только одно: класть на ее живот ладони, пока совсем не съежились от холода. И ее кровь, свистя, текла сквозь ребенка, который был вовсе не ребенок, а огонь.
– Тело страшно не тем, что может умереть, – говорит он, – а тем, что может вырасти.
Как-то раз он вернулся домой – он, знаете ли, всегда возвращался домой – и стал кружить вокруг ее тела-солнца, силясь увидеть его оборотную сторону. И задрал ей платье, и прижал к ней ладони – руки у него так замерзли, что казались чужими. От внезапного прикосновения его рук ребенок начал брыкаться.
Ребенок начал брыкаться, говорит Стивен, точно камни в пруд посыпались. В белизне ее живота он увидел собственное лицо, но тут ребенок начал брыкаться, и белизна ее тела растаяла, как тает снег, и он заглянул вовнутрь. Он увидел вещицы, потерянные кем-то, увидел вещицы, разбросанные по канавам, увидел молодую траву и вещицы, которые сгниют под дождем.
А еще – всего на миг – он увидел там свое собственное лицо или, может, просто какое-то лицо, он не был уверен, чье. Умей он рисовать – подумал он – он нарисовал бы это лицо на ее животе, мазок к мазку, цвет к цвету. Он нарисовал бы то, что внутри – веревку в придорожной канаве. Он нарисовал бы свое лицо, которое на один миг стало лицом ангела.
– Мужчине трудно понять такое, – говорит он.
Как объяснить ангелу, что такое презервативы? А про деньги – мертвецу? А про секс – кому угодно?
– Не думаю, что у нас будет ребенок, – говорю я. – Ты ведь скорее концепция – правда, особенного рода.
Он смотрит на меня так, точно я лишилась рассудка. Он смотрит на меня так, словно может сделать мне ребенка одним взглядом. Словно может сделать мне ребенка через ушное отверстие – и все будет шито-крыто.
Он рассказывает мне, что Ангел Амезиарак и двести его последователей совокуплялись с дочерьми человеческими. Были зачаты дети.
– И?
– В третьем кругу Рая ежедневно секут ангелов.
– Значит, у вас в Раю круги есть? – спрашиваю я преспокойно, точно о садовой калитке.
– Смотря на чей взгляд, – отвечает Стивен. А я-то, дура…
Я спрашиваю о детях.
Ту ночь Стивен просидел на стуле у моей двери. Если бы я умела петь, я бы спела ему. Если бы я была мужчиной, я бы взяла его силой. Я могла бы подстричь ногти и сжечь мои и его обрезки вместе. Я могла бы подстричь ногти и посеять обрезки в землю. Я могла бы подойти и дотронуться до него.
Окончательно запутавшись, я засыпаю, и все две сотни совокупляющихся ангелов слетают с чердака к изножью моей кровати, и Амезиарак, заглядывая через дырку в потолке, смеется своими четырьмя крылами и сорока глазами.
Утром Стивену приходится налить для меня ванну – иначе я вставать отказываюсь. Вода кажется слаще сна, который мне только что снился.
– Ножки в воду, госпожа Савская, – говорит он. Рассказывает, что про царицу Савскую ходил слух, будто у нее вместо ступней ослиные копыта: и Соломон велел затопить внешний дворик Храма, чтобы заставить ее приподнять подол, когда она направится к трону; и, размокнув в воде, ее копытца снова превратились в человеческие ступни.
– Стивен, – говорю я. – Полдевятого утра, блин.
ТЕПЕРЬ КРОВЬ В КОМНАТЕ
Маркус возвращается с похорон. Сельская жизнь озлобила его и – правда, лишь на пару дней – заставила, оставаясь самим собой, притихнуть. У меня сердце за него кровью обливается; я и сама удивилась, обнаружив в себе эту бездну сочувствия, а в офисе вообще началась черт-те какая заваруха – как будто в эту бездну можно свалиться. Молчание Маркуса настораживает. Он неопасен, лишь когда начинает болтать.
Он тихо-мирно смотрит на меня, и тут телефон у меня на столе начинает звонить. Подняв трубку, я слышу всего лишь отдаленные крики с другой линии. Затем какой-то голос произносит «Прощай» так, как мог бы произнести это слово мой отец – если бы его подпускали к телефону.
– Это ты? – спрашиваю.
– Нет, – произносит голос. Это мой отец; у меня такое ощущение, будто я смотрю фильм, который разветвляется сразу на три других, и все три – не фильмы, а репортаж в прямом эфире.
– Это ты.
– Да, – говорит он, и его осмысленная интонация пробуждает ужасную надежду – надежду, плывущую по проводу угрем – надежду, что отец вернулся домой.
– Аллоэ, – говорит он.
– С мамой все в порядке?
– Маммона девять, – говорит он.
– С тобой все в порядке?
– Чет, пять. Пять четыре.
– Да, – говорю я. – Что-нибудь случилось?
– Сердечник шесть. Монтроз ноль.
– Уже знаю, – говорю я.
– Койденбех, – говорит он и вешает трубку.
– И я тоже, папа. И я тоже.
Комната полна мертвецов. Фрэнк смотрит на свои снимки. Отец шепчется с оглохшей трубкой. Маркус стоит у дверей Люб-Вагонетки со своим собственным отцом, выглядывающим из его лица, и улыбается губами, которые говорят: «Эй, жизнь, какую гадость ты мне еще подкинешь?»
Приплелся Дамьен в длинном плаще а-ля-шинель, зажав в зубах сигарету. В каком кино он сегодня проживает? «Коломбо»? «Большой сон»? Разглядывая нас сквозь свое похмелье, он дергается, точно каждое его движение – бесцеремонный монтажный переход из фильма «На последнем дыхании». Кажется, все мы тут достукались. Я смотрю на Фрэнка, но он никак не оторвется от фотографий – похоже, застрял в стоп-кадре. Джо выключилась. Я ничего не делаю – только смотрю.
Так кончается мир, не взрыв, но:
– Доброй ночи, Джон, мой мальчик, – говорит Люб-Вагонетка после тридцати минут нытья и кукурузной каши.
– Доброй ночи, бабушка, – говорит Маркус, наконец-то сделавший свой ход. Все совещание напролет он выдавал эффективные мини-реплики и умиротворяющие, полезные советы. Он озвучил тщательно смодулированное беспокойство насчет будущего года.
– Это можно попробовать в будущем году, – говорит он. – В смысле… если программа доживет до будущего года.
С тем же успехом он мог бы указать пальцем на бомбу, лежащую под столом. Глаза всех сидящих в комнате поворачиваются вовнутрь: как глаза беременных женщин, как глаза людей, которые знают, что останутся в живых – но их честь не уцелеет.
С тем же успехом он мог бы указать на бомбу и сказать: «А по-моему, это просто чемодан». Никто не заглядывает под стол. Никто не глядит на других. Маркус смотрит на всех, чисто из гнусности – ведь каждый из нас думал, что один знает про бомбу, если она вообще реальна. Каждый из нас считал, что успеет вовремя смыться и нет смысла создавать давку у дверей.
Каждый, за исключением Джо. Кто б сомневался – ее агентура работает безукоризненно. – Ну, я не в счет, – говорит она. – Я в спортивную перехожу.
Значит, все правда. Слухи верны. Будущего года не будет. Все правда: некоторые из нас пойдут на повышение, а большинство – восвояси, а декорации перекрасят и программе дадут другое имя типа: «Новая усовершенствованная Рулетка Любви» или «Руль-Эткалюб-Ви» или «Любопытные этапы в карьере человека, которого вы все равно не знаете».
– Да погодите, – говорит Маркус. – Это разве бомба? По мне, это скорее счастливая оказия!
– Ну вот, началось, – говорит Фрэнк, покамест Маркус, засучив рукава и поплевав на ладони, берет топор и начинает педантично снимать со всех стружку.
В столовке слухи окончательно пускают корни. Программа казнена. Мы молча берем подносы и выстраиваемся в очередь за едой, на вкус ничем не отличающейся от наших сваренных, остывших и вновь подогретых жизней. Я беру зеленый от паники горошек с растоптанной в пюре картошкой и острым гарниром из интриг. Фрэнк – «княжескую отбивную» а-ля-Макиавелли с картофелем фри (он же «снятая стружка») и сбитую спесь в дрожащем, как осиновый лист, соусе. Сценаристы берут паштет «Хренсвами» и морской язык за зубами. На десерт духу ни у кого не хватает.
Разговариваем мы о Маркусе. Все, кому он раньше нравился, теперь в грош его не ставят, говорит Джо.
– Господи, да у него только что отец умер.
– Ну и что? – говорю я.
До меня доходит, что я всегда недолюбливала отца Маркуса, хоть он и умер; и об этом мы никогда не сможем поговорить, потому что Маркус считал своего отца самым достойным человеком из тех, кто когда-либо высматривал на небе грозовые тучи. Маркус думал, что все еще бредет в сторону отца, искупая вину, доказуя свою доблесть – и прочие некрасивые черты своего характера.
Раньше он любил рассказывать истории про своего старика: повести об оскорблении, нанесенном бакалейщиком, о хамстве в баре, о разговоре, который случился между ними, когда ничего уже нельзя было поправить. Маркус имел обычай говорить, глядя на меня:
– Ну как мне от всего этого уйти?
Теперь ему больше неоткуда уходить и больше некуда идти. Возможно, в его скитаниях по жизни было что-то похвальное (если вас интересуют мальчишечьи скитания, меня, к примеру, – нет). Маркус вечно мучился от сердечных ран, нанесенных какой-нибудь женщиной, которую он даже не любил. Время от времени слышишь, как он говорит в телефонную трубку: «Прости…», словно имея в виду: «Мне и самому жалко, что у меня такой сложный характер», и из его лица с неодобрительно-горделивой миной выпячивается старик. Отец Маркуса всех нас ненавидит. Меня он ненавидит просто так, для развлечения.
Когда мы возвращаемся в контору, он выходит из кабинета Люб-Вагонетки в посткоитальном затмении чувств. Он распевает:
Чудо-Кот
Вечно сто хлопот
Чудо-Кот
Нигде не пропадет
И лишь ближайшим
Умнейшим
Любимым друзьям, о-го-го
Он разрешает звать себя
Просто «Чу-Ко».
Тут следовало бы его подколоть – но я зачем-то дотрагиваюсь до его руки. Вот ведь херня какая.
ОТМЕТИНА
Итак, я начала чувствовать на себе благотворное воздействие Стивена, результаты его дыхания у меня на плече, его чистоты, его заботливости. Из-за белых стен комнаты кажутся более просторными. Просветленными. Белизна раздвинула углы, наполнила смыслом закоулки; она утешает меня в потемках.
Гляжу на его волосы на подушке: каждый стебелек – чудо, каждый стебелек крепко укоренен в его голове. Во сне Стивен видит свою прежнюю жизнь, и сны его правдивые. Он вновь переживает свои предсмертные конвульсии, одну за другой. – «Как родовые схватки, – говорит он, – только движешься в противоположную сторону».
По правде сказать, конвульсии становятся слабее, а промежутки между ними – длиннее. И все равно трудно спать, когда он пробирается через конвульсию задом наперед, от одного удара сердца к другому, пока его горло не щелкает, прочищаясь.
Что до моего влечения к нему: оно покинуло мою промежность, поплутало по моему организму, вынырнуло на поверхность кожи – и я выдохнула его, скорее воздух, чем нужду, скорее крохотный бубенчик, чем воздух, бубенчик, звенящий, когда совсем тихо. Может быть, это счастье. Потом до меня доходит, что, чем бы он меня ни кормил, я уже две недели не ходила в туалет – даже как-то соскучилась по этому занятию.
В субботу утром он, как обычно, наливает мне ванну, и вода, как обычно, не просто обтекает меня; она шепчет и покрывается рябью, разбрасывает по потолку мерцающие блики. На бельевой веревке поет птица, в трубах поет вода. Былое желтое кольцо, окаймлявшее слив, куда-то исчезло. Я вижу собственный портрет, с лилиями на полу и подоконнике; мои плечи вздымаются над этой антикварной лоханью на львиных лапах, где миссис О’Двайэр мылась, смотрела на свое тело и находила его сносным. А что, на вкус и цвет товарища нет.
Итак, я смотрю на себя, и под ломаным углом воды все кажется иным – побледневшим, новым. Мой передок больше не рвет в клочья водную гладь, чтобы пялиться на меня молчаливой бурой лягушкой. Соски у меня поблекли, а с животом вообще что-то не то. К примеру, название «живот» к нему больше не подходит. Это гладкое белое пузо с загадочными функциями, испускающее безупречное радужное сияние. Самодовольное такое пузо.
Под ласковый плеск воды я вылезаю из ванны и пробираюсь к зеркалу, покрытому опалово-серой испариной. Я стираю этот конденсат, который оказывается не сырой пленкой, а изящной паутиной, вуалью, отделяющей меня от стекла.
Примерно с минуту я вообще ничего не делаю, так как во мне зреет легкая паника. Беру свою миленькую заурядную зубную щетку и начинаю чистить зубы самым зану-у-удным образом. «Ну-у» – нукает мое горло. Ну-ну-ну, и происходит обычная беседа между щеткой, моими зубами и моими глазами в зеркале (во всех ролях – я). Я полощу рот и – «тук-тук» – ударяется щетка о бортик раковины, и это звук мужчины, идущего к моей постели, хорошего мужика, хотя мое тело запомнило его на свой лад, и я, как обычно, жалею, что он ушел, и смеюсь, вспоминая тот случай, когда стукнула его, приняв за будильник – если верить его словам, стукнула, как заправская садистка.
Все это – лишь попытка оттянуть неизбежное. Но хватит – волей-неволей приходится, попятившись, поднять глаза к зеркалу. О, Иерусалим! Белые груди, до неудобства высокие, длинный, половозрелый склон пуза, руки мои и запястья, ступни и щиколотки, слишком изящные, чтобы приносить практическую пользу; перламутрово-розовые контуры выпирающих костей, ажурное синее кружево под кожей и радужки глаз, подсвеченные лучами со дна ванны, водянисто-зеленые, с янтарным отливом.
Бог с ним, с телом, сказала я себе, а вот рассудка потерянного жалко. И потому для разгона я разбила зеркало, вновь превратив в стекло его серебряные надкрылья. Мне срочно понадобилось все невезение, какое только можно добыть. Когда я позвала Стивена, что-то в моей интонации заставило его без разговоров явиться – против обыкновения.
Он распахнул дверь – и пар ринулся к нему струями, закружился, обвился вокруг его головы. Увидев меня, Стивен зарделся, как небесная роза.
– Извини, – сказал он.
– То-то, – заорала я, и он прикрыл дверь. Распахиваю ее – он стоит спиной к ванной. Говорю:
– Отдай мое тело. Отдай мои руки, мой целлюлит и мои дурацкие ступни.
Я и сама удивилась, когда произнесла это вслух, но мне не хватает морщин, отметин и родинок, тикающих, как бомбы с часовым механизмом. Мне не хватает материнских колен и бабушкиных пальцев-молоточков на ногах. Мне не хватает подкожных складок и наносов, не хватает всех этих беспородных очертаний, по которым, как по карте, любой может прочесть историю этого бедного тела со всеми невзгодами, которые оно перенесло – а перенесло оно пока маловато.
Мне в голову приходит одна мысль; пока он обращен ко мне спиной, я заглядываю себе между ног и обнаруживаю, что там возникло нечто несказанное из области флоры, нечто, к чему применимо слово «лепесток». Когда же я вновь выпрямляюсь – переменчивое море, которое плещется в моих глазах, сделалось еще глубже – Стивен, оказывается, уже обернулся и смотрит на меня.
Тут-то он до меня и дотрагивается. Я назвала бы этот жест совращением, но кто знает, когда начинается и когда заканчивается совращение? Стивен выставил ладонь и благословляющим жестом прижал ее к моей груди – кстати, грудь я тоже не сразу осмелилась назвать «грудью».
Он словно бы совращал меня – ведь путешествие его руки к моей груди было нестерпимо медленным, как математическая неопределенность, которая по определению никогда не станет «определенностью» – она все наступает, наступает и никак… Это было совращение – во всяком случае, таким тот миг застрял у меня в голове. Однако вполне возможно, что у Стивена просто плохо гнулся локоть – сустав заело. Вполне возможно, что в его руке проснулось воспоминание, никак не связанное ни с его головой, ни с его сердцем. Также возможно, что причина была теологического свойства. А почему это нам, собственно, нельзя прикасаться друг к другу? Я заглянула ему в глаза – они были зажмурены. Я глянула на его тело – и удивилась наготе. Вероятно, я застонала.
Как бы то ни было, кто-нибудь да застонал – и с этим стоном рухнули все укрепления. Я уже была готова впустить в свое нутро собак, а в голову – рожки и колокольчики, рев и резню, Крест Виктории[17]17
Британская военная награда, присуждаемая за беспримерную храбрость в бою.
[Закрыть], траур, толпы, приветственно машущие флажками, – но глянув на руку Стивена, которая робко юркнула под мою левую грудь, я заметила, что сосок с груди куда-то исчез.
К моему соску я никогда не питала безумной страсти. Я всегда ждала от него какой-нибудь скандальной диверсии, типа тех извращенных молочных извержений, которым моя мать дала изящное имя «выжимки». Я всегда думала, что если уж мне приспичит что-нибудь из себя выжать, то я предпочту сделать это по-своему – простенько, но со вкусом. Но – и тут уж ничего не попишешь – как только сосок исчез, мне захотелось получить его обратно.
– Грейс, – сказал он, и при звуке его голоса – надтреснуто-печального – я совсем сдрейфила. И к счастью, потому что мой страх вообще заморозил его неспешную руку в воздухе. Этакая дорожная пробка во времени.
Итак, я успела вдоволь поразмыслить о слепой невинности моей левой груди, о ее ассиметричном, зловещем целомудрии. У меня была масса «времени» на то, чтобы обидеться на несправедливость жизни. Потому что Стивен – хоть он и не имел пупка, как ангел и дважды рожденный – по-прежнему располагал парой собственных симметричных сосков, нужных ему, как пятое колесо телеге, алчных, острых – аж глаз можно выколоть – розового «да-вы-меня-не-стесняйтесь» оттенка. Впрочем: кто в состоянии сказать, что, собственно, можно поиметь с ангела?
Время течет тоненькой струйкой, а я смотрю на соски, залихватски оправленные в парные завитки волос: правый кружит по часовой стрелке, левый – в противоположную сторону. Волосы обвивают все его тело – скорее багряные, чем золотистые, так что отблеск солнца на его бедре вполне может сойти за портативный закат. Волосы потоком устремляются к пустырю на месте, где положено быть пупку, и образуют там спираль: каждый волосок гонится по пятам за следующим в колонне и частично захлестывает его – так вода спешит проскочить в отверстие слива. Далее волосы, переливаясь через край, опадают разлохмаченной веревкой в его геометрически-безупречный пах, где, кажется, становятся опорой для некоего органа.
И до меня доходит, что таинственное событие, надвигающееся на нас из пустого дверного проема, властно не только надо мной. Сообразив, что волосы на теле Стивена – в некотором роде моя вина, я теряю дар речи. Я польщена. Ибо его восставший неземным образом (другого слова не подберешь) член с ностальгической печалью тянется к гладкому месту посреди его живота – словно без этого телесного указателя не знает, где остановиться.
– Извини, – вновь говорит он. Печаль в его глазах такая человеческая, что смотреть больно, и мне становится ясно: я, конечно, тоже рискую, но он может потерять не в пример больше. Надо бы заговорить с ним, разбудить от грез, но у руки Стивена – свое мнение. Покамест я стою, ужасающе-одноглазо-ассиметричная, а время себе капает, его рука, размашисто оглаживая мое тело, пробирается к месту, которое для меня более ценно… – и я решаю, что фиг с ней, с грудью, но к пупку я его не подпущу.
– Можно? – спрашивает он.
– Нет, – говорю я. – Нельзя.
– Да.
– Стивен.
– Можно?
– Стивен.
– Можно, – говорит он. – Нет, можно.
И его рука крадучись подползает к частичке бесконечности моего тела. «Да ладно, что такое пуп? – говорю я себе. – В смысле: ну что он такое? Между друзьями-то?» – но у меня вдруг защемило сердце, потому что пупок у меня очень хорошенький. Он зарывается в мой живот и конца-краю ему не видно. Он ценен, как формочка для песка. Он испускает старомодный запах повитухиного грошика. Я задумываюсь о том, с чем он соединялся – об умершей частице матери и меня, которую даже не позаботились похоронить.
– Это мое, – сказала я.
– Пожалуйста… – и глаза у него стали красивые-красивые.
– Иди на хер, – сказала я.
– Подумаешь, веревка, – сказал Стивен. – Обрывок гнилой веревки.
Его глаза вновь вернулись на мостик переносицы. Наверно, я должна была почувствовать себя марионеткой в чужих руках, но нет – я просто за него испугалась. Он искал смерть, но я не собиралась отдавать ему свою.
– Помни Амезиарака! – сказала я. Самая подходящая фраза для ситуации, когда ангел опускает руки. Нам еще повезло, что мы были в ванной – ибо у него загорелись крылья.








