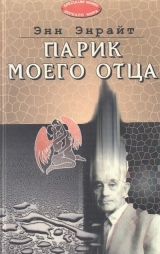
Текст книги "Парик моего отца"
Автор книги: Энн Энрайт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
ДОБРАЯ ВОЛЯ
На следующее утро я ни за какие коврижки не соглашаюсь принять ванну. И на работу еду, не пристегнувшись, – просто не могу себя заставить. Путаю левые повороты с правыми, включаю сигнал и не сворачиваю. Добралась до офиса лишь благодаря чуду. Или, если быть точной, лишь благодаря отсутствию чуда. Меня довезло удивительное сплетение обыденных фактов, не дозволяющее колесам отваливаться, гвоздям – рвать покрышки, а солнцу – ходить на небе ходуном. Я еду на работу по удивительной карте обыденных фактов, всю дорогу отчаянно сияя сигналами; на финишной черте – у дверей – стоит Маркус: крохотный катышек мягкой, пропадающей зазря плоти.
– Хорошо выглядишь, – говорит он.
– Прости?
– Нет, серьезно. Ты правда хорошо выглядишь, – говорит он, меряя меня взглядом с головы до ног. Я смотрю на него тупее, чем он догадывается.
– Вся штука в юбке. Новая?
– Нет.
– Тебе идет, – говорит он, капитулируя.
Никак не обрету равновесие. Весь день предметы валятся на пол, выскальзывают из рук, и с телефоном не сладить – постоянно попадаю не туда. Я произношу фразы типа: «По-моему, это слишком трудно». Народ таращится.
Понедельничная планерка происходит в самой что ни на есть ядреной яви. Все смотрят на руки Люб-Вагонетки и помалкивают. Говоря «все», я не имею в виду Маркуса – этот любуется весенним днем в окошке, словно знает наперед: бояться нечего. Я сижу и молча тоскую по своей матери – и еще много по чему. Люб-Вагонетка толкует о значении последней передачи для нас, для Ирландии, для телевещания грядущего. Она совмещает иронию с паранойей. Она острит.
– Как тебе это нравится? – говорит она. До меня доходит, что она беседует со мной. До меня доходит, что Маркус отвернулся от окна и что за его плечами широко раскинулся ясный весенний день.
– Однозначно, – говорю я.
Фрэнк презрительно фырчит.
– На том и порешим, – говорит Люб-Вагонетка.
По-видимому, я, будучи в носо-клевательном состоянии, только что согласилась, что последняя передача сезона может – более того, обязана – пройти вживую. У Фрэнка такое лицо, точно он печень на пол уронил. Я только что согласилась, что нет ничего невозможного, что добрая воля сильнее смерти, что рак свистнет – если нам только удастся включить его в штат. Нас выпустят в эфир живьем – как месса идет живьем, ведь чудес заранее не отснимешь.
– Ничего не выйдет, – говорит Фрэнк, но он – один против всех.
– Кое-что подправим, кое-что изменим, – говорю я. – Выкинем все паузы, – и Люб-Вагонетка удаляется с улыбкой.
Маркус ошарашен. У него вид человека, одержавшего победу, под которую ни с какого края не подкопаешься. Он улыбается мне, потому что я только что сама себе подписала приговор, он улыбается моей юбке, ибо любит ее, сам не зная почему. А я ему улыбаюсь, так как мое тело пылает от сладкого, болезненного вожделения и телу этому безразлично, что остальные элементы моего «Я» можно добить одним ударом. Вскоре, на той же неделе Маркус оставляет мне записку. Пишет, что хотел бы со мной выпить. Самый дурной знак из всех возможных: записки пишут, когда что-то идет к концу. Когда я вижу записку, перед моим мысленным взором встает Маркус, критически оценивающий свою жизнь и делающий вывод, что пришло время рассылать записки.
Я тоже оставляю ему записку. Предлагаю встретиться в среду, когда он закончит с прослушиваниями. Он оставляет мне записку – в среду, дескать, он разгребет дела не раньше десяти, как насчет вторника? Я пишу, что во вторник готовлю студийные съемки. Как насчет четверга? Он пишет, что в четверг будет монтировать допоздна, как насчет субботы? Я пишу, что в субботу плыву на пароме в Бриттани, и даже если б не паром, суббота – это уже выходные. Чем ему не нравится четверг?
– Чем тебе не нравится вторник?
И когда мы, наконец, встречаемся, уже слишком поздно – чего мне, собственно, и хотелось. Я не желаю сидеть рядом с Маркусом и жалеть его за то, что он меня подставил. Я не хочу советовать ему, что подставлять меня – для него лучший и единственный выход. Кроме того, к четвергу ко мне, возможно, вернется мой сосок.
Но мне не везет. Мы идем в ближайший паб. Можно было бы встретиться в городе, но это выглядело бы подозрительно. Маркус идет к стойке и берет выпивку на свои деньги. Компенсация за пролитую кровь.
Сижу. Наблюдаю, как Маркус ведет себя у стойки. Ставит ногу на медную поперечину, перехватывает взгляд бармена. Потом перехватывает свой собственный взгляд в зеркале, заставленном бокалами и прочими оптическими приборами. Блин, да он – роскошный трофей: небрежно-элегантная рубашка, работа в СМИ. Он учтиво ставит мой бокал на стол. Если я приведу его домой к матери, она, неровен час, прослезится.
Передачу не закроют. Ей предстоит раздвоиться.
– Через раз – викторина, шоу свиданий, викторина, – говорит Маркус.
– В прежних декорациях?
– В новых. Два комплекта новых декораций.
– Во шикуют. А потом работай на них вдвое больше за те же деньги, – когда я злюсь, грудь у меня начинает ныть. Такое ощущение, будто какой-то бедолага пытается выкарабкаться из-под простыни в милю шириной.
– Не вдвое, в полтора раза, – говорит он.
– Ага, как же. Половину времени мы будем работать живьем, – говорю я, – потому что я гребаная идиотка.
Маркус разглядывает меня, высовываясь сначала из своего зеленого глаза, потом – из карего.
– В этом деле нам с тобой надо стоять друг за друга, – говорит он.
– Почему?
Перед моим мысленным взором предстает Маркус-начальник, пытающийся ВОПЛОТИТЬ идею. Я вижу его на кухне во время вечеринки: притиснув к шкафу сценаристку, он втолковывает ей, какая это травма – облысеть в двадцать четыре года. Я вижу его пишущим докладные, которые так и не будут переданы по назначению, ведь он никак не может решить, что лучше: не высовываться или делать волну. Я вижу, как он вносит все эти заслуги в бухгалтерскую книгу своей жизни и ставит рядом с графой маленькую золотую звездочку. Я предпочла бы, чтобы все это происходило без меня.
– Мне-то ты это зачем говоришь? – спрашиваю я. – Мне и так пора белые тапочки заказывать.
– Ты хочешь этого не меньше, чем я, – говорит он.
– Чего-чего я, по-твоему, хочу? Нам каюк.
– Только не говори мне, что ты против этого.
– У меня два выходных – раз в две недели. Нужна мне лишняя работа?
– Нужна.
– Ты-то почем знаешь, что мне нужно, – и так можно талдычить до утра.
Дело в том, что ни один из нас по-настоящему не верит в свою правоту – и потому мы оба не сдаемся. Когда пытаешься поверить через «не могу», спор затягивается до бесконечности. Мы знаем одно – все эти дела выеденного яйца не стоят, а значит, и победить не грех. И вообще, поражение – это больно.
– Чтоб у каждого была своя передача.
– Нет, – говорю я. И вечер испорчен, что нам обоим было известно заранее.
ОБНАЖЕННЫЕ
Я все еще боюсь мыться дома, потому что вода опасна.
– Раньше тебя это вообще не беспокоило, – говорит Стивен, когда я выливаю в раковину бутылку минералки и ополаскиваюсь. Конечно, это не мытье, а смех один: чуть облизали и еще пообещали, вдоль руки – цепочка умирающих пузырьков. И все-таки, Стивен, теперь это меня беспокоит. Любой запах, приставший к моей новой коже, заметен, точно какашка на чисто вымытом полу. И все же очищая свое тело, я всякий раз перебарщиваю: руки делаются жутко томными, костяшки пальцев покрываются ямочками, плоть становится такой нежной, что просто страх – еще немножко, и порвется.
Итак, я кладу в сумку полотенце и принимаю душ на работе, хотя тамошняя вода тоже не вызывает у меня особого доверия. Читаю имена на дверях гримерок – выбираю ту, чей хозяин, какой-нибудь ведущий новостей, приходит только после обеда. Я могла бы стать надраенной до дыр извращенкой, я могла бы за деньги водить сюда любопытных: «Экскурсия: «Душ с знаменитостями». Об эту стенку терся зад Терри Уогэн. В душевых кабинках есть что-то неопределимо-общественное. Это пустые архивы, доверху наполненные плотью, которая никогда не была показана на экране. Это умеющие держать язык за зубами, слепые, вывернутые наизнанку телевизоры. Поворачивая кран, так и ждешь, что вместо воды из него хлынут голоса.
– Кризис европейского механизма обмена валют, – говорит головка душа. – Министр сельского хозяйства заклеймил злоупотребление химическими препаратами в животноводстве, – а я вожу себе мылом по ступням, от безупречных пальчиков к нежной, удобно лежащей в ладони пятке.
– Епископ сказал «нет» анализам на СПИД.
На моей голени больше нет волос. Намыливаю белый пригорок моего бедра. Не знаю уж, откуда взялось это тело, но современным стандартам его модель явно не отвечает. Лобок тоже обезволосел.
– Прекращение огня в Белфасте, – говорит вода. У меня голый лобок.
Выходя из душа, я все еще чувствую зуд от мыла. Гримерка – кабина в порносалоне. Зеркало – развязное, слепое. С него начисто стерты все лица – известные и забытые – лица, говорившие с ним так, словно из Зазеркалья смотрит полстраны; дикторы стояли здесь голяком, заглядывали сами себе в глаза и говорили: «Добрый вечер, дорогие наши, самые дорогие друзья».
Тело, отвечающее взглядом на мой взгляд, имеет от роду девять лет, или четырнадцать, скрещенные с девятью. А может, это мое тело, перемешанное со всеми телами, в которых мне довелось жить. Интересно, может, я опять девственница. Надо бы Маркуса спросить. Он, кажется, знает, что это значит.
Итак, торчу я перед зеркалом, а в дверь начинают барабанить, и один из голосов, облеченных безусловным доверием со стороны нации, заговаривает со мной тоном, который шокировал бы эту самую нацию с полпинка. И тут я принимаю решение.
– Какого хрена вы делаете в моей гримерке?
– Я тут думаю, – говорю я. Я думаю, что брошу мыться и стану одеваться во тьме. Я думаю, что закрою мое тело на замок, как воспоминание, коим оно и является, и буду обходиться собственным потом. Я думаю, что отвоюю свое имущество. Когда я вернусь из Британи, я приведу Стивена на прослушивание.
ПРОСЛУШИВАНИЕ
С постели он встал молча; никаких песенок, никаких гэгов а-ля-Басби-Беркли с тостером и ломтиками противня. Возможно, он нервничал. Возможно, он что-то заподозрил, или соскучился, или удалился за пределы сей земной юдоли. Надо было разобраться в этом вопросе, но во мне взял верх профессионализм, и я поймала себя на том, что обращаюсь с ним, как с человеком – и к тому же редкостно тупым.
– Не волнуйся, ты станешь суперзвездой, – сказала я. – Главное, улыбочку на лицо.
Я хотела сказать: «И все помрут от восхищения», – но осеклась. Приказала ему надеть более белую из двух его белых рубашек. Застегнуть на все пуговицы и никаких галстуков. Затем я расстегнула ему верхнюю пуговку. – Идеально, – сказала я и приказала ему заправить майку в трусы, а потом – рубашку в брюки, чтобы получить в районе поясницы многослойное переплетение, этакое соединение «голубиный хвост», поскольку, пояснила я на основании своего богатого опыта, это спасает в случае заварушки.
– Нервничаешь?
– У меня нервов нет, – сказал он.
– Везет.
– У меня есть сомнения. Меня смущает неоднозначность последствий абсолютного желания.
– Тогда тебе ничего не угрожает.
Опасаясь, что Стивен стесняется появляться перед объективом, я пересказываю ему слова Фрэнка – насчет того, что он выпрыгнет прямо из кинескопа и плюхнется к зрителю на колени.
– Вот именно, – говорит Стивен. – Что случится, если я выпрыгну прямо из кинескопа и плюхнусь кому-нибудь на колени?
И это был лишь первый из его вопросов. Что случится, если он встанет перед камерой, а в видоискателе ничего не будет видно? Что случится, если его самого затянет в камеру, а в студии останется стоять электронная версия? А если правда, что камеры воруют людские души – что от него тогда останется? Куда он денется? О проблеме света тоже нельзя было забывать. Возможно, он по природе своей – ходячая передержка? Способна ли камера заснять невыразимую сущность, коей он, Стивен, всенепременно является?
Мне оставалось лишь гадать, почему, когда речь идет о съемках на телевидении, все реагируют одинаково.
– Поздно уже об этом думать, – сказала я. – И вообще, тебе положено самому все знать.
– Столько пространства, где я могу заблудиться, – сказал Стивен. – Между мной и камерой – не меньше трех футов. И что тогда?
– И тогда ты поразишь нацию в самое сердце.
– Ты знаешь, что я имею в виду, – сказал он.
Пришлось пояснять.
– Три камеры. Ясно? Ты проходишь через объективы и по проводам попадаешь в аппаратную, – сказала я, – где тебя режут в лапшу, склеивают обратно, прогоняют по двум-трем коридорам. Несколько поворотов, и ты в комнате, набитой микросхемами, которые тебя пережевывают, выплевывают, подают в эфирную аппаратную и выстреливают из передатчика.
– И? – спросил Стивен.
– И ты разлетаешься по воздуху со скоростью света. Детские игрушки. Для тебя.
– В каком смысле «разлетаюсь»? – спросил Стивен.
– Мне-то почем знать? Это волна (это частица! это волна! это частица!). Волна – только не спрашивай, что это значит. Такие волнистые черточки выскакивают из передатчика, вот и все.
– Нет.
– Нет. В реальности, в трехмерном пространстве это скорее шар с передатчиком в центре. Концентрические шары, расширяющиеся один за другим, вроде луковицы, которая взрывается без передышки.
– Проклятье, – сказал Стивен.
– Стоп, ты еще не в телевизоре, – я веселилась от души.
Пока мы ехали на работу, Стивен на переднем сиденье то втягивал голову в плечи, то вообще притворялся мертвым: ибо мы пробирались между бесчисленными кровавыми ошметками людей и картинок, которые отскакивали рикошетом от мостовой; волны вслепую ударялись в землю, отражались от машин, просачивались в тела пешеходов, переваривались в желудках коров, тонули в Дублинском заливе или, держа путь к туманности Конская Голова, делали крюк вокруг Юпитера. Но некоторым из этих волн было все-таки суждено, намотавшись на антенны, соскользнуть по кабелям в людские дома.
– Приехали, – сказала я. – Долгожданный миг славы.
– Этого-то я и боюсь, – сказал Стивен. – Внутри твоих ящиков – либо одна жалкая капля пустоты, либо вообще ничего. А если я заблужусь в этом вакууме, тогда что? А если я зависну в этой капле пустой пустоты, посреди телевизора неизвестно в чьем доме?
– Не волнуйся, – сказала я. – Тобой стреляют навылет. Ты пролетишь сквозь кинескоп, как сквозь ствол пушки.
– Только не я, – сказал Стивен.
– Наши делают это каждый день, – сказала я. – Раз – и готово. Это будешь не ТЫ. Это же сигнал.
– Ну ты и дура, – сказал Стивен. – Сигнал – это точное определение ангела.
Когда я вползаю в офис, волоча за собой Стивена, как жертвенного быка с глазами-спелыми-сливами и гирляндой на шее, никто не обращает на нас внимания. Я говорю Джо, что привела одного малого на прослушивание – она отвечает: «Ну, а здесь-то он зачем? Позвони в гостевой отдел, пускай…» и поднимает на него глаза.
– Здравствуйте, – говорит она, подметает себя веником с пола и уводит его прочь.
Я прошу Маркуса провести прослушивание в одиночку, без меня. Не хочу, дескать, смешивать частную жизнь с работой. Отлично зная, что Маркус чуть ли не подыхает от счастья, как только я выхожу из комнаты.
Телевизор в холле барахлит – совершенно лишнее подтверждение того факта, что в здании находится Стивен. Вернувшись, Джо принимается бороться со снегом на экране, пытаясь подключиться к происходящему в студии для прослушиваний. Пока я – с опозданием на день – составляю текущий график работы, она перескакивает с одного пустого экрана на другой, и сквозь все эти экраны непрерывно льется пение болгарского хора. Музыкальный клип: река течет по полу ванной… и что самое интересное, эта ванная подозрительно похожа на мою… Какие-то люди аплодируют по-американски. Церковь, в церкви корова тычется, обжигаясь, мокрым носом в свечки. Джо со смехом выворачивает ручку, регулирующую вертикальную разверстку. Экран гаснет. Мурлыча под нос, Джо принимается делать телевизору искусственное дыхание.
– Ой, – говорит она. – Знакомое место какое. Знакомое место. Я же тут родилась, – и тут из своего кабинета галопом выскакивает Люб-Вагонетка.
– Кто этот парень? – кричит она. – Давайте его сюда.
Джо сосредоточенно возится с ручками на задней стороне телевизора до тех пор, пока Люб-Вагонетка не вспоминает, что работает не в мыльной опере, а в солидной организации.
– Джо, у тебя нет под рукой телефона просмотровой? Я не прочь перемолвиться словечком с Маркусом.
Внимание Стивену не к лицу. Вернувшись с прослушивания, он проходит мимо меня, оборачивается и подмигивает, прежде чем нырнуть в открытую Люб-Вагонеткину дверь, которая захлопывается за ним с жалостным металлическим лязгом и остается на запоре сорок три с половиной минуты. Из-за двери слышится смех, смягченный деревянной панелью. Освещение то и дело меняется – начался и прошел ливень, комната съеживается и вновь расширяется. Маркус улыбается непроницаемой невесомой улыбочкой.
– Выходи за меня, Грейс, – говорит он, – и будешь жить, как у Пресвятой Девы за пазухой.
Когда дверь кабинета распахивается, Люб-Вагонетка и Стивен стоят в таких позах, словно все это время не двигались с места. Люб-Вагонетка улыбается сама себе, точно все мы ее любим и никого из нас в комнате нет.
– По первому же вашему слову, – говорит она.
– Обязательно. Спасибо, Джиллиан.
ДЖИЛЛИАН? Подняв, наконец, голову от мусорной корзинки (меня вырвало), я вижу, как Люб-Вагонетка зовет в кабинет Маркуса.
– А что, работу отменили? – спрашиваю я. – Как там планерка по дизайну? Мне надо на съемки, а постановщики дурью мучаются насчет трамплина. Художники все до одного заболели. Кто хочет в столовку?
– Минуточку, – говорит Фрэнк. Стивен без энтузиазма просматривает фотографии; Фрэнк их у него забирает и начинает тасовать, как невезучий игрок.
– И вообще, блин, нет у меня времени обедать.
– Я тебе сэндвич принесу, – говорит Фрэнк, и оба они выходят за дверь, репетируя бездарный диалог:
– Ладно, а как, по-твоему, оно будет в Нейвене на «Девицах с кобылицами»?
Спустя несколько минут я решаю их нагнать – исключительно для того, чтобы положить конец этой гребаной дурацкой, убогой фальшивке, которая считается гребаным мужским разговором.
Я нахожу их в столовке. Стивен ест яблоко. Фрэнк курит и говорит:
– Дунгарван, Франция, Диснейленд, опять Франция. А это где? Табберкьюрри, мать честная.
– А это дети? – говорит Стивен с любопытством (и я одна знаю, что оно чисто биологическое).
– Дети друзей. Вот, – говорит Фрэнк, – мать и дитя.
Жена Фрэнка лежит на кровати с новорожденным младенцем, в ночной рубашке, безбрежной, как океан. Она смеется над пожилой женщиной, которая строит ребенку нечеловеческие рожи. На шее у нее пластмассовый детский слюнявчик с изображением Утенка Дональда и совкообразным карманом внизу. Слюнявчик кажется жестким и уродливым на фоне ее нежной груди, которая из секс-объекта превратилась в нечто материнское – по крайней мере, попыталась превратиться. У пожилой женщины тоже такой вид, будто ее донимает боль.
– И ее родная мать, – говорит Фрэнк.
– Фартук, – говорит Стивен, кладет снимок на стол и берет в руки остальные. Он тасует пачку вплоть до Диснейленда, где жена Фрэнка разговаривает с Алисой в Стране Чудес. Судя по их лицам, речь идет о ценах на сосиски. Алиса в Стране Чудес, похоже, расстроена этими самыми ценами.
– Фартук, – говорит Стивен, кладет этот снимок на первый и вновь тасует, пока не доходит до барбекю в летний день. На сей раз сосиски настоящие. Жена Фрэнка стоит за грилем. Она приставила к глазу, как телескоп, пустую зеленую винную бутылку. Она смотрит через винную бутылку на солнце; нагрудник ее фартука, залитый зеленым светом, перекошен.
– Фартук, – говорит Стивен. Тут я капитулирую и иду за едой.
Когда я возвращаюсь, Стивен раскладывает фотографии по абажурам. Фрэнк остолбенел.
– На, съешь, – говорю я Стивену, подсовывая ему тарелку со слоеным куриным пирожком. – Вырастешь большой, не будешь лапшой.
– Абажур, – твердит он. – Абажур. Абажур. ДВА абажура.
– ФРЭНК? – окликаю я.
– Ладно, ладно, – говорит Фрэнк и, спохватившись, встает в очередь.
– Ну, как прошло? – спрашиваю я у Стивена. Его раскрытая ладонь по-прежнему лежит на столе, придавленная пачкой фотографий.
– Что?
– Прослушивание.
– Великолепно.
– Никаких столкновений в воздухе?
Стивен сообщает мне, что разузнал, как все устроено. Он сообщает мне, что находиться на экране невероятно больно, но поскольку это был ненастоящий он, боль куда-то делась.
– Это был ты, – говорю я.
– Но я замечательно себя чувствую.
Он чувствовал себя более, чем замечательно. В его глазах можно было много чего увидеть.
– Вот она в семьдесят девятом, – торс жены Фрэнка изящно клонится. Она нагнулась так, как сгибали свои шарнирные поясницы жены пятидесятых годов, доставая из духовок электроплит идеально подрумяненные пироги. Ее профиль загораживает глаза и нос ревущего ребенка. Малыш запечатлен в движении. Беспомощно вытянутые ручонки швыряются в потолок мусором.
– Тебе надо их ободрать, – говорит Стивен.
– Она от меня уходит, – говорит Фрэнк, ни к кому не обращаясь.
– Тебе надо их облупить, – говорит Стивен, – слой за слоем.
– Отстань от него, – говорю я.
– Ты обо мне не беспокойся, – говорит Фрэнк. Его глаза заросли мокрой кожицей слез. Как мне ему помочь, когда мое собственное тело превратилось в пустой контур? Как мне ему помочь, когда Стивен от меня уходит?
– Крепись, – говорит Стивен. – Попробуй перевернуть вверх тормашками.
Ставя фотографии с ног на голову, Фрэнк пялится на них так, словно они наконец-то обрели смысл. И верно – под всей этой колористической вакханалией скрывается тоненькая прослойка осознанных чувств. Неважно, знает женщина о его присутствии или нет – но она его хочет.
– Кого? – спрашивает Фрэнк. – Абажур?
Когда я возвращаюсь в офис, Люб-Вагонетка кротко семенит по комнате, ударяясь бедром о столы и пробегая разбросанные как попало бумаги небрежным взглядом. Маркус стоит, прижав телефонную трубку плечом к уху, потрясая пачкой листков. Именно в таком виде он снимает людей, когда хочет показать, что они «добились блестящих успехов». Иногда я подозреваю, что на том конце провода – никого.
– Он твой? – спрашивает Люб-Вагонетка своим девчачьим голосом.
– Нет, – говорю я.
– Везучая.








