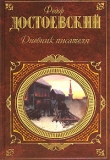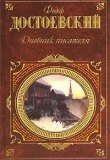Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Видишь, она поправилась,– долетел до меня отрывок разговора.
– О чём это, Danet? – тихо спросила я.
– Да была больна сильно эта Niniche… сифилисом.
Он сказал это просто и спокойно, как будто дело шло об инфлюэнце.
Что-то толстое и мягкое, как подушка, терлось около меня. Я обернулась.
Толстый низенький интерн танцевал около меня и силился обхватить. Чувство несказанного омерзения охватило меня. Но, помня обещание, данное Danet, я не смела оборвать его, и только грациозно уклонилась в сторону.
Danet подоспел ко мне на помощь.
– Римская патрицианка не привыкла к свободному обращению с ней клиентов, – комически важно произнёс он, покрывая меня своим плащом и уводя от него.
– А что, хорошо я ответил?
– Прекрасно.
Толпа понемногу редела. Его нигде не было. Я проследила все уголки залы… очевидно, он уехал давно.
Начался ужин.
Прислуга торопливо разносила приборы и мелкие картонные тарелки, и большие корзины с холодной закуской… Я сидела с Шарлем, а Danet за одним столом с большой весёлой компанией женщин и мужчин.
Одна из них, толстая блондинка, схватила Шарля. Тот совсем смутился. А женщина хохотала и обняла его ещё крепче.
Моя рука инстинктивно поднялась, чтобы защитить ребёнка от этих грязных ласк… В ту же минуту кто-то грубо сжал её, так что браслет до боли врезался в кожу…
Я обернулась. Danet со спокойным лицом, но всё более стискивая руку, прошептал на ухо:
– Оставь… забыла, где ты?
Я видела, как в нём, несмотря на всю его благовоспитанность, проснулся грубый инстинкт, который не мог допустить, чтобы женщина осмелилась заявлять о своей самостоятельности. Я молча высвободила свою руку из его железных пальцев.
Вся зала наполнилась дикими, нескладными звуками: интерны отняли у музыкантов инструменты, и делали нечто вроде выхода клоунов у Барнума {Питер Барнум – американский цирковой предприниматель.}. Это было какое-то безумие, не поддающееся описанию.
– Пойдём, пойдём, ты не должна этого видеть, Lydia, – тревожно сказал Danet. Голос его был серьёзен и глаза уже не смеялись. – Ты, наверно, устала, и Шарль тоже, он уже давно хотел уехать с бала…
Я сейчас же согласилась и, проходя по зале, всётаки, чтобы удостовериться, смотрела направо и налево – его не было.
Danet меня так же укутал и опять, как куклу, усадил в фиакр. И только очутившись у него на квартире, я почувствовала, как устала.
– Спасибо вам… вы доставили мне большое удовольствие.
– Позвольте мне ещё раз назвать вас Lydia, это так хорошо… Слушайте, зачем вы такая красивая?
Его руки обвили мою талию, и прекрасная голова наклонилась к моему лицу.
Волна каких-то новых, неизвестных доселе ощущений пробежала по мне. Я хотела вырваться из этих сильных объятий бретонца – и не могла.
Голова закружилась, я едва понимала, что со мной делается и, обняв его голову обеими руками – поцеловала… Потом оттолкнула его, заперлась на ключ и, не раздеваясь, бросилась на диван.
А сегодня консьерж поднялась с письмами к двенадцати часам, когда я, уже совсем одетая, собиралась уходить; дверь я уже отперла, и та, не ожидая найти никого в кабинете, вошла, не постучавшись, и, увидев меня, с лёгким – ах! скромно удалилась.
18 декабря.
Видела сегодня сон. Иду по дорожке сада какого-то госпиталя; полдень, жара страшная… интерны идут обедать и подходят к кассе; их много, белые блузы тянутся длинной вереницей, а среди них – вижу его. Хочу подойти и не могу: какая-то невидимая сила удерживает на месте… и чем ближе он подвигается к кассе – тем я дальше.
19 декабря, среда.
Вижу ясно, как день, что это безумие… Такая любовь губит меня и – не могу, не могу победить себя, не могу вырвать её из своего сердца. <…>
Мне кажется, что впереди стоит что-то страшное, беспощадное, тёмное, и я знаю это: это смерть…
Смерть! когда подумаешь, что рано или поздно она является исходом всякой жизни, а я – молодая, красивая, интеллигентная женщина – и не испытала её единственного верного счастья, – взаимной любви, без которой не может существовать ничто живое, мыслящее, чувствующее…
Невероятная злоба поднимается в душе, и хочется бросить бешеные проклятия – кому? чему? слепой судьбе?
Или я недостойна его?
Нет, нет и нет!
Всё моё существо говорит, что нет… Та, которую он полюбит, – не будет ни выше, ни лучше меня…
Так за что же это, за что?!!
Я стала точно инструмент, у которого все струны натянуты – вот-вот оборвутся…
Мне страшно оставаться наедине с самой собой… мне нужно общество, нужно говорить, действовать, чтобы… чтобы не думать… ни о чём не думать…
Сейчас получила письмо от Карсинского – приглашает завтра придти смотреть его мастерскую, опять будет просить позировать… что ж, не всё ли мне равно?
20 декабря, пятница.
Была у Карсинского; он показывал бюст Белинского, его маску, модель памятника.
И опять просил позировать.
– Ну, хоть для памятника Белинскому! Смотрите – какой неудачный торс у этой фигуры, которая должна венчать бюст лавровым венком! Я не мог найти хорошей модели. Если согласитесь,– я за это придам этой фигуре ваши черты лица и вы будете увековечены на первом в России памятнике нашему великому критику.
Как хорошо, что у меня так развита способность наблюдать! Я сразу увидела, что он хочет польстить моему женскому самолюбию, но я не тщеславна. И молча, отрицательно качала головой, в глубине души сама не понимая, зачем ещё продолжаю эту комедию отказа – ведь мне, в сущности, так всё безразлично.
А Карсинский точно догадался, и мягким жестом взял меня за руку.
– Ну, хорошо, не будем об этом говорить… приходите завтра, попробую начать ваш бюст, а там – увидим.
21 декабря, суббота.
Отправляясь к Карсинскому, захватила с собой костюм, в котором была на балу интернов; в нём удобно позировать для бюста, и удобно снять.
Мастерская была тепло натоплена. Карсинский в блузе, с руками, замазанными глиной, казался гораздо естественнее и лучше, нежели в салоне Кларанс.
Он работал над чьим-то бюстом, когда я постучалась.
– А, наконец-то! Я уже полчаса жду. Ну, с чего же мы начнём? Одну голову? это неинтересно, а для бюста вы должны снять свой корсаж… но лучше было бы, если бы решились позировать вся. Что вы думаете – не позировали у меня интеллигентные женщины, что ли?
– Не думаю, – сказала я.
– Вот и ошиблись! Взгляните – он показал на бюст молодой женщины с лицом необыкновенно выразительным и умным, и на большой барельеф во весь рост – св. Цецилию.
– Но ведь это – одетая.
– Да прежде надо слепить фигуру с натуры, а потом и одеть. Ведь и эта фигура – на памятнике Белинскому – неужели вы думаете, что так идёт оставлять её голой в нашем-то климате?
И нам стало смешно.
– Я должна переодеться.
– Вот ширмы.
Я сняла платье и надела тунику, распустила волосы. А когда вышла из-за ширмы, Карсинский окинул меня всю взглядом знатока.
– Для бюста надо обнажить себя до пояса, сказал он, – умелою рукою отстегивая крючок сзади. Туника спустилась с одного плеча.
Какое-то желание испытать позы, неизведанное ещё ощущение охватило меня…
Я видела, как Карсинский ждал. Незаметно отстегнула другой крючок, и туника упала, обнажив меня всю.
– Ах! – вырвалось у него… – Стойте теперь, вот так; повернитесь ещё раз; теперь выберем позу. Садитесь сюда на диван, к вам идёт что-нибудь такое, например, отчаяние…
Мне ли не знать, что такое отчаяние! При одной мысли о нём вся моя фигура и лицо сами собою выразили такое безграничное отчаяние, что скульптор в восторге вскричал:
– До чего верно вы понимаете мысль художника! Вы – неоценимая модель, вы меня вдохновляете… Ну уже и сделаю же я с вас статую! В России опять заговорят обо мне… Так и назову её – “Отчаяние”. Это будет большая работа… А пока – у меня есть ещё бюсты, которые надо кончить скорее; я начну с вас один из них… Грудь должна быть видна вся, голову слегка наклоните вправо, волосы – вот так… я назову ее “Лилия”. Как хорошо! У вас удивительное выражение лица – задумчивое такое, нежное…
Я пошла за ширмы и оделась; потом расстегнула лиф, приняла позу, какую он указал, и сеанс начался. Умелые пальцы постепенно придавали жизнь и человеческий облик бесформенной глиняной массе…
22 декабря, воскресенье.
Недели полторы тому назад получила приглашение участвовать в комиссии по устройству бала, который русское студенческое общество устраивает в первый день Нового года. В прошлом году, оказывается, был такой же бал, но тогда мой адрес, как только что прибывшей, был ещё неизвестен обществу. Я не была на первом заседании и сегодня получила вторичное приглашение.
Теперь я ухватилась за него: мне положительно было невыносимо оставаться наедине с самой собою и книгами. Заседание продолжалось около трёх часов; я спорила, горячилась, доказывала, хотя, право, мало смыслила, в чём дело.
Будучи на курсах, я была слишком занята, чтобы принимать участие в подготовительных хлопотах каких бы то ни было вечеров; а тут сразу надо было постигнуть всю премудрость организации этой подготовительной работы.
Мне поручили продавать билеты; дали список адресов, – что-то много, около тридцати, надо всех обегать и продать.
Во время заседания один за другим являлись члены первой комиссии с неутешительными известиями – кто совсем не продал билетов, кто на 30 франков, кто на двадцать.
– Господа, да что же это? ведь мы в прошлом году начали вечер с тремястами франков, а нынче и ста-то нет! Откуда же взять деньги на расход? – в отчаянии вскричал председатель. – Где список адресов? где самый главный, у кого?
– У Соболевой, она отказывается ехать.
– Слушайте, как же так? Список-то, по крайней мере, возвращён ею?
– Кому же ехать?
– Да вот новый член, Дьяконова, она в первом заседании не участвовала, так пусть теперь поработает, – протянул мне список один из студентов.
Я взяла список и обещалась сделать всё, что могу.
– Уж вы постарайтесь, а то на вас последняя надежда. Хорошо. Постараюсь. Если ни на что больше не годна – хоть билеты продам. И никакие лестницы, этажи и расстояния теперь не пугают меня…
23 декабря, понедельник.
Устала смертельно. Бегала с девяти утра до девяти вечера.
24 декабря.
То же самое. Поднималась и спускалась по этажам из квартиры в квартиру. Квартиры в Елисейских полях и скромные комнатки Латинского квартала. Безумная роскошь обстановки – в одних, скрытая бедность – в других. Какое богатое поле для наблюдений, какой материал для романиста! Только я-то не сумею воспользоваться всем этим. <…>
26 декабря, четверг.
Ещё день беготни, – и завтра сдаю отчёт. Последние десять адресов.
Из-за всей этой беготни – еле-еле успеваю позировать скульптору. Бюст подвигается быстро.
Сестра Надя прислала неожиданно сорок рублей, полученные по переводу. Вот прекрасно! Сошью себе на них русский костюм, благо, шёлк здесь дёшев!
Сошью голубой шёлковый сарафан, кокошник вышью в одну ночь… и рисунок есть – из Румянцевского музея давно взят. <…>
27 декабря, пятница.
Сдала отчёт. Привезла около полутораста франков. Теперь будет с чем начать вечер.
Я никого не знаю из этих господ, но один из присутствующих подошёл и отрекомендовался Самуиловым, “поэт по профессии”. Я с любопытством посмотрела на этого субъекта – еврейский тип, неряшлив, в общем – ничего особенного; голова – с претензией на Надсоновскую, но несравненно хуже её…
И так как я спешила домой, то он предложил свои услуги проводить меня. Я не боюсь ходить одна, но из вежливости – не отказала. <…>
– Не хотите ли зайти напиться чаю?
– С удовольствием.
За чаем, в качестве поэта, он повел атаку быстро. Заявил, что давно интересуется мной, что я – очень хороша собой и т.д. и т.д… <…>
– Ведь вы только по внешности кажетесь спокойной, а на деле у вас душа такая… бродящая, по глазам видно.
Он расположился было целовать мне руки, но я отдёрнула их. Этот нахальный субъект был мне противен.
28 декабря, суббота. Оказывается, сегодня получила по почте ещё десять франков за билеты. Надо было отдать их секретарю. Пошла в русский ресторан, – там, кажется, его можно всегда застать до 12 часов.
Я там никогда не бывала; и на минуту русский говор ошеломил меня: как будто в Россию попала.
За завтраком моим соседом был магистрант Юрьевского университета, высокий блондин с длинным носом и голубыми глазами. Он долго говорил мне о преимуществах мужчины, стараясь доказать его превосходство над нами…
– Да… женщины вообще неспособны к философии, к научному творчеству, они лишь скорее усваивают, чувствуют тоньше, а наш брат – грубоват. Но в области науки, в области философского мышления укажите мне женщину, которая создала бы своё, новое?
“Гм-м… много ли ты сам-то можешь создать своего, нового”, – подумала я, но не решилась сказать, боясь обидеть его мужское самолюбие. И отвечала вслух:
– Женщин, таких как есть, нельзя судить, как вы судите. Мы, половина рода человеческого, тысячелетиями были поставлены в такие условия, в каких мы могли развивать только свои низкие качества. <…>
Учёный не пытался, по-видимому, возражать, и вскоре, увлечённый своими мыслями, заговорил о нации.
– По-моему, государственность и религия необходимы, необходимы; в русском народе есть этакий христианский дух, которого я не замечаю здесь. Как сказал Гексли {Томас Генри Гексли (1825—1895), английский биолог, пропагандист учения Ч. Дарвина.}: люди, проповедующие: “возлюби ближнего своего, яко сам себе” {“Книга Левит (19: 18), также Евангелие от Матфея (22: 39) и Евангелие от Марка (12: 31).}, в жизни рады друг другу горло перерезать; а люди, убеждённые, что человек произошёл от обезьяны, и материалисты, в жизни следуют принципу – “положи душу свою за други своя” {Евангелие от Иоанна (15: 13).}.
– Так вы убеждены в том, что и у вас есть христианский дух?
– Убеждён.
– Ну, а как же связать с этим противоречие ваших собственных слов: вы ведь против того, чтобы женщинам давали права. А между тем, в Евангелии сказано: “возлюби ближнего своего, яко сам себе”. Без различия пола. И вот, согласно этому принципу, каждое человеческое существо должно иметь одинаковое право на жизнь, на существование, тогда как при настоящем положении дела женщина должна жить, не имея равных с мужчинами прав. И если вы признаёте это законным, естественным и восстаёте против её освобождения – какой же это христианский дух? Где тут любовь к ближнему?
Мой собеседник окончательно смутился, не находя выхода из собственных противоречий. И после неловкого молчания вдруг заговорил о себе…
– Я тороплюсь уехать из Парижа. Заниматься здесь неудобно; Национальная библиотека открыта только до 4 часов, книги приходится покупать… А характер французский – это наружная вежливость, а внутри – homo homini lupus {Человек человеку волк (лат.) – афоризм из комедии Плавта “Ослы”.}… Немцы откровеннее и сердечнее; с нетерпением жду, скоро ли буду в маленьком немецком городке.
“Книгоед!” – подумала я.
– Робок я очень, знаете ли, – продолжал магистрант, – да и нет у меня в голове этой… архитектоники.
– И слога? – спросила я.
– Н-нет… насчет слога я, знаете ли, стараюсь… а вот нет у меня архитектоники, построения, плана книги… и не знаю просто, как быть.
“Да, не знаешь, как быть, оттого, что у тебя нет научного гения, творческой жилки”, – подумала я, глядя на его ограниченное лицо. Нельзя высиживать из себя насильно книги.
После завтрака к нему подошел поэт Самуилов; начался спор, не возбуждавший моего внимания. И всётаки, несмотря на всю разницу моих взглядов, – учёный был для меня симпатичнее этого самоуверенного нахального субъекта, горячо толковавшего о политике…
– Ах, не говорите вы этого слова “режим”, – с гримасой прервала я его речь. – И видно сейчас, что вы – не русский человек. Надо говорить “образ правления”.
– Ну вот ещё! – небрежно возразил он. Я вспыхнула.
– Я, как чисто русский человек, стою за систему своего родного языка, а вы, русские евреи – с удивительною лёгкостью вводите в нашу речь иностранные слова. У вас нет этого чутья, чистоты русской речи, к которой мы привыкли с детства; вам не коробят слух эти выражения, – с негодованием воскликнула я.
– Да я и не русский писатель, а еврейский.
– Ну и пишите по-еврейски, к чему писать на чужом для вас языке.
– Позвольте, да разве можно запретить кому бы то ни было писать по-русски, раз я хочу этого? Я настолько хорошо знаю русский язык, смею сказать, что, быть может, буду блестящим стилистом.
“Недавно сказал, что Максима Горького испортят восхваления критики, – а сам себя ещё до всяких критик возвёл уже в блестящие стилисты, – эх ты, бахвал!” – с пренебрежением подумала я.
…И все мои симпатии были на стороне соотечественника, забитого, робкого, но смиренного. Эта добродетель смирения – великая вещь.
Вечером я сошла к Кларанс. Она была одна. Я просила её проанализировать его почерк {Речь идет о Е. Ленселе.}. <…>
– Человек этот много страдал, и вследствие этого создал себе такой характер искусственно; он очень сдержан, очень скрытен.
– Не находите ли вы, что эти сжатые строчки указывают на любовь к деньгам? – спросила я.
– О, да. Я только что хотела это вам сказать. Но им можно управлять, если вы будете знать его слабые стороны. В общем – хороший характер.
“Напрасно, значит, назвали его иезуитом, он вовсе не так плох на деле…”, – радовалась я.
Но всётаки – разве достаточно анализа почерка? <…>
1902 год
1 января, среда.
Вот и Новый Год. Здесь обычай рассылать поздравительные карточки в этот день. Как была бы я счастлива получить один узенький лист бристольской бумаги {Сорт высококачественной бумаги, плотной, с шероховатой поверхностью.}, – один из тех, который когда-то видела у него на столе. Но… ведь он даже не считает меня за знакомую, конечно, не пришлёт. <…>
4 января, суббота.
Неожиданно узнала, что любители из русских, живущих здесь, ставят “Дядю Ваню” {Пьеса А. Чехова, написанная в 1897-м; первая постановка осуществлена в МХТ, в 1899 году.}. Я так мало имею сношений с русскими, что решительно ничего не знаю, что у них делается. “Дядю Ваню” я еще не видала…
Что за пьеса! что за впечатление!
Говорят, пьеса эта для нас скучна: в провинции жизнь такая же, и со сцены пьеса кажется невыразимо скучной. Но здесь, на ярком, пёстром фоне парижской жизни – эта картина русской жизни выделялась так резко, производила такое сильное впечатление. Казалось,
*** Возможно, запись от 4 января делалась в два приёма, и последующее написано после просмотра спектакля.
вся зала, все зрители переживали одно чувство. И настроение, о котором столько было споров, – можно или нельзя ставить его на сцене – это настроение так и сообщалось зрителю…
И казалось мне, что я среди парижского веселья, шума расслышала один звук, проникший прямо в сердце – голос с родины, отзвук её жизни. <…>
7 января, вторник.
Когда я оделась в светло-голубой сарафан, кокошник, и белая фата спустилась сзади до полу, – я невольно засмотрелась на себя в зеркало…
Что, если бы я пришла к нему в этом костюме, опустилась бы перед ним на колени – устоял ли бы он против моей мольбы? Неужели его сердце не тронулось бы?
Какой-то тайный голос шепчет: попробуй, иди… Что ж? Завлекать его своею внешностью, что ли? Того, который знает лучшее, чем эта внешность, – мою душу…
Я вся блестела холодным блеском, как снег и лёд моей родины.
Когда сегодня принесли сарафан, Кларанс просила непременно сойти показаться. Я знала, что опять встречу у неё то же общество… Оно дает мне забвение, туда я убегаю от себя самой – и как магнит какой-то тянул меня в эту беспорядочную среду художников, литераторов, артистов, где все живут надеждами и любовью, – в эту атмосферу бесшабашного веселья.
И я уже так привыкла к этому обществу, что сама смеюсь, кокетничаю, выучилась даже вставлять скабрезные намёки, что возбуждает общий смех. Точно пьющий ребенок в кружке пьяниц… Им надо что-нибудь острое, всем этим пресыщенным людям, и они видят во мне свежее, ещё не заражённое их атмосферою существо, забавляются мной, как приятной игрушкой… а я ищу забвения…
Общий крик восторга приветствовал моё появление среди них…
Но сейчас еду на бал… И там, наверное, найду забвение…
8 января, среда.
Половина девятого. Только что вернулась с бала. Полный успех. Торговала больше всех {Вероятно, билетиками лотереи-аллегри.}; комплименты так и сыпались; поклонники окружили меня. К чему мне всё это?
Однако, холодно, хотя и топится камин. Простудилась я, должно быть, – в коридоре был сквозняк. <…>
9 января, четверг.
Мне хуже… Должно быть, инфлюэнца. На душе целый ад. И теперь уже не буду обращаться к нему… нет.
.
14 января, вторник.
Три дня пролежала в постели, – стало лучше. <…> Пошлю ему телеграмму с оплаченным ответом: можно ли принять Valer. d’ammoniaque? Из гордости я не хотела больше обращаться к нему. И когда увидела себя вынужденной сделать это – писать petit bleu {Городская телеграмма, писавшаяся на голубом бланке.} – рука моя дрожала…
15 января, среда.
Ответа не получила; что же это значит? <…>
16 января, четверг.
Только сегодня в два часа увидела серый конверт со знакомым почерком. На элегантной серой карточке я читала:
“Мадмуазель.
Я не мог вовремя прочитать Вашу телеграмму, так как не был в Бусико ни в понедельник, ни во вторник и получил её только сегодня. Если Вам необходимо срочно переговорить со мной, прошу зайти завтра, в четверг, с пяти до шести часов вечера.
С лучшими чувствами,
Е.Ленселе.
Среда, 15 января”.
И внизу адрес: 5, Rue Brezin… Идти или не идти? Но одна мысль, что я увижу его, войдя в этот дом, мимо которого столько раз проходила – решила вопрос…
Я получила это письмо, когда отправлялась в Брока. Там мадмуазель Анжела сказала:
– Вы ведь уже давно не виделись с мсье Ленселе?
– Пожалуй, впрочем, не помню, – отвечала я равнодушно.
– Он вернётся к нам в мае… к доктору Дроку. Он станет заведующим лабораторией и заменит доктора Дюрбаля, который уходит в клинику “Больные дети”. <…>
Вернувшись домой, я быстро приготовила туалет в комнате хозяйки. Она с удовольствием помогала мне, восхищаясь мной в чёрном костюме.
– Вы стали совсем парижанка. <…>
Я возвратилась к себе в комнату. Ещё рано; не надо приходить точно в пять, лучше позже, а то он подумает, что я очень спешила. И, сидя против часов, я стала ждать… Как медленно движется стрелка! Я беру книгу и с нетерпением читаю несколько страниц…
Уже пять часов! Я набросила пелерину и быстро вышла.
Со странным чувством поднималась я по лестнице. Каждая ступенька, каждый шаг приближал меня к нему. Ведь он ежедневно проходит по этой лестнице… Пятый этаж, и в рабочем квартале. Очевидно, он сын мелкого чиновника, что называется “petit bourgeois” {}, из семьи, где годовой бюджет рассчитан до последнего сантима… <…>
Он отворил сам.
В комнате топилась печка; у окна на большом круглом столе лежали книги, склянка с клеем, корректурные листы.
– Садитесь. Извините, но я положительно не мог прочесть вашей телеграммы. Разобрать в ней что-нибудь было невозможно; по-видимому, вы не отдавали себе отчёта, что пишете… <…>
– Я просила вас ответить, – можно ли принимать эти капли каждый раз, как усиливается головная боль?
Он прочёл.
– Но это лекарство не производит моментального действия, это невозможно… Вы не беспокойтесь. Не надо так нервничать. Верно говорят: славяне – очень нервный народ. Я и раньше имел случаи в этом убедиться. Но во всех случаях Вам вовсе – ещё раз повторяю – не надо так нервничать. Послушайте, что такое случилось за то время, что я Вас не видел?
Я, наконец, овладела собой и едва слышно сказала:
– Извините, что я пришла к вам сюда… Я не хотела больше обращаться к вам, потому что теперь это было бы слишком унизительно для меня. Каждый раз, когда я прихожу к вам – вы сами, без всякой просьбы с моей стороны говорите, что я могу обращаться к вам. <…>
– Извините, действительно, я был слишком небрежен к Вам. Но дело здесь вовсе не в моём отношении к Вам. Просто меня позвал приятель, приехавший из провинции, ему только что сделали небольшую операцию, и я не мог не поехать к нему, – сказал он равнодушно. <…> – Ну, расскажите же, что с вами случилось за это время, пока я вас не видел?
– Вы не искренни со мной, мсье, – не отвечая на вопрос, сказала я.
– Но почему? <…>
– Случайно услыхала разговор, – клянусь вам, я не искала его слышать. Я беседовала в обществе двух особ, мужчин или женщин – я не скажу. И вот одна из них говорит: “Он был с Ленселе, знаете этого иезуита?” А другая ей отвечает: “Ну, да …” – Я тотчас ушла, я не могла это слушать. – Мой голос задрожал, и по щекам покатились слёзы. – А потом, через несколько времени, я встретила одну из них и спрашиваю: “Отчего вы назвали его иезуитом?” – “Потому что он нечестный человек, невозможно доверять его словам”. И тогда я вспомнила, что действительно, вы обещаете и не исполняете ваших слов… И вот почему я не могла говорить с вами…
Я не смотрела на его лицо…
– Мадмуазель… возможно, это были люди, которым я причинил зло… мне глубоко безразлично, что они думают обо мне, я их презираю. Но если Вам встретятся мои друзья, они скажут обо мне совсем иное… <…> К тому же Вы не можете сказать, что я был с Вами неискренен. Мы столько с Вами общались, что Вы и сами можете составить мнение о моём отношении к Вам. Да, мне доводилось иногда говорить Вам неприятные вещи. Но всё это было без всякой задней мысли. Моё поведение по отношению к Вам…
И я вдруг невольно быстро прервала его:
– Да, мсье, Вы безупречны, но тут ведь дело и во мне. Я не уверена, что Ваше поведение не изменилось бы, если бы я приходила к Вам, напудрившись, в шёлковом белье розового цвета…
– Почему вы думаете, что моё поведение было бы совсем другое? – поспешно прервал он.
– Потому что… было бы другое… Я знаю, что Вы не прочь подразвлечься.
– Кто Вам сказал, что я любитель подразвлечься?
– Никто, мсье… но вы, мужчины, все на один манер…
– И женщины тоже. Вы ничем не лучше нас. Более того – женщины гораздо развращённее мужчин. И гораздо хитрее. А так как женщины, как правило, ещё и гораздо глупее, то они и стоят гораздо ниже мужчин.
Всё это он проговорил быстро, не останавливаясь, точно торопясь высказать свою мысль. Глаза его вспыхнули, и с минуту мы смотрели друг на друга как два врага.
Страшная усталость охватила меня…
– Ну, я не буду вам противоречить: думайте, что хотите, – машинально ответила я… <…>
А он, как будто успокоившись, взял лист бумаги.
– Я дам вам лекарство, облатки – и быстро начал писать, покрывая бумагу своим мелким, бисерным почерком. Я сидела молча и смотрела на его правильно очерченную голову с прямым профилем.
– Вот, это вы будете принимать в течение десяти дней, а потом – микстуру, а после десяти дней вы приходите…
– О, нет, нет, мсье, я больше не приду, – быстро прервала я его. Мне стало уже невыносимо слышать его слова… эти лживые слова… – Да, я не приду больше. Зачем? ведь у вас нет времени. Вы должны сдавать свои экзамены….
– Экзамены? Но для интернов они ничего не значат, это – пустая формальность. Я занят другой работой… Вот… Он взял огромный толстый том, раскрыл его и показал свою фамилию среди многих других.
“Dermatologie” – прочла я заглавие крупными чёрными буквами.
– И ещё это,– добавил он, взяв со стола корректуру… Подав руку, я простилась. Он проводил меня до дверей.
И, уходя, я почувствовала, что не увижу его больше никогда… никогда.
И медленно сошла я с лестницы, и пошла по avenue d’Orleans, с наслаждением вдыхая свежий вечерний воздух.
Если б он знал – сколько раз тихой летней ночью проходила я мимо его дома… если б он знал, если б он знал!
17 января, пятница.
На меня нашло какое-то отупение. Страдание дошло до высшей точки, и дальше идти некуда.
Я люблю человека чуждых убеждений, которому непонятны самые дорогие, самые заветные мои убеждения… люблю француза, с извращённым взглядом на женщину.
18 января, суббота.
Если нет сил для жизни – надо умереть. Нельзя занимать место в этом мире, которое с большей пользою могут занять другие.
19 января, воскресенье.
Когда стрелка подошла к часу, – я машинально пошла в Брока. Мне стоило страшного усилия, чтобы разговаривать спокойно с мадам Делавинь. Потом прошла к Анжеле. И та, болтая обо всех новостях, происшедших в госпитале, сказала:
– А между прочим, знаете? Месье Ленселе женится на родственнице доктора Д., на племяннице его жены. Очень хорошенькая, воспитывалась в монастыре. Очень его любит и ревнива страшно. Уже и теперь забрала его в руки… Теперь он далеко пойдёт!..
Я досидела до конца приёмного часа. И пошла домой.
На душе вдруг стало как-то покойно…
Что-то умерло во мне… Да я сама больше не живая.
Я прожила на свете целую четверть века и ещё два года… срок достаточно долгий для такого бесполезного существа.
Сколько ошибок сделала я в жизни! И кажется мне, что вся моя жизнь была одной сплошной ошибкой, бессмысленной загадкой, которую пора, наконец, разрешить.
Я и решаю… раз навсегда…
Кто пожалеет меня?
Те немногие интеллигенты, которых я знала. Но они, вечно занятые “принципиальными вопросами” или собственной личной жизнью, – никогда глубоко не поинтересовались моею душою, моим внутренним миром… Они не поймут и осудят… осудят беспощадным судом теоретиков, которые всё стараются подвести под определённые рамки.
Семья? Да разве она есть у меня? О матери и говорить нечего… Братья? Здоровые, жизнерадостные, ограниченные юноши, для которых я была как бельмо на глазу… Валя? У неё двое детей – залог будущего, источник радостей, надежд и печалей, который скоро изгладит следы горя.
Меня пожалеют разве только бабушка, тётя и бедная забитая Надя.
Надя будет горько плакать над моей могилой, и никогда не поймёт, отчего это Лиза, которой, кажется, дано было всё, чего она хотела – и на курсах была, и за границу поехала, и вела такую самостоятельную жизнь, – отчего это Лиза вдруг покончила с собой… Бедная, милая сестра! авось, она выйдет замуж, и в новой жизни – скорее забудет меня. А бабушка – милая, наивная старушка! Она вместе с тётей будет с ужасом молиться об упокоении моей “грешной души”, и, наверно, обе будут глубоко убеждены, что, не поступи я на курсы, – всё было бы иначе, что всё это последствия курсов…
Да ещё искренно пожалеет обо мне бедный Андрэ. Мне жаль его, я всётаки любила его… немножко… и его любовь доставила мне несколько хороших минут в этой жизни… Спасибо ему!
А Кларанс? она будет рассказывать своим друзьям убеждённым тоном, что я возвращусь в этот мир в другом виде, и, пожалуй, увидит меня на дворе… <…>
Всё готово. Письма написаны.
Я отворила окно. Стоит холодная зимняя ночь. Как хорошо, как тихо кругом. И страшно мне кажется, что завтра в это время я уже не буду существовать. Страшно… Чего я боюсь? Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата…