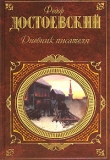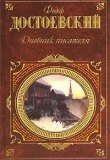Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
– Вы хотите посвятить свою жизнь защите интересов женщины? Хорошо. Так вот и сосредоточьте ваши силы и постарайтесь овладеть собою, чтобы потом быть в состоянии работать.
– Но я не могу, не могу… у меня нет сил, эта беспрерывная головная боль измучила меня совершенно… Лучше умереть… И голос мой дрогнул и оборвался.
– Voyons… Выкиньте эти мысли из головы, успокойтесь.
Но ужасное воспоминание снова, как призрак, встало предо мною, и я сказала, рыдая:
– Но… если вы… в своей жизни сделали ошибку… разбили жизнь человека… что тогда?
– Что вы сделали? Какую ошибку? скажите мне… вы смело можете довериться врачу…
– Не спрашивайте меня об этом, я не скажу… не могу… <…>
Как ни была я взволнована, – всё же мне показалось, что в его тоне прозвучало что-то холодное: этим вопросом, точно анатомическим ножом – он хотел вскрыть мою душу…
И, вся охваченная тяжёлыми воспоминаниями, я зарыдала, и всё былое встало с такой же ясностью, как будто это случилось вчера.
– Скажите, скажите мне, мадмуазель, – настойчиво повторял он.
Голова у меня закружилась…
– Ну, да, ошибка! и за эту ошибку отдана жизнь моей сестры! слушайте, слушайте, мсье… Это было шесть лет тому назад. Мы были так молоды, совсем ещё дети… Мы сироты, отца у нас нет, мать-деспотка – держала нас взаперти, мы совсем не знали мужского общества. Он давал уроки братьям и влюбился в мою младшую сестру… Та сначала его не любила… Тогда он устроил целую драму: признался мне в любви, а потом написал сестре письмо, что он солгал, что он клеветал на себя нарочно, с отчаяния, что он с ума сходит от любви к ней… Я так была занята мыслью поступить на курсы, читала, занималась целыми днями, только и ждала совершеннолетия, чтобы уехать в Петербург; сестре тоже хотелось учиться, а она на два года моложе меня… Так он притворился, что сочувствует нам… обещал сестре отпустить её на курсы, только бы она согласилась выйти за него замуж… Я вообразила, что он и в самом деле может помочь сестре, стала содействовать их браку, помогала сестре переписываться, – мать не хотела из деспотизма, из каприза… она не допускала, чтобы у нас была своя воля.
И вот сестра вышла за него… И тотчас же после свадьбы он изменил свою тактику. Ему не к чему было больше притворяться. С первых же дней сестра была беременна. Она такая бесхарактерная; он стал убеждать её, что теперь нечего и думать о курсах, – что я фантазёрка и учусь совершенно напрасно. Вместо того чтобы ехать жить в Петербург – взял место в N… так и пошла жизнь сестры в узком домашнем быту… Теперь сестра не говорит мне прямо, что несчастлива с ним, но и не перестает упрекать меня в содействии её браку. А я разве в то время не была так же наивна и неопытна, как она? разве я больше её знала мужчин? У меня романов никаких не было… я только и мечтала о курсах…
Я совсем задыхалась от рыданий. Казалось – сердце разорвётся от боли… о, если бы я могла умереть!
В комнате было тихо – только мерно тикали часы…
Он заговорил:
– И вас так угнетает сознание своей ошибки?.. Но ведь вы сделали её невольно… вы сами говорите, что были неопытны и мало видали людей. Да и так ли несчастна ваша сестра, как вам кажется? Есть у неё дети?
– Да, две дочери…
– Значит, есть и утешение… И, если бы она была действительно очень несчастна, – наверное, оставила бы мужа. Но, раз живёт с ним, – значит, всётаки находит в нём что-нибудь такое, что привязывает её к нему… И притом, очевидно, у неё не было такого твердого и определённого стремления к знанию, как у вас.
– Это правда… она всегда больше говорила, чем делала…
– Ну вот… вы вовсе не так виноваты перед своей сестрой, как думаете… А если она упрекает вас за то, что способствовали её браку, видя и зная, как вы страдаете, как мучаетесь сознанием своей ошибки, – это уже прямо жестоко с её стороны… Скажу более: неблагородно… лежачего не бьют.
Он говорил твёрдо, с убеждением… И от тона, каким он произносил эти слова, – мне становилось легче на душе… А он продолжал:
– Вы должны теперь сосредоточить всё своё внимание на том, что можете сделать для других. Старайтесь восстановить свои силы, чтобы работать с пользою…
И замолчал.
Мне показалось, что он искоса, бегло взглянул на часы. Я встала. Было ровно полдень: священный час для всех французов – завтрак.
– Повторяю, – успокойтесь и не мучьте себя… Это и напрасно, и бесполезно… Я уже доказал вам, что вы вовсе не так виноваты, как вам кажется.
Он проводил меня до ворот и повторил, прощаясь:
– Если что понадобится, – обращайтесь ко мне… я всегда к вашим услугам.
8 февраля.
Если бы меня спросили, для чего я живу и как живу, – я бы не нашлась, что ответить. Разве это жизнь?
Влачить своё существование с трудом, медленно, точно одряхлевшая старуха… Я ещё так молода, а между тем жизни нет, сил нет.
Страшная тоска сжимает сердце, полное отвращение ко всему… Передо мной лежат Карл Маркс, Nietzsche – “Also Sprach Zaratustra” {Ницше, “Так говорил Заратустра” (нем.).}, – и я не могу прочесть ни одной строчки, – руки бессильно опускаются, книга падает… Точно со мной делается нравственный прогрессивный паралич.
21 февраля.
Бабушка умерла…
Я пишу с трудом. Это несчастие окончательно сломило меня… Бабушка умерла… и уже в могиле, а я узнала об её смерти только вчера. Шла мимо почтового отделения, по обыкновению, зашла и спросила: нет ли писем. Смотрю, вынимают из клеточки одно письмо, другое, третье. Я не избалована перепиской, и тут обрадовалась – вдруг целых четыре письма! Один из них был билет с черной траурной рамкой. “Кто бы это умер?” – равнодушно подумала я, недоумевая, какой смысл извещать меня таким способом о смерти дальних родственников, – разве нельзя в письме сообщить, а на похороны всё равно не поспею… Развернула, читаю…
Бабушка умерла!
Моя милая бабушка, которую я так любила, нет уж её больше!
Мне вдруг показалось, что это чья-то дикая, нелепая шутка, нарочно послали этот билет на похороны, а на самом деле неправда, не может быть… Ведь телеграммы не было… Разорвала конверт с почерком брата Володи: тот писал, что бабушка скончалась 1-го февраля, что мне посылали телеграмму…
– Где телеграмма на моё имя?! – бросилась я к решетке.
– Разве вы не видите, что здесь есть пришедшие раньше вас? ждите своей очереди! – резко крикнула из-за решётки служащая.
Я опомнилась и отошла к стене… и потом уже в очередь справилась, – никакой телеграммы не было получено. Значит, не дошла. Придя к себе, заперлась на ключ, перечитала все письма о внезапной смерти бабушки, о телеграмме, в которой брат перепутал адрес, цифры, – и она не дошла.
Бабушка умерла! <…>
28 февраля.
Целую неделю пролежала в постели.
Сегодня пришла знакомая американка, с которой я постоянно встречалась па лекциях в Сорбонне, и потащила меня гулять.
– У вас бабушка умерла? старая?
– Да.
– И вы так огорчены, что были больны! Да ведь должны же умирать старые люди… ведь это же закон природы… Полноте, вам надо развлечься, пойдёмте погулять…
И она потащила меня на шумную, весёлую улицу Риволи!
Шум экипажей мешал разговаривать, толпа утомляюще действовала на меня.
– Вы устали? – спросила мисс Джесси. – Зайдёмте отдохнуть в кафе. Я знаю, тут есть одно очень хорошее. Спросим кофе.
И прежде, нежели я успела что-нибудь сообразить, – очутилась в кафе-концерт, где с эстрады гремел оркестр в красных фраках.
Мисс Джесси выбрала место на виду, поближе к эстраде и что-то заказала себе и мне.
Раздались звуки весёлого опереточного вальса… И под его звуки мне вдруг представилось далекое кладбище родного города, на котором под снежным холмиком успокоилась вечным сном дорогая старушка… и присутствие моё в этом кафе показалось какой-то чудовищной профанацией моего чувства к памяти покойной… Рыдания подступили к горлу.
– Мисс Джесси… извините, я оставлю вас… я уйду… не могу…
– Отчего же? – искренно удивилась американка. – Отчего вам здесь не остаться? Неужели из-за того, что недавно потеряли бабушку? Но ведь она же была стара… Вот тоже вы траур одели… У нас в Америке только муж носит траур по жене… Странные обычаи на континенте… – недоумевала мисс Джесси.
– Извините, я пойду домой…
Американка пожала плечами. – Ну, если это так против ваших чувств,– так, конечно, идите…
И она принялась за кофе, а я, торопливо пробираясь между столами, – почти бегом выбежала на улицу…
9 марта.
Получила письмо из дому. Оказывается, бабушка написала духовное завещание и назначила меня душеприказчицей. Практичная сестра Надя уже справилась у адвоката. За утверждение завещания по доверенности он спросил ни с чем не сообразную цену – двести пятьдесят рублей. А ведь ещё неизвестно, сколько придётся на долю каждого из нас: бабушка была очень небогата…
“Приезжай лучше на сороковой день и сделай всё сама. Тебе вся поездка обойдётся дешевле, чем нам платить N.”, – пишет сестра. Она права. Обойдётся дешевле, и нам, братьям и сестрам, не придётся платить ни гроша…
Но… ехать опять туда, в семью, опять в эту ужасную обстановку, которая мне всю душу измотала.
Опять видеть мать… Какой ужас!
Я не могу… не могу.
Один взгляд на календарь – так немного осталось дней до отъезда.
Нет, не могу, не могу… Что же мне делать, что же мне делать?
13 марта.
До сих пор не решилась написать ответ домой. Дать уж лучше доверенность, пусть сделают всётаки без меня…
И не исполнить самой последней воли дорогого человека… Бабушка, значит, надеялась на меня, а я-то откажусь… Поеду завтра в Сальпетриер.
14 марта.
И поехала. Та же важная сиделка сообщила, что его тут уж больше нет, он переведён в новый госпиталь Бусико.
Я вспомнила, что читала в газетах об его открытии первого марта.
Сиделка любезно рассказала, как туда ехать. От моста Аустерлица до моста Мирабо – больше часу пришлось ехать по Сене.
Улица тиха и пустынна. Точно не в Париже. От набережной до госпиталя расстояние довольно значительное.
В новом здании всё блестело чистотою: и ложа консьержа, и двери, и стёкла, и каменные плиты коридора. Внутри, среди сада, были разбросаны небольшие кирпичные павильоны, а вдали – на колонне – виднелся белый мраморный бюст госпожи Бусико, <…> на средства которой выстроен этот госпиталь.
– Мсье Ленселе?
– Второй павильон направо.
Я вошла в небольшой коридор и села на деревянную скамейку. Длинная траурная вуаль, спускаясь на лицо, – по здешнему обычаю, – закрывала меня всю.
– Вам кого? – спросил какой-то субъект в больничном костюме. И на мой ответ услужливо сказал: “Сейчас, сейчас…”. И исчез.
Под гнётом самых тяжёлых мыслей я сидела, опустив голову и не глядя никуда…
– Добрый день, мадмуазель… как Вы себя чувствуете? Вы потеряли кого-то из близких? – с участием спросил меня знакомый голос. Я встала.
– Да, мсье.
– Вы не могли бы чуть-чуть подождать? Я тотчас к Вам вернусь.
– Да, мсье.
Ему, очевидно, надо было кончить обход палат… Через четверть часа он вернулся.
– Что случилось? Кто у вас умер? – спросил он, жестом приглашая меня следовать за ним.
– Бабушка. Я назначена душеприказчицей по духовному завещанию, и надо ехать…
– Она и Вам что-нибудь оставила? – спросил он, отворяя дверь.
Подобный вопрос покоробил меня, как ни была я расстроена.
А для него, очевидно, это было так просто и естественно – задать подобный вопрос.
– Мне об этом ничего неизвестно, – ответила я тоном полнейшего безразличия.
– Пойдёмте за мною наверх… по каменной лестнице.
И там всё так же блестело, – стены коридора, двери, их ручки. Он отворил одну из комнат, где стояла только складная кровать, в углу сложенный матрац. Очевидно, только что отстроенный госпиталь был ещё не весь окончательно устроен. Он пододвинул мой стул, сам сел на подоконник.
– Вы были больны?
– Когда получила письмо с этим известием…
– Вы потеряли сознание?
– Не помню, что со мною было…
– И с тех пор вы чувствуете себя хуже?
– Мне надо ехать в Россию, – сказала я, из всех сил стараясь овладеть собой и говорить внятно. Но это не удалось, рыдания подступили к горлу, и я замолчала.
– Не можете? почему?
– Опять быть там… в своей семье… я не могу. Не знаю, что делать.
– Послушайте, мадмуазель, что я могу сделать для Вас? Вы свободны сегодня вечером? В восемь часов?
– Да, мсье.
– Приходите сюда. <…>
Я поехала к себе домой. И ровно в восемь часов была уже на бульваре Пор-Рояль. Трамвай Сен-Жермен де Пре был переполнен. Пришлось ждать. На этот раз ехала недолго, – сравнительно с пароходом – минут через двадцать была уже на улице Лекурб. <…>
Дверь открыла горничная, такая же чистенькая, свеженькая, как и весь госпиталь.
– Мсье Ленселе?
– Он сейчас выйдет.
И действительно, он тотчас же вошёл в коридор.
– Добрый вечер, мадмуазель. Пойдёмте за мной.
Я пошла за ним по тёмному коридору; он отворил дверь, нажал в стене одну электрическую кнопку, другую… мягкий свет лампочек под зелеными абажурами озарил небольшую комнату со светлыми обоями и мебелью из жёлтого дерева. Два стола с книгами – вдоль стены и посредине комнаты. Неизбежный armoire a glace {Зеркальный шкаф (франц.).}, к которому я до сих пор не могу привыкнуть – он всё кажется мне принадлежностью дамской спальни, а уж никак не комнаты мужчины. А тут ещё был и туалетный столик, тоже с зеркалом.
Топился камин.
– Садитесь здесь, – сказал он, подвигая кресло к огню, а сам стал подкладывать дрова в камин.
Я села, держась, по обыкновению, чрезвычайно прямо, в длинном траурном платье, длинная креповая вуаль, спускаясь на лицо, скрывала совершенно и его выражение и следы слёз. Мне стало вдруг как-то хорошо… Не хотелось ни двигаться, ни говорить. Эта светлая уютная комната, кругом тишина. Дрова весело трещали в камине, и приятная теплота разливалась по всему телу… Я точно отдыхала после какого-то длинного, трудного пути и молчала, неподвижно сидя в кресле. И мне не хотелось отвечать на его вопрос.
– Итак, вы опять расстроены и не знаете, что делать?
– Не могу я ехать… слишком ужасно… дома… там… опять… Мой голос был спокоен и ровен. Или я очень устала, или просто нервы упали – не знаю.
– Вам необходимо ехать?
– Да, я назначена душеприказчицей по духовному завещанию. Я так люблю бабушку, надо исполнить её последнюю волю, а всётаки не могу решиться – как вспомню, что ждёт там меня.
Я чувствовала себя в эту минуту такой слабой, бессильной, и мне стало стыдно и захотелось сказать ему, что я не всегда была такая.
– Вы не думайте, впрочем, что я перед ними показываю такую слабость. Я из гордости всегда скрываю ото всех свои страдания, всегда притворяюсь весёлой и оживлённой… но зато эта комедия отнимает у меня последние силы.
Он помолчал несколько времени, как бы соображая что-то.
– Ну что же, отправляйтесь в Россию и делайте, что велит Вам долг, – сказал он вдруг повелительным, не допускавшим возражения тоном.
Я удивилась, но не рассердилась. Мне даже было приятно, что он так говорит. Я, никому ещё не подчинявшаяся, – чувствовала, что послушаюсь его… И мне было приятно это послушание как контраст, как нечто новое, до сих пор чуждое моей самостоятельной натуре…
– И знаете ли, что я вам скажу, мадмуазель, – какая-то грустная нотка послышалась в его голосе. – В Евангелии прекрасно сказано: “violenti rapiunt illud” {А diebus autem Iohannis Baptistae usque nunc regnum caelorum vim patitur et violenti rapiunt illud (Vulgatae, Matthew.ll:12); в русском переводе: “От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его” (Матфей, 11:12).}… то есть, это удел сильных. Надо уметь бороться и многое выносить в этой жизни. Будьте добры с людьми, не показывайте им своего страдания… они всё равно не поймут вас. – Я дам вам ещё один совет – выходите замуж. Вы слишком одиноки. Мужчина не может жить один, а женщина тем более…
– Выйти замуж! – вскричала я, возмущённая таким неожиданным советом.
– Почему бы и нет? Мужчина – вовсе не враг. Совместная жизнь с положительным человеком облегчит вас: общие интересы, взаимная поддержка много значит в этой жизни. И, когда вы встретите такого человека, который понравится вам, – будьте осторожны, не говорите ему, что вы его любите, а ждите, пока он сам вам скажет. Надо быть осторожной…
– Я не хочу замуж, – упрямо возразила я.
– Напрасно. Так лучше для вас. Повторяю, вы не созданы, чтобы жить одна… Вы где предполагаете жить по окончании курса? остаться здесь или в России?
– Конечно, в России.
– Так вот, и не надо вам терять связи с родиной. Непременно поезжайте… быть может, там вы встретите подходящего человека. Не падайте духом, будьте спокойны, горды перед людьми. Когда вернётесь, приходите ко мне сказать, как себя чувствуете.
Я взглянула на часы: стрелка подходила к половине одиннадцатого.
– Мне пора ехать… Благодарю вас… Я… поеду в Россию.
Он проводил меня до ворот и, проходя мимо ложи консьержа, крикнул:
– До свидания! Счастливого пути!
Дверь отворилась и закрылась за мною. Я пошла по тихой, пустынной улице успокоенная и немного озадаченная его неожиданным советом. Выйти замуж!
Как это ни странно может казаться, но я об этом ни разу не думала. Выйти замуж! Это значит полюбить. И одно новое соображение впервые пришло мне в голову: а ведь, в самом деле, – я ещё никогда никого не любила, и меня ещё никто никогда не любил…
Некогда было.
До совершеннолетия я была так занята одною мыслию – поступить на курсы, вечной борьбой с матерью, отстаивая каждый свой шаг от её самодурства и деспотизма, тщетно стараясь развивать сестёр, направить детские умы братьев к учению. А потом – там на курсах – так была поглощена наукой, книгами, занятиями, занятиями без конца… Выработка миросозерцания, беспрерывные размышления и слёзы с товарками: “зачем живём, как надо жить”, умственная жизнь Петербурга – после провинции, казалось, била ключом и захватывала своим потоком… Было ли тут время думать о любви?
А тут ещё брак сестры. Это тихая, невидимая для посторонних глаз семейная драма, одной из причин которой была я, – внушили мне такое недоверие, такую злобу к сильной половине рода человеческого, что я на курсах и не старалась попадать в студенческие кружки. Под гнётом сознания своей ошибки я с головой ушла в книги, стараясь забыться. Книги, написанные мужчинами, – составляли моё избранное мужское общество, да несколько товарок – женское. И я удивлялась только – как другие влюбляются, выходят замуж, кокетничают, увлекаются…
Вот была охота! Да стоят ли мужчины того, чтобы мы кокетничали с ними, увлекали их, старались нравиться? И когда другие удивлялись на меня – я удивлялась на них и пожимала плечами. И вдруг такой совет…
Однако, поздно! А завтра надо рано вставать и начать собираться…
17 марта.
Все эти дни бегала, разнося обратно книги, данные для прочтения, собиралась… и ещё надо было занять сто франков на дорогу – денег не хватало.
Нерехта, 24 / 11 марта.
Первые лучи мартовского солнца начинали согревать Париж, когда я выехала из него. Двое суток на скором поезде, и я въехала в бесконечные снежные равнины моей родины…
Здравствуй, милая, дорогая, любимая! Впервые в жизни я так надолго рассталась с ней… и радость опять видеть родные места заставляла забывать, что меня в них ждало…
Как хорош весенний воздух…
Холодный, свежий – он проникает в самую глубину легких и, кажется, освежает, оживляет всё существо… Снег блестит на солнце, какая прелесть! Этого не увидишь за границей… Кое-где проталины… Я радовалась всему – даже грязи на улице…
Я проехала прямо в Нерехту, на могилу бабушки… В сенях нашего большого дома бросилась ко мне на шею верная Саша.
Она с плачем рассказала о последних днях жизни и смерти старушки, с которой прожила неразлучно двадцать восемь лет, и мы вместе отправились на кладбище. Рядом с могилой тёти высился небольшой холмик, покрытый снегом… вот все, что осталось от бабушки.
Не нравятся мне парижские кладбища, в них каменные памятники поставлены тесно, точно дома: настоящий город мертвых, – нечто холодное и жуткое.
Нет природы – деревьев, травы, приволья, которое так идёт к месту вечного покоя и придаёт столько поэзии нашим провинциальным кладбищам.
Тут нет ни богатых памятников, ни роскошных цветников, ни красивых решёток… Зато трава и полевые цветы одинаково покрывают могилы богатых и бедных… и покосившиеся деревянные кресты придают какое-то своеобразное выражение общему виду пейзажа.
И каждый раз, как я вхожу на кладбище, атмосфера мира и покоя охватывает душу. Кругом, около церкви – родные могилы. Там дедушка, там прадедушка, там тётя, там двоюродные дяди. И здесь в родной обстановке – среди тех, кого она знала при жизни, – нашла себе вечный покой и бабушка…
Приехала сестра {Надежда Дьяконова.}. Она, кажется, была рада увидеться со мной. Рассказала обо всём, завещание у неё в Ярославле.
– И знаешь ли что, Лиза, – мы в сундуке нашли на три тысячи ренты. А по завещанию надо сделать вклады в две церкви, в богадельню и Саше, – в общем, как раз тысячи две с половиной, все остальное – нам. Расписки на вклад в Государственный Банк у меня хранятся. Так вот, ты подай завещание на утверждение, а из этих денег и сделай тотчас же все вклады – так скорее будет.
Я могла только согласиться с этим практическим советом. <…>
25/12 марта.
Справляли сороковой день. <…> Когда все родные разъехались, – я прошлась по опустелым комнатам большого дома. Саша торжественно вручила мне ключи от комода и сундуков: эти шесть недель всё было под замком и ни одна вещь не передвинута со своего места, пока душа покойной, по их понятиям, обитала в доме. Мы стали разбирать бумаги и вещи. Завтра еду в Ярославль.
Ярославль 26/13 марта.
Я хотела остановиться в гостинице, но бабушка, теперь уже единственная, которая у меня остаётся – не пустила и оставила у себя.
Я совершенно не понимаю любви к родителям. Отца – не помню, – а мать… зачем она не умерла, когда мы были маленькими?
Лучше остаться круглой сиротой, чем иметь мать, которой даны по закону все права над детьми, но не дано нам никаких гарантий от её деспотизма.
Бедные дети, бедные маленькие мученики взрослых тиранов!
Но мое детское сердце так жаждало любви, привязанности, ласки… И я любила бабушку с отцовской стороны – за то, что она была несчастна, бабушку с материнской – за то, что она своею ласкою и участливым словом, как лучом, согревала мое безотрадное существование.
Теперь – она одна у меня осталась. И, бросившись перед ней на колени, я целовала её руки, её платье.
– Бабушка, милая, здравствуйте!
– Лиза, матушка, наконец-то приехала! – Мы обнимались, целовались без конца.
Растроганная старушка плакала от умиления и чуть было не отправилась в церковь служить молебен…
– Что же ты теперь, делом будешь заниматься? – спросила бабушка, когда мы обе, наконец, сели за самовар.
– Делами, бабушка. Вот сделаю всё и уеду опять за границу, экзамен сдавать.
– А на лето приедешь, – на вакации?
– А деньги где? ведь дорога-то не дешева… теперь уж до будущего года.
Бабушка вздохнула.
– Ну и то хорошо, что хоть теперь ты здесь! Хоть посмотрю я на тебя! Ишь ты какая стала нарядная, хорошенькая… платья-то уж больно хорошо в Париже шьют, не по-нашему работают…
И бабушка долго качала головой, со вниманием рассматривая настрочки из крепа на корсаже моего траурного платья, купленного по самой дешевой цене в Bon Marche. При виде настоящего парижского платья она вся проникалась почтительным удивлением. И я невольно рассмеялась и крепко её поцеловала.
Пришла Надя и принесла завещание и расписки.
– Что ж ты с мамой-то не повидаешься? – нерешительно спросила бабушка.
– Лиза, приходи,– тихо сказала сестра.
Я видела, что им страшно хочется, чтобы я побывала дома. И поэтому ответила: “Что же, зайду… Хоть я и отрезанный ломоть, но, если хотите, – отчего же?”
Лица сестры и бабушки прояснились. Обе они, в сущности, дрожали перед железной волей матери: бабушка всю жизнь её побаивается, а о несчастной Наде и говорить нечего – робкая от природы, она до того забита, что у неё нет собственной жизни, ни дум, ни желаний, и вместо энергии у неё капризы, с которыми она готова всегда нападать на того, кого не боится. И теперь они обе были довольны, что я согласилась.
– Какая ни есть, а всётаки мать, всётаки повидаешься, – примиряющим тоном произнесла бабушка.
– И кажется, она хочет просить тебя съездить в Извольск к Саше, он что-то опять поссорился со своим воспитателем; так вот разберёшь их, – сказала Надя.
– А ты сама… не сможешь туда съездить?
– Я-то в Извольск?! да что ты, Лиза, – сказала Надя тоном, в котором ясно выражался страх при одной мысли – как это она поедет в Извольск, чтобы там вести самостоятельные переговоры с воспитателем брата. Возражать была бесполезно. Я вздохнула.
– Хорошо. Приду. Только не сегодня… завтра.
27/14 марта.
Всё было по-старому в этой квартире, из которой я буквально убежала на курсы. Ни одна мебель не передвинута, ни одна лампа не переставлена; только прислуга новая: кухарки и горничные не могут уживаться с таким характером.
Я вошла в спальню – это была когда-то моя комнатка, вся оклеенная светлыми обоями, с белыми кружевными занавесками и цветами на окнах, весёлая и ясная, как майское утро. У меня мороз пробежал по коже, когда я переступила порог этой комнаты, где столько пролито было слёз в годы ранней молодости, где в ответ на слова: “я хочу поступить на курсы” – слышала: “будь публичной девкой!”, и от звонкой пощёчины искры сыпались из глаз.
– Терпите, терпите…– слышался кругом благоговейный шепот родни, преклонявшейся пред силой родительской власти… – Христос терпел и нам велел…
Нет, – не всё же терпеть!
Прошло время, выросла воля, высохли слёзы… и я, в день совершеннолетия, ушла из этого дома с тем, чтобы более туда не возвращаться…
Теперь комната была обезображена тяжёлыми тёмными занавесками на окнах; загромождена безвкусной мягкой мебелью, обитой полинявшим от времени кретоном. Хорошо знакомый мне низенький шкафчик, битком набитый лекарствами, стоял у постели и на нём по-прежнему – свежая склянка из аптеки Шнейдера…
Мать сидела на диване. Она слегка приподнялась при моём входе.
– Здравствуйте, ю-рист-ка, – с насмешкой протянула она, по привычке протягивая руку для поцелуя.
Я смотрела на неё.
За эти пять месяцев болезнь сделала своё дело: организм истощился ещё больше, кожа на лице слегка сморщилась и пожелтела, уши стали прозрачнее. И вся эта фигура – худая, вся закутанная в тёплые шали – представляла что-то жалкое, – обречённое на медленное умирание…
Сердце болезненно сжалось и замерло… Мне стало жаль эту женщину, жаль, как всякого больного, которого я увидела бы в больнице… Но зная, как она боится смерти, я сделала над собой усилие, чтобы ничем не выдать своего волнения.
– Здравствуйте, – тихо ответила я, целуя пожелтевшую худую руку, и села напротив. – Как ваше здоровье?
– Ни-че-го… Как ты живешь в Париже?
– Хорошо.
– Приехала делами заниматься после бабушки?
– Да.
– Когда уедешь?
– Не знаю ещё… там видно будет, как всё устрою.
Воцарилось молчание. Нам больше не о чем было говорить друг с другом.
– Постой. Ты должна съездить в Извольск. Там Александр опять что-то с воспитателем напутал… Экий мерзавец, – вторую гимназию меняет и всё не может ужиться, – проговорила мать. <…>
– Хорошо. Съезжу. До свиданья.
Вечером бабушка помогла мне разобрать вещи и приготовить что нужно для небольшой поездки.
Ярославль, 30/17 марта.
Ох, как устала. Точно не двести верст по железной дороге проехала, а прошла тысячу пешком. И как скверно на душе. Когда думаешь – какая масса усилий и денег тратится на образование всяких умственных убожеств и ничтожеств потому, что они родились от состоятельных родителей; с какой бы пользой для страны могли быть употреблены они иначе!
Когда извозчик повёз меня с вокзала в гимназию, дорогой он выболтал все новости города Извольска вообще и гимназии в частности.
– Сказывали, инспектор новый, – из Питера… ве-ежливый такой… подтянет, говорят, распустил, знать, старый-то гимназистов больно.
Я с тревогой соображала, поладит ли мой братец со столичным педагогом и имеют ли какие-нибудь отношения его неприятности с воспитателем, у которого он помещён на пансион, с новым инспектором… Старый, тот, который был тому два года назад, когда я переводила брата в эту гимназию, был человек простой и недалёкий. Теперь этот… да ещё из Питера… как-то надо будет с ним говорить? Чего придерживаться?
Извозчик подъехал к гимназии. Я поднялась по лестнице в приёмную. Служитель пошёл “доложить” инспектору. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге показался человек среднего роста в золотых очках и форменном вицмундире щеголеватого, столичного покроя. Лицо его с высоким покатым лбом, прямым, выдвинутым вперёд носом, тонкими поджатыми губами, так и дышало той своеобразной неутомимой педагогической энергией, которая выражается в умении “следить” и “подтягивать”. Его глаза, казалось, видели насквозь всё существо ученика и даже его ум и сердце.
“Поладит ли с таким наш Шурка?” – мелькнула у меня в голове тревожная мысль.
И, стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, я грациозно поклонилась, улыбнулась.
Чиновный педагог, видя хорошо одетую молодую даму в трауре, да ещё приезжую, не захотел ударить лицом в грязь.
Он тоже приятно улыбнулся, поклонился с утончённой любезностью, придвинул кресло.
– Чем могу служить?
– Я сестра воспитанника вашей гимназии… Он переведён сюда два года назад. У него вышли неприятности с воспитателем. Мать наша очень больна и послала меня узнать, в чём дело.
Улыбка бесконечного снисхождения промелькнула на губах педагога.
– И вы из-за этого приехали сюда? о, помилуйте, стоило ли беспокоиться!
– Но брат писал такие письма… мы перепугались…
Он улыбнулся ещё ласковее и снисходительнее: чего, мол, вы там перепугались… Это просто так, ничего, не бойтесь…
– Да-да, есть грешки за вашим братцем. Знаю я его историю… Впрочем, его поведение и учение теперь стало несравненно лучше. Все эти четверти у него за поведение “пять”. “Пять”, – повторил он многозначительно и с ударением.
– Можно надеяться, что он кончит курс? <…>
– Это теперь вполне от него зависит: если дело будет обстоять так же, как теперь, – кончит, если нет – пусть на себя пеняет. Вы думаете, легко справляться с подобными натурами?
“Да что вы делаете, чтобы справляться с ними?” – хотелось мне поставить вопрос прямо и откровенно, но зная, как строго охраняются тайны чиновно-педагогической лаборатории, благоразумно удержалась. И поэтому сочувственно поддакнула:
– О, да, – я вас вполне понимаю.
Это польстило инспектору.
– Поговорите с Никаноровым. Что у него вышло с вашим братом, – мне неизвестно, только можете быть спокойны, на его перевод в седьмой класс это не будет иметь влияния. Частные отношения воспитателей с воспитанниками вне стен гимназии нас не касаются, – проговорил он тоном великодушного благородства и посмотрел на меня, как бы желая узнать – в состоянии ли я понять и оценить эту свежую струю новых воззрений, привезённых из столицы в провинциальное болото.