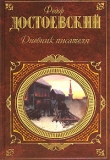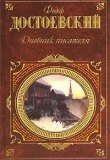Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
15 октября, вторник.
Одна только мысль – как бы увидеться с ним.
Но как? Притвориться больной и позвать его к себе – но я не умею притворяться. Пойти к нему самой, опять как будто бы у меня начались головные боли – я так не привыкла лгать… Как быть? Надо придумать.
А времени не теряю. Для изучения французского языка записалась во Franco-English Guild, занятия начались сегодня. Побывала и в секретариате своего факультета; там мне сообщили, что нынешний год подали прошение о приёме четверо русских.
Прекрасно! Значит, идея носится в воздухе, если мы, в разных концах России, приходим к одной и той же мысли… Начало лекций ещё через месяц…
18 октября, пятница.
Неприятный сюрприз! Оказывается, хозяйка сдала салон – и ещё кому – консерваторке, с пианино! Эта новость меня поразила, как громом. Вот тебе и раз!
Когда моя русская соседка почти одновременно со мной взяла пианино, я была не очень довольна. Нанимая комнату, я предварительно осведомилась, нет ли инструментов – я не могу заниматься при музыке. Оказалось, что нет. Но мы условились с русской, что она будет играть тогда, когда меня не бывает дома, я – когда её нет… Но с третьим пианино, да ещё с консерваторкой, в пяти комнатах – это уже совсем неудобно, и я прихожу в ужас при мысли, что только будет?!
Консерваторка! это слово для меня, как жупел для купчихи Островского; ведь это беспощадные гаммы и упражнения по шести часов подряд. Здесь было так хорошо, покойно, и вдруг – пианино! Вот тебе и квартира исключительно с жилицами… Три пианино – этого не могло бы быть, если бы жили студенты. Проклятое женское воспитание, – и к чему только музыке учат?!
19 октября, суббота.
Пробовала урезонить хозяйку – не сдавать комнаты этой девице, обещала ей рекомендовать какую-нибудь жилицу – напрасно: консерваторка уже дала задаток и переехала сегодня, а к шести часам водворилось и третье пианино… Я сразу искренно возненавидела нашу новую жилицу – немецкую еврейку с типичным носом и лицом, обсыпанным пудрой.
21 октября, понедельник.
Мне надо было писать перевод с русского на французский, консерваторка стала упражняться. Я пробовала сосредоточиться, несмотря ни на что, и настойчиво искала слово в словаре и старалась составить фразу… напрасно! Фраза не шла на ум, несмотря на усилия воли; в ушах звучала беспрерывная, точно барабанная дробь, гамма упражнений.
Голова тяжелела… вдруг острая, резкая боль пронизала висок, я невольно ахнула и в отчаянии отбросила книгу и словарь…
Голова болит весь вечер, заниматься нет возможности: консерваторка знай дубасит то гаммы, то этюды…
Но странное чувство радости охватило меня: ведь теперь я могу обратиться к нему! и это будет правда; я сейчас же написала ему:
“Мсье,
Не будете ли Вы так любезны назначить мне день, в который я смогла бы зайти в Бусико. С признательностью…”
24 октября, четверг.
Вчера получила ответ:
“Мадмуазель. Если Вам будет удобно зайти в четверг в два часа дня, мы сможем переговорить о Вашем здоровье.
Преданный Вам Е.Ленселе”.
И сегодня в два часа поехала в Бусико.
При дневном свете лестница показалась мне грязной, также и библиотека, куда ввела меня горничная, поражала общим небрежным видом… Можно было удивляться, как в новом госпитале всё так быстро теряет чистоту.
Волнение от сознания того, что я сейчас его увижу, отнимало у меня все силы. Я сидела неподвижно у стола, опустив голову и глаза, чтобы не выдать себя, увидя, как он войдёт…
– Здравствуйте, мадмуазель, как Ваши дела? – слова эти, как музыка, прозвучали около меня. И я едва могла ответить:
– Мне очень плохо, мсье.
– Опять головные боли? – спросил он, садясь к столу, против меня. – Ну, рассказывайте, что случилось с вами с тех пор, как я вас не видел?
Я рассказала ему о влиянии музыки на мои занятия.
– Но этому очень легко помочь! стоит только переменить квартиру! – и его серьёзное лицо на минуту осветилось ласковой, доброй улыбкой.
– Но мне жаль оставить эту комнату… там так хорошо и удобно. И потом – что же это будет, если при всяком подобном случае будет болеть голова? Чем так страдать от нервов – лучше смерть, чем такая жизнь.
– Вы не имеете права…
– Нет, перебила я, – теперь есть уже другие юристки, кроме меня, на первый курс нынче поступают четверо… Они будут работать во всяком случае лучше меня и принесут больше пользы. Значит…
– Значит, вы не даёте мне высказать[ся], – спокойно возразил он. – Я хотел сказать, что вы не имеете нравственного права распоряжаться своею жизнью. Каждый ответствен за себя. Другие будут работать на этом поприще – прекрасно, но у вас, быть может, есть способности, которыми они не обладают. И вы должны развивать их и стараться быть полезной, сами лично.
Я сидела и слушала слова, которые пробуждали во мне что-то хорошее, какую-то веру в себя; его голос звучал так ласково, так гармонично, и весь он со своим серьёзным лицом, прекрасными голубыми глазами казался мне существом лучше, выше всех, кого я когда-либо знала.
– Ну, а как теперь ваше настроение?
Он меня спрашивал об этом! Страдание, острое, как лезвие ножа, охватило меня всю… Ведь этот человек, которого я так люблю, – не любит меня. И, несмотря на всё самообладание, глухое рыдание вырвалось у меня, и я отвернулась.
– Значит, вы находитесь по-прежнему в угнетённом состоянии? Послушайте… Надо же быть мужественною. Помните одно библейское изречение: violenti rapiunt illud {См. запись от 14 марта 1901 г.}… Что же делать, если жизнь так устроена; она тяжела – согласен… я сам не хотел бы иметь детей. Но раз мы уже родились, то наш долг стараться делать всё возможно лучше и совершенствоваться самим.
Он вздохнул, подвинул к себе чернильницу и взял лист бумаги.
– Я дам вам лекарство… Boт, Valeriane d’ammoniaque de Pierlot {Валериана с нашатырем от Пьерло.}. Принимайте ежедневно три раза чайную ложку в полстакане сахарной воды. Когда кончите – приходите сюда. И если вы думаете, что я могу служить вам нравственной опорой – всегда сделаю всё, что в моих силах…
Он проводил меня до дверей и я ушла… почти счастливая тем, что опять могу увидеть его.
25 октября, пятница.
Мой товарищ Андрэ Бертье вернулся с вакации. Тотчас же побежал в пансион, где я жила весной, узнал мой настоящий адрес… и сидел в моей комнате весь сияющий, счастливый…
– Я с ума сходил от отчаяния, не видя вас! так долго тянулись эти вакации, так долго! И какая вы жестокая! отчего не писали мне? отчего не ответили мне на моё последнее письмо?
Я с трудом припоминала… да, ведь это правда, – он писал, и я, кажется, один раз ему написала, после этой истории с немцем; потом, – право, не до того было.
Я хотела так и ответить ему шутя, но при взгляде на его лицо запнулась. Столько искренней любви, столько преданности было в этих больших чёрных глазах, во всём выражении его красивого юношеского лица.
Вот что значит вместе готовиться к экзаменам по утрам! Мне стало жаль бедного Андрэ. И я сочинила какую-то историю, из которой он мог ясно понять, что невозможно было ответить ему, что в Лондоне решительно теряешь голову.
Он успокоился и смотрел на меня, блаженно улыбаясь, пока я приготовляла чай… и, уходя, – робко, почтительно поцеловал мне руку… Что мне с ним делать?
27 октября, воскресенье.
Лавочка Мерсье в Villa Medicis служит справочным бюро для её обитателей, я беру у них молоко.
Сегодня спустилась туда, рассказала о своём несчастном положении и о трёх пианино, чем и вызвала живейшее сочувствие лавочника и его жены. И они тотчас же сообщили мне, что сдаются две комнаты в двух зданиях; одна в квартире, другая комната – в семье {Квартиры – нечто вроде студенческих общежитий, нанимались несколькими учащимися.} О счастье! Одна жилица – и нет другого пианино! Уже одно это заставляло снять комнату, не раздумывая долго и даже не видав её…
Я оделась получше, наученная горьким опытом, во всё время переговоров не переставала любезно улыбаться, – и хозяйка, которая сдавала салон и не хотела взять менее 40 франков, что мне было дорого, – сбавила два:
– Вы так очаровательны, мадмуазель, что мне хотелось бы, чтобы Вы снимали у меня комнату.
Я с торжеством вернулась и заявила madame Oiachet, что переезжаю из-за трёх пианино. Хитрая старуха притворилась, будто она тут не при чём и потребовала было платы за две недели. Но я храбро пригрозила ей довести дело до мирового судьи – за неисполнение условий тишины и спокойствия – она струсила и замолчала. <…>
30 октября, среда.
Понемногу переношу свои вещи к madame Tessier. Бертье вызвался помогать, и у меня не хватило духа отказать ему в этом удовольствии. <…>
4 ноября, понедельник.
Устроилась в новой квартире. Кажется, мои хозяева славные старички – офицер в отставке с женой и тёща, дряхлая восьмидесятилетняя старушка. Трогательно видеть, в каком мире и согласии живут они. Хозяйке моей шестьдесят четыре года, но на вид нельзя дать более сорока пяти: так она свежа, а главное, молода душой.
Я только удивляюсь, как у нас быстро старятся все безразлично – мужчины и женщины, – и как долго они сохраняют молодость здесь! И видно, что эта любовь к молодости служит преобладающей чертой характера хозяйки.
– Первое, что старится у женщины, – это шея, – сообщила она мне деловым тоном в первый же вечер. Я с трудом удержалась от смеха и вежливо выслушала такое интересное сведение.
Положим, она употребляет косметику: подводит брови, мажет губы, пудрится. Сначала с непривычки мне казалось это странным, и я готова была осудить её. Но она такая добрая, и такая живая, с широкими взглядами… Я ещё не верю своей удаче: да неужели же и впрямь попала к порядочным людям?
И как трудолюбива эта французская женщина! С утра она занимается хозяйством: сама прибирает комнаты, готовит завтрак; потом одевается, причёсывается и, видя изящную парижанку, трудно поверить, что какой-нибудь час тому назад она в капоте, с засученными рукавами, прибирала комнаты, мыла посуду, словом, – была и горничной и кухаркой. При всём этом она наблюдательна, остроумна и обладает каким-то неиссякаемым источником молодости души. Приходится сознаться, что в среднем – мы, русские женщины, – такими достоинствами не обладаем.
У нас одно из двух: или интеллигентная женщина – и тогда почти не занимается хозяйством, или же – мать семейства, хозяйка, опустившаяся, преждевременно состарившаяся, небрежно одетая и причёсанная, вечно на кухне, вечно сердитая и в хлопотах. <…>
И чем объяснить, что у нас так быстро все старятся? Должно быть, климат такой…
Кажется, и я понравилась старикам. Моя любезность, мой внешний вид – безукоризненно изящный туалет, модная причёска, быстрая и легкая походка – очаровали madame Tessier, и она не перестаёт говорить мне комплименты.
– Какой у вас чудный цвет лица! И как вы хорошо одеваетесь, с каким вкусом… точно парижанка, право, – говорила она, глядя на мои платья, когда я разбиралась в своих вещах.
Я уверила её, что не трачу много денег на платья, что привезла из России кое-какие старые вещи и только переделала их здесь. Madame Tessier с видом знатока качала головой:
– Во всяком случае, вы отлично справляетесь со своим туалетом. А вот я так ленива стала. В прошлом году купила пеньюар – и она притащила из cabinet de toilette светло-голубой пеньюар с белой вставкой.
Мне надо было сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться, но бесконечное добродушие, с каким madame Tessier рассказывала о своем пеньюаре, уничтожало в корне всякую насмешку… <…>
Я иногда сама на себя досадую, зачем так скоро усвоила эту французскую внешнюю любезность. То ли дело англичане: те всюду возят с собой свои привычки, не подчиняясь ничьим обычаям. А мы – наоборот: ничего, кажется, кроме чаю, да и то без самовара, с собой не привозим. С удивительной легкостью и быстротой схватываем чуждое произношение, с готовностью подчиняемся чуждым обычаям.
Пресловутая славянская гибкость натуры! Не в этом ли причина нашей слабости – что мы недостаточно тверды сами в себе?
7 ноября, четверг.
Сегодня ровно две недели, как я видела его… впредь увижу опять. О, какое это чудное время, между двумя днями, когда вся живёшь воспоминаниями о прошедшем и надеждой на будущее!
Я не думаю о том, что будет дальше. Я закрываю глаза на будущее, оно слишком страшно, чтобы думать о нём…
Мне так хорошо теперь… Я – здесь, вблизи от него и скоро увижу его…
9 ноября, суббота.
Вчера пригласила madame Tessier пить чай. <…>
Она рассказала о соседях, но не о всех, а только о выдающихся – их ведь так много, что и знать трудно.
Напротив нас, оказалось, живёт французская женщина-адвокат Жанна Шовэн, – под ней в прошлом году жила романистка Marcel Finayre, а внизу, в нашем доме – как раз под нами – тоже писательница Кларанс.
И madame Tessier знает её лично и бывает у неё.
– Это преинтересная особа. У неё вторники, собираются: артисты, писатели. Я, конечно, стара для этого общества и воспитана была иначе, но все-таки люблю иногда сойти к ней. Там так весело, и мне приятно смотреть на эту молодежь. И сама Кларанс очень милая девушка. Конечно, эта среда артистов и писателей очень свободная, но – не моё дело, как она живёт, я знаю только, что это очень симпатичная молодая особа.
Madame Tessier, при её возрасте и воспитании – уже не разприятно удивляла меня своими широкими терпимыми взглядами, хотя бы самому передовому интеллигенту впору. – И у ней бывает ваш соотечественник, скульптор Карзи… Карей… какие трудные эти русские имена… вот – вспомнила – Karsinsky. Я рассказала, что сдала комнату русской студентке, и он тотчас же спросил: “красивая она?”
– Он мог бы и не спрашивать, – заметила я, задетая бесцеремонным тоном этого вопроса за глаза.
Но для madame Tessier, как для француженки, вопрос этот был вполне естествен.
– Отчего же не спросить? Я ответила: “Ваша землячка, господин Карсинский, весьма, весьма мила. Ему очень интересно познакомиться. И Кларанс тоже говорила: “вы её приведите ко мне”. Если хотите, я познакомлю вас с ней. Вам будет интересно”.
Я с удовольствием согласилась и спросила, – что же пишет эта Кларанс, какие романы?
– Знаете ли, я нахожу их немного слишком… вольными… для женщины… Есть у меня один её том, если хотите, я дам вам прочесть, только…
И madame Tessier запнулась. Я рассмеялась и стала уверять её, что она всётаки с предрассудками, что нравственность должна быть одна для обоих полов, и отчего же женщине и не написать более или менее “вольного романа”, когда мужчины на практике проделывают ежедневно то же?
Но madame Tessier на этот раз стояла на своём: “Вы не читали, вот сначала прочтите”.
И она принесла мне небольшой томик “Passions terribles” {“Ужасные страсти” (франц.).}.
О, какое забористое заглавие! посмотрим, что это за роман!
10 ноября, воскресенье.
Сегодня написала ему письмо… Если бы он мог между этими сухими краткими строчками увидеть всю бездну страдания моего сердца, всё моё горе, всё моё отчаяние…
11 ноября, понедельник.
Пробежала роман Кларанс. Действительно, права madame Tessier, с той только разницей, что писать такие романы одинаково “чересчур” и для женщины, и для мужчины. Это был такой откровенно-сладострастный роман, какого я никогда ещё не читывала. Тут были и “гибкие тела”, и “шелковистые ткани”, и “надушенные юбки”, и “оргия ночи”, и “le sang chaud de la luxure” {Жаркая кровь сладострастия.}… Смелая и откровенная фантазия, но без таланта Золя… <…>
12 ноября, вторник.
Madame Tessier после завтрака предупредила меня, что сегодня в пять часов мы сойдём вниз к Кларанс. <…>
Мы позвонили. Отворилась дверь, и в полумраке прихожей мелькнуло бледное красивое молодое лицо; маленькая тонкая фигурка – хромая – отошла, чтобы дать нам войти.
– А, это вы, madame Tessier? и с своей новой жилицей? Очень, очень рада, – быстро сказала она, протягивая руку. – Проходите, пожалуйста, в гостиную… И она, затворив входную дверь, отдёрнула портьеру.
В небольшой уютной комнате ярко горел камин, и кругом на стульях сидело несколько мужчин и одна, уже немолодая, дама.
– Дорогая мадмуазель Кларанс, разрешите представить вам мадмуазель Дьяконову, – представила меня хозяйка. <…>
Кларанс была действительно очень интересная особа, начиная с внешности. Короткие чёрные завитые волосы обрамляли её бледное лицо с правильными чертами и блестящими тёмными глазами; чёрные, как бархатные, брови оттеняли белый лоб. Её хрупкая, тонкая фигурка, несмотря на физический недостаток, отличалась необычайной подвижностью. Чёрное платье фасона Tailleur, безукоризненной простоты и изящества, сидело на ней ловко, и вся она казалась какой-то оригинальной, живой картиной, откуда-то зашедшей в эту гостиную.
Разговор, на минуту прерванный нашим приходом, возобновился. Ловко усевшись на ручку кресла, Кларанс рассказывала о чём-то страшно быстро и громко смеясь. Один из гостей – молодой человек с длинной белокурой бородой и ленивыми голубыми глазами – вставил замечание, которого я не поняла. Все рассмеялись, и Кларанс громче всех.
– Перестаньте, будет, Дериссе! Хоть бы постыдились перед русской барышней…
Mademoiselle Diakonoff, я должна вас предупредить, не судите, видя нас, о парижском обществе… Вы попали в самую свободную среду. <…> Мы здесь почти все художники, артисты, литераторы. Мы не богема, но всётаки свободная артистическая среда, где всякий говорит, что хочет…
– Ещё бы, entre amis! – и из угла поднялась грузная русская фигура и неуклюже, размашисто охватила сильной рукой тонкую талию хозяйки.
– Убирайтесь, русский медведь! хоть для первого раза постыдились бы перед соотечественницей! – крикнула на него Кларанс, вырываясь и ударяя его по руке.
– Ну, ничего, это я так, немножко, – нимало не смущаясь, отвечал “русский медведь” и подошёл ко мне.
– Очень рад познакомиться с вами… я – скульптор Карсинский, – отрекомендовался он, протягивая руку и широко, добродушно улыбаясь.
И я улыбнулась, глядя на этого человека. Прозвище, данное Кларанс, подходило к нему как нельзя более. <…>
Четверг, 14 ноября.
Сегодня утром получила от него визитную карточку – “Е.Ленселе. Старший субординатор”, а его почерком внизу написано: “будет ждать Вас в четверг в Бусико с четырёх часов, если этот день Вам удобен”.
“Если этот день Вам удобен”! – да будь у меня хоть тысяча дел – всё брошу и пойду!
Сегодня начало лекций на нашем факультете. Когда я появилась в аудитории в парижском зимнем костюме, не то что в прошлом году – в чёрной шляпе и нескладной русской жакетке, – студенты устроили овации. Я несколько растерялась от такого выражения симпатии. Положим, я одна на своём факультете, и это немало занимало их.
Я рассеянно слушала профессоров, заглянула в библиотеку и после завтрака, чтобы убить время – зашла и в Guild на уроки, которые мне страшно надоели своей скукой и элементарностью. Нет, мне решительно нечего делать в этом учреждении для учительниц языков: я настолько хорошо знаю язык, что практически говорю очень бегло, а изучать грамматику – не хватает терпения, и я умираю от скуки на уроках. Потом поехала в Бусико. Горничная отворила дверь:
– Мсье Ленселе просил передать Вам его извинения, он не смог Вас дождаться, ему позвонили от больного, ему пришлось поехать… Он назначит Вам новое время встречи.
– Благодарю Вас, мадам.
Я ушла. Сердце мучительно сжалось. Ну, что ж? “Ему пришлось поехать…”, значит, нельзя было остаться. Но если бы он всётаки захотел остаться… Ведь мне он нужен не меньше, чем тому больному.
16 ноября, суббота. И опять, по-прежнему, жду письма… напрасно буду ждать! Но нет, – ведь он же сказал горничной, что назначит другой день.
Сегодня, по окончании лекции, Бертье по обыкновению вышел со мной в коридор. Бедный мальчик не отходит от меня ни на шаг. К нему подошёл высокий, стройный, красивый брюнет, очень хорошо одетый.
– Позвольте вам представить моего товарища Danet, сказал Бертье. Брюнет почтительно поклонился.
– Впрочем, он не столько студент, сколько художник.
– Ну, просто любитель – вы ему не верьте,– он и впрямь расскажет так, что можно подумать, будто я настоящий художник, – перебил его Danet.
– Вы много рисуете? – спросила я.
– Да. Во всяком случае – это интересует меня гораздо больше, чем юридические науки. Особенно теперь работы много: с одним художником рисуем ложу в Госпитале Брика для бала интернов.
Я вся насторожилась.
– Это ещё что такое – бал интернов?
– А это очень интересно. Видите ли, интерны дают бал в зале Бюлье. И вот некоторые госпитали делают ложи и устраивают процессии. Мы выбрали текст из Тита Ливия. Богатый помпеянец даёт праздник в честь освобождения своего любимого раба. <…>
– А мне – можно попасть на этот бал? – робко спросила я.
Danet рассмеялся, а на детском лице Бертье отразился явный ужас.
– О нет, нельзя… это бал весёлый и … очень свободный. Жаль отказать, но это, право, не для вас. <…>
Я успокоила бедного мальчика, но уже решила, что буду на этом балу. Если я не могу видеть его нигде, – неужели потеряю такой случай?
А вечером сидела у румынок и слушала рассказы медички о больнице и интернах. Отчего бы и мне не сходить с ней в Hotel-Dieu, это так напомнит его, – вдруг сообразила я. И попросила la belle Romaine взять меня с собою.
– С удовольствием, – любезно согласилась она. – Это действительно очень интересно. Одного Dieuhfoy стоит посмотреть.
– Это, кажется, знаменитость? – неуверенно спросила я.
– Ещё бы! – воскликнула медичка… <…>
Среда, 20 ноября.
Проспала по обыкновению долго, до без четверти девять. В четверть часа оделась и скорее побежала за медичкой. Надо было идти в Hotel-Dieu.
Мы пришли туда ещё рано. По обширной палате, стены которой были выкрашены светло-зелёной краской, неслышно расхаживали несколько студентов.
Это была женская палата. <…>
Раздались три звонка – и на пороге палаты показалась высокая, стройная фигура в светлом вестоне {Род пиджака.} и фартуке,– это и был Dieulafoy. <…>
Я смело вмешалась в толпу студентов и последовала за профессором в мужскую палату. Но идти вместе с ними оказалось не так-то легко: меня скоро оттеснили назад; группа остановилась; с минуту я увидела на кровати совершенно обнажённую мужскую фигуру – и потом спины студентов скрыли от меня и её, и профессора.
Впервые в жизни видела я так близко от себя совершенно нагого мужчину и не чувствовала никакого смущения – больница убивала все предрассудки. И когда профессор подошёл к другой кровати, я ловко, как змея, изгибом, проскользнула между студентами и встала впереди.
Красивый мальчик лет 14 с чудными чёрными глазами. У него была болезнь сердца. Бледные восковые руки неподвижно лежали на одеяле. Из толпы выделился интерн и стал читать о ходе болезни. Dieulafoy внимательно выслушал, утвердительно кивая головой, потом взял руку мальчика и показал студентам на кончики пальцев. Те с любопытством посмотрели и взяли другую руку… Я могла только смутно догадаться, что, должно быть, он указывал на сосуды. <…>
Dieulafoy перешёл на другой конец залы, куда быстро шёл к своей кровати какой-то рабочий; Dieulafoy велел выдвинуть её, – и рабочий лёг, раздеваясь… Это, очевидно, был больной, только что пришедший в больницу. Все студенты с любопытством столпились около него. Dieulafoy начал осмотр.
– Сколько вам лет?
– 38.
– Давно вы больны?
– С первого ноября.
– Уже три недели? Отчего вы раньше не обратились к врачу?
– Я думал, что это пройдёт.
Насмешливая улыбка проскользнула по лицам студентов. Но лицо знаменитого профессора оставалось бесстрастно и спокойно. Он ничего не сказал и жестом полководца, призывающего войска на поле сражения, пригласил интернов сделать диагноз.
– Daniel, начните вы!
По некрасивому лицу бойкого интерна пробежала смешная ужимка.
– Ей Богу, нелегкая задача, – откровенно признался он.
Студенты засмеялись.
– Ничего, ничего, – одобрил его Dieulafoy. Интерн исследовал больного, потом осторожно начал выводить свои заключения:
– Это мягкий шанкр, – объявил он.
“Chancre, шанкр”, – думала я… это в русском языке есть такое слово, что-то такое слыхала, но что это за болезнь – не припомню.
– Теперь вы, Marignan, – вызвал Dieulafoy другого интерна.
– Я должен заявить, что мой диагноз будет диаметрально противоположный диагнозу моего товарища, – так же откровенно признался маленький брюнет еврейского типа, выступая вперёд.
Студенты опять рассмеялись.
Опять исследование, лупа, тряпочки, и опять – длинная речь.
– Это твёрдый шанкр. Сифилис, – решительным тоном заключил он.
“А-а, так это венерическая болезнь”, – и я без всякого сожаления, с чувством какого-то злого удовлетворения посмотрела на эту жертву слишком усердного поклонения богу любви. По делам тебе, не развратничай! Наверно, какая-нибудь проститутка отплатила ему за всё, что он раньше сделал подлого, пользуясь в домах терпимости женским телом для своего удовольствия…
А тем временем исследовал ещё интерн, и ещё другой. Их мнения разделились: одни определяли шанкр как сифилитический, другие – как мягкий.
Наконец заговорил сам “мэтр”:
– Я совершенно согласен с диагнозом Marignan – этот шанкр сифилитический. Почему не мягкий? Мягкий шанкр, господа, образуется несравненно дольше, месяца два, а здесь – смотрите! – в три недели какое образование, какие ясные симптомы… <…>
Такой диагноз был ясен, логичен, и я поняла всё, тогда как у интернов ничего нельзя было разобрать – они точно брели ощупью.
Визит в палату был окончен, монахиня подала профессору массу листков, похожих на те, которые при мне подписывал Lencelet, Dieulafoy присел к столу, быстро подписал их все, сделал то же в женской палате, и прошёл по лестнице вниз в аудиторию.
Там его уже ждали студенты. <…>
Я сидела, слушала, ничего не понимая, и думала – наверно, и он так теперь сидит и слушает, или, быть может, сам тоже демонстрирует больных.
Лекция кончилась… <…>
Мы пошли домой. И всю дорогу я думала о нём. <…>
Четверг, 21 ноября.
Сегодня приёмный день в Брока. Давно не видалась ни с Анжелой, ни с мадам Делавинь.
Когда я пришла, – почти у всех кроватей уже сидели посетители; а около мадам Делавинь было общество молодёжи. <…>
Мадам Делавинь представила меня: красивая, молодая пара были муж и жена Пеллье, а высокий стройный брюнет – их общий знакомый, тоже интерн из госпиталя Сент-Антуана – мсье Рюльер.
Мадам Пеллье заговорила со мной и расспрашивала, где я учусь; Мадам Делавинь продолжала начатый разговор с интерном.
– Он был с Ленселе, знаете этого иезуита?..
– О, да, – ответил Рюльер, вдруг услышала я. Они смеют называть его иезуитом! за что, почему? и кто же? сама мадам Делавинь, добрейшая душа, которая мухи не обидит <…>.
Я осталась одна с мадам Делавинь; когда пробило три часа, стала прощаться. Она вышла проводить меня; мы шли по длинному тёмному коридору, я спросила её небрежным тоном:
– А кстати, – почему вы назвали Ленселе иезуитом? Ведь вы знаете, я была его пациенткой, и я боюсь, – неужели есть тёмные, переодетые иезуиты? Я этого не знала. <…>.
– Вам нечего бояться. У нас называют иезуитом всякого фальшивого, неискреннего человека. Ну вот и он такой. <…> Тут была история. Когда он был интерном в Брока – он любил одну больную; у нас по правилам больные без сопровождения сиделок не могут ходить к доктору в лабораторию, я за этим слежу, – так вот он за это соблюдение правил и придирался ко мне. Как бы я ни сделала мазь, всё было нехорошо…
Так он любил больную… кого? кто она?
Я быстро опустила вуаль на лицо, так как мы были уже у выходной двери… и, простившись с мадам Делавинь, пошла к себе домой.
Так вот что…
Он любил больную… Я не чувствую ни малейшей ревности к этой неизвестной женщине; ну, любил, – очевидно, она была из простых, очевидно, этот роман кончился ничем, так как не женился. Но почему же он не может полюбить меня?! Или я хуже, ниже её?.. <…>
22 ноября, пятница.
Если он делал зло другим – что же из того? ведь это только доказывает, что и он, как все, не лучше других.
Когда-то художник создал статую и влюбился в неё. Так я люблю создание своего воображения, над которым работала, как артист, с восторгом, с увлечением…
А беспощадная действительность рано или поздно – должна была разбить этот идеал…
“Nous aimons les etres et meme les choses pour toutes les qualites que nous leur pretons”, {Мы любим людей и даже вещи за качества, которыми сами их и наделяем (франц.).} – вспоминается мне отрывок из Etudes litteraires de Faguet {Эмиль Фаге, “Литературные этюды” (“Etudes litteraires”, 1890).}. <…>
26 ноября, вторник.
Бегала сегодня часа четыре… <…> И, когда усталая прибежала к Кларанс, – никого уже не было – все гости разошлись, и она, переодетая в длинный капот с открытым воротом, отворила дверь с пером в руке.
– А, это вы! я уже села работать. Но всётаки войдите, ничего, – успокаивала она, когда я извинилась, что опоздала.
– Пройдёмте ко мне в спальню. Это будет менее церемонно, чем в гостиной. И там ещё теплее, потому что там я топлю день и ночь, – приветливо сказала она, обнимая меня за талию.
Мы вошли в спальню. Уютная большая комната, все стены которой были покрыты художественными афишами, рисунками. У стены, против камина, стоял большой диван. Я села на него и сидела не двигаясь, пока Кларанс в кухне приготовляла чай.
Я так измучилась за эти дни, что очутиться здесь, в этой уютной тёплой комнате, где меня встречали приветливо – было как-то отрадно… А Кларанс вернулась в спальню с чайником и чашками, придвинула стулья и маленький столик к камину, перед которым была разостлана медвежья шкура.
– Идите сюда, будем чай пить… – позвала она меня.
Я села у её ног на мягкий пушистый мех. Приятная теплота разливалась по всему телу. Казалось, век бы не ушла отсюда.
– Я очень рада познакомиться с женщиной независимой и без предрассудков. Это такая редкость у нас, во Франции. Вы, русские женщины, такие энергичные, учитесь, всюду ездите одни. <…> Сколько вам лет?
– Двадцать шесть.
– Поразительно! Вам по виду нельзя дать более восемнадцати.
– Да ведь и вы, я уверена, кажетесь моложе своих лет, ничего тут нет удивительного. Сколько вам лет? – спросила я.
– Двадцать девять. Но я не люблю об этом говорить, – откровенно призналась она.
Я извинилась.
– Ничего, ничего… это я только так, к слову… Между нами только три года разницы, но вы ещё дитя… Скажите, вы всё ещё девственны?
Я широко раскрыла глаза.
– Конечно!
Я была так удивлена этим вопросом, что обидеться как-то и в голову не пришло.
Кларанс разразилась громким смехом. <…>
– Извините… вы можете подумать, что я над вами насмехаюсь: не обижайтесь, ради Бога, – нет. Я смеюсь просто потому, что это было так смешно. Как это можно так жить? Вы ещё не любили?