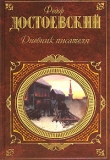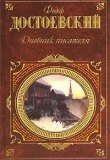Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Живите и распространяйте кругом себя свет добра, насколько вы можете…
– Да вы сначала ответьте на мой вопрос, – настаивала я, начиная терять терпение от этого уклонения в сторону. Он пожал плечами.
– Поступите в гувернантки.
“О лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка!” – вспомнилось мне отчаянное восклицание героя гоголевского “Портрета” {Е. Дьяконова цитирует фразу из повести Н. Гоголя “Невский проспект”: “О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи!”}, и я едва не повторила его вслух.
Сразу разлетелся весь ореол, каким я так почтительно окружала друга великого писателя, и передо мной был он тем, каким и есть на самом деле: богатый аристократ, никогда серьёзно не думавший о женском вопросе. Кровь бросилась мне в голову, и я почувствовала себя оскорблённой… Не его поверхностным советом, достойным ума самого мелкого, ограниченного буржуа, – а тем, что моё доверие, мой энтузиазм были безнадёжно подломлены им же самим… <…>
Я даже и не возразила ему ничего; а он был, очевидно, убеждён, что делал хорошее дело, наставляя на путь истины…
4 сентября, среда.
Сегодня пришла в огород. Мой “хозяин” куда-то исчез. Отыскала его на заднем дворе, он накладывал навоз в тачку и, против обыкновения, не сказал, на какую работу идти.
– Что же такое, или праздник сегодня? – шутя спросила я.
– Н-нет… да видите ли, сегодня дело такое: я хочу под капусту гряды приготовить, так вот навоз надо возить… я в тачку накладываю и отвожу.
– Так чем вам одному два дела делать – давайте я буду возить, а вы накладывайте.
До сих пор я полола гряды, копала их и проч.; но чтобы студентка парижского университета возила навоз – это показалось ему непривычным.
Он нерешительно помялся на месте.
– Да ведь это же навоз, гм-м…
Я рассмеялась.
– Так что же, что навоз? Или вы думаете, что я не сумею справиться с такой работой?
И для доказательства – схватила вилы, быстро наложила полную тачку, свезла её на огород и вернулась – с пустой. Он, уже не возражая, тем временем приготовил и наложил другую тачку. <…>
5 сентября, четверг.
И несмотря на все эти ежедневные работы, – в тихие лунные ночи я ухожу мечтать на берег моря. Вдали едва-едва видны очертания острова Уайта… а там, за ним – так близко берега Франции… Париж. Из всего этого громадного города для меня существует пока одна улица Brezin и в ней – только No 5, где он живёт. <…>
Закрою глаза – опять вижу эту улицу тихой июньской ночью… и опять иду по ней и, проходя мимо его дома, ускоряю шаг, точно боясь, что он меня увидит… <…>
7 сентября, суббота.
На днях приехали ещё двое молодых людей; один на несколько дней, проездом направляясь в Петербург, с матерью, домашний учитель в одном из русских семейств, живущих в Кембридже; другой – учёный, занимающийся исследованием о сектантах; этот надолго, – ему доктор посоветовал на некоторое время оставить Лондон и пожить в деревне – работать для здоровья на воздухе {Возможно, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) – публицист, издатель, исследователь истории русского религиозного сектантства, деятель большевистской партии.}. Он приехал не один, а с женщиной-врачом, которая тоже с приездом в Петербург сдаёт государственный экзамен.
Так нас собралась в огороде целая компания.
Какие это славные молодые люди, добродетельные и… неинтересные! Толстовец явно не симпатизирует мне. Он какой-то односторонний, – видно, что не одобряет во мне абсолютно ничего: ни моих идей о равноправности женщин, ни того, что я на юридическом факультете, даже то, что я усердно занимаюсь физическим трудом, не располагает его в мою пользу. И он при всяком удобном случае готов читать мораль о братском отношении к людям. И каждый раз мне так и хочется сказать ему – что в нём-то я как раз братского отношения к себе и не вижу, а только скрытое молчаливое осуждение всего моего существования.
Учителя видела мало, – он уезжает сегодня, разговаривали о том, о сём… впечатление получилось обыкновенного среднего интеллигента, только на рояле хорошо играет – вот его талант.
От молодого учёного я ожидала несравненно больше, и с удовольствием ждала все эти дни подряд часа, когда он выходил в огород на работу: ему велено копаться в земле ежедневно часа два-три.
Мы работали рядом. Я начала было подходящий разговор…
Ответы “да” и “нет”… правда, весьма вежливым тоном. Но всётаки это немного.
И как только его знакомая показывается – всегда перед окончанием срока его работы – он быстро бросает всё и идёт за ней.
“Не разберёшь их отношений… всегда путешествуют вместе”, – сказал “хозяин”.
А я так отлично разобрала. И только одного не понимаю: отчего, если он влюблён в одну женщину, относится с такой беспощадной сухостью и сдержанностью к другой, которую судьба случайно, на время, поставила рядом с ним?
Ведь я с ним не кокетничаю; не может он, что ли, держать что наз. juste milieu {Золотую середину (франц.).} – не будучи влюблённым – относиться ко всякой другой интеллигентной знакомой женщине более просто, более по-товарищески?
Тщетно позондировав почву научную и литературную, я попробовала обратиться к действительной, и спросила сегодня, как он смотрит на физический труд, нравится ли он ему.
– Терпеть его не могу; только по приказанию врачей и работаю… – снисходительно отвечал он.
– Что же вам нравится?
– Работа умственная.
– Но за что ж с такой неприязнью относиться к физическому труду? ведь он в сущности необходим. И как это у вас самих иногда не является желание упражнять свои мускулы, свою силу не на гире, не на гимнастике, а на полезном, здоровом труде.
– Неприятно это… работать.. Ну, вот, – копаю, копаю, – скоро ли кончу? – скорее писать пойду.
Мне хотелось доказать ему, что ещё неизвестно, насколько талантливы, полезны будут его учёные труды, а что хорошо вскопанная им гряда будет полезна – это вне сомнения, и поэтому он не имеет никакого нравственного права так относиться к тому роду труда, которым живут миллионы людей…
Он выслушал меня с снисходительным вниманием, потом повторил:
– А всётаки не люблю этой работы… то ли дело сидеть за письменным столом.
Я внимательно посмотрела на его голову, правда большую, с сильно развитым лбом, но далеко не с тем выражением, которое отличает людей, открывающих миру новые горизонты.
И я подумала про себя: “да, то ли дело – сидеть за письменным столом и писать одну из тех только полезных книг, каких наш век оставит последующему целое море; надрывать этим своё здоровье и презирать – необходимый первичный труд человечества… логика!”
Но ничего не сказала. А он не говорил больше ни слова, и, едва в обычный час вдали показалась фигура его знакомой, – бросил лопату и поспешно пошёл за ней.
Мой “хозяин” – всех симпатичнее. В нём есть та непосредственная доброта, сердечность, – какая, увы! теперь всё реже и реже встречается в людях.
Как бывший офицер, он, конечно, не отличается всесторонним образованием, но в нём чувствуется природный ум с большим тактом сердца. И поэтому мы часто и подолгу беседуем на разные темы; мне нравится в нём та простота, с которой он исполняет самые чёрные работы – он, не верящий буквально ни во что, своим личным поведением доказывает изречение: “иже хощет быть первый между вами – да будет всем слуга” {Евангелие от Марка, 10: 43, 44 (“…кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом”).}…
На днях мы всей компанией катались на велосипедах. Я ехала с ним рядом. Разговор зашёл о жизни, браке, любви и проч.
– Любили ли вы когда-нибудь? – вдруг спросил он.
Неужели я так сразу, просто, в болтовне скажу ему то, в чём себе едва смею признаваться?
– Никогда, – смело солгала я.
– Сколько вам лет?
– На днях исполнилось двадцать шесть…
– Не может быть! – воскликнул он, поражённый.
– Отчего же нет? – продолжала я лгать и крепче нажала педали… Мы выезжали из лесу, и дорога шла как раз под гору. Велосипед покатился со страшной быстротой. А когда он догнал, наконец, меня, я уже сидела внизу на поляне в обществе остальных спутников, и разговор перешёл на другие темы.
9 сентября, понедельник.
Я всё присматриваюсь к этим людям и чего-то жду от них… Жду, чтобы они встали ко мне ближе, поняли бы, насколько нужны, необходимы мне нравственная поддержка и участие.
Но нет… каждый из них слишком занят своими делами. Все, за исключением “хозяина”, относятся просто, вежливо, но в сущности безлично… И я чувствую, что невидимая стена отделяет меня от них, перешагнуть которую невозможно…
Я начинаю приходить к заключению, что никакая проповедь любви не в силах изменить природы человека. Если он рождён добрым, обладает от природы чутким сердцем, – он будет разливать кругом себя “свет добра” бессознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого природного дара – напрасно всё. Можно быть толстовцем, духобором, штундистом, можно проповедовать какие угодно реформаторские религиозные идеи и… остаться в сущности человеком весьма посредственного сердца.
Потому что как есть великие, средние и малые умы, – так и сердца.
Человечеству одинаково нужны и те и другие.
Характерно, что близкий друг нашего великого писателя обладает этим “добрым сердцем” отнюдь не более, чем другие обыкновенные люди.
Сейчас видно, что он пришёл к своим убеждениям сначала головой, и уже потом сделал себя таким, каким он воображает, что должен быть.
Однообразно, точно заученно, спокойный тон голоса, одинаковый со всеми; а в жизни, в привычках – остался тем же барином-аристократом, каким был и раньше.
Он пишет книги по-русски, по-английски, принимает посетителей, упростил до крайности внешнюю обстановку, всюду вместо дорогих письменных стоят столы простые, некрашеные, а весь его большой дом держится неустанной работой мужика, беглого солдата Мокея.
– Что бы мы стали без него делать! – с комическим отчаянием восклицает он. – Мы точно щедринские генералы на необитаемом острове!
А Мокей, копая со мной картошку, жалуется, что очень трудно жить: “Работы много, вертишься, вертишься день-деньской без устали, то туды, то сюды, а нет того, чтобы для себя, значить, свободного времени”.
В сознании этого мужичка встаёт неясная мысль о необходимости регулировать его работу.
Я предпочитаю мою миссис Джонсон, гостиная которой обставлена элегантно, но которая сама моет полы, стирает бельё и делает всё это совершенно просто, без всяких нравственных проповедей, потому что с детства привыкла к труду.
Сколько раз хотелось мне сказать ему: откажитесь от прислуги, работа которой обеспечивает ваш досуг, который вы употребляете на писание, издание, приёмы, разговоры, споры и т. д.
А то между словом и делом лежит такая пропасть, такое противоречие, что глухое раздражение так и поднимается во мне.
Но вспоминаю изречение: “легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, нежели богатому внити в царствие Божие” {Слова Иисуса в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки.}…
Бесполезно, значит, говорить!
На днях рубили капусту под окнами его кабинета. Он высунулся и спрашивает:
– Что это такое?
– Капусту рубим, – отвечала горничная.
– А-а-а! – снисходительно удивился он.
Я остолбенела. И этот человек, прожив столько лет в деревне, бывший гласный земства, столько раз приезжавший в Ясную Поляну, демократ, – не видал никогда, как рубят капусту!
А великий писатель сам тачал сапоги и клал печи…
В том и разница между гениальным и обыкновенным человеком, что тот, раз пришёл к известному убеждению, – старается провести его прямо и цельно, – его богатая натура способна обнять и проникнуть все стороны жизни.
Не знает великий писатель земли русской, что он один из тех избранных, которые всегда и во все времена являлись как бы для того, чтобы показать миру, до какой нравственной высоты можетподняться человек. И всегда они находят себе последователей, которые отстоят от них далеко; друзей – несравненно ниже себя. Потому что они выше остального человечества и не должны быть окружёнными равными себе. Удел величия – одиночество.
И они как бы искупают этим то, что им дано более, чем другим.
Моё разочарование глубоко, больно и… обидно… <…>
15 сентября.
– Какая вы, должно быть, способная, – сказал сегодня мой “хозяин”.
– Это отчего вы так думаете? – удивилась я.
– Да так. За что ни возьмётесь – всё хорошо выходит. В саду, в огороде работаете – выходит ловко, хоть вас и воспитали как барышню. И по-английски – какие быстрые успехи делаете…
Мне стало больно-больно…
К чему всё это, если он не любит меня?..
16 сентября.
Нет, – не могу больше!
Всё, всё опротивело мне здесь: и эти дома, и это однообразие, а шум моря неустанно напоминает, что только оно одно отделяет меня от той страны, где он живёт. Только море! <…>
Я читала Страхова “Мир как целое”. Учёный автор посвятил целый толстый том на доказательство того, что человек – венец творения.
А я так рада была бы теперь всё отдать, если бы какой-нибудь волшебник мог обернуть меня в птицу… чтобы улететь туда, за море, в Париж, к его окну…
17 сентября, вторник.
Все удивляются, почему я уезжаю. А я удивляюсь – как могла так долго прожить здесь? <…>
18 сентября, среда.
Собираю вещи и укладываюсь. <…>
Я всем объясняю, что у меня есть своя программа пребывания в Англии, что раз я немного выучилась говорить и понимать по-английски, то надо выполнить и другие пункты: ознакомиться с существующими в Лондоне женскими обществами, физическим воспитанием детей, посмотреть театры, музеи…
А на самом деле – пробуду в Лондоне ровно столько, чтобы сделать самые необходимые покупки, побывать хоть в одном женском клубе, посмотреть журналы, относящиеся к женскому движению в Англии, – и скорее, скорее во Францию!
Лондон, 20 сентября.
Вчера утром уехала из этого хорошенького местечка.
Дождь лил как из ведра, и ветрено было. Прощай, море, белые ленты дорог, красные домики! Увижу ли я вас когда-нибудь?
Я оставляю этот уголок без всякого сожаления. Сердце так и замирает при мысли, что меня теперь отделяют от Парижа всего какие-нибудь двадцать четыре часа пути.
23 сентября.
<…> Каждое утро, для экономии времени, составляю подробный маршрут, список всех омнибусов, трамваев, записываю, что надо сделать – словом, принимаю все меры, чтобы как можно скорее покончить с покупками, поручениями, – и всётаки расстояния так велики, что на примерку платья в магазине теряешь полдня.
Лондонские магазины несравненно лучше парижских; таких, как на Regent-Street, я в Париже не видывала. Англичане отлично одеваются у себя дома. Но попав в Париж, как и большинство иностранок, делают одну и ту же ошибку: стремясь одеться во всё “парижское” – покупают всё в больших магазинах, не руководствуясь никакой другой идеей. Впрочем, мои соотечественницы в этом отношении ещё хуже: те покупают красные шляпы, голубые платья, белые зонтики и башмаки, и в такой яичнице красок самодовольно гуляют по Парижу, воображая, что одеты “как парижанки”.
Всё никак не могла отыскать адрес Women’s Institute – одного из главных женских обществ.
26 сентября, четверг.
Наконец-то удалось! Оказалось, что Women’s Institute переменил квартиру. <…>
Women’s Institute – нечто вроде женского клуба: в большой удобной квартире находится библиотека, читальня, по стенам – картины с обозначением цен. Тут же и справочное бюро – за полтора шиллинга можно получить какие угодно сведения по женскому вопросу. Какие англичанки практичные! <…>
Была и в Тойби-Холле. Но этот знаменитый народный университет был почти пуст по случаю вакационного времени. Заглянула и в Уайтчепельскую Free Library и при ней музей естественных наук.
Там неожиданно мне повезло. Заведующая музеем, мисс Кэт Холл, оказалась чрезвычайно любезной и милой особой. Она не только дала мне все объяснения, рекомендательное письмо к викарию церкви св. Иуды, чтобы он показал мне наиболее интересные места знаменитого квартала пролетариата {Уайтчепель.}, но и пригласила меня к себе. <…>
9 сентября, вторник. С утра уложила все вещи и послала мисс Кэт телеграмму, спросить, – когда она дома. Получила ответ – в пять часов. При моём незнании путей сообщения я должна была выехать за два часа.
Мисс Кэт живет ужасно далеко: на другом конце города.
Прекрасный каменный дом-особняк, как и большинство здешних домов, с обязательным садиком впереди. Я захватила с собой фотографии в русском костюме, чтобы хоть этим выразить свою признательность мисс Кэт за её любезность; утром послала такую же викарию.
Вся семья была в гостиной. Мисс Кэт представила меня матери, племяннику – молодому человеку, консерватору, из Британского музея, который казался счастливым исключением среди англичан – он был очень способен к языкам и порядочно говорил по-немецки и по-французски.
Отец его, художник, брат мисс Кэт, был в России в свите герцога Эдинбургского – и теперь сопровождал наследного принца в его путешествии по колониям.
Я не чувствовала ни малейшего стеснения, разговор завязался просто и непринуждённо о России, – видно было, как все члены семьи дорожили тем, что одному из них удалось увидеть такую далекую страну.
Акварель – внутренность Успенского собора – висела на стене; на большом бархатном щите среди медалей, блюд и всяких других редкостей – я увидела и нашу икону. Принесли альбом и показали фотографии отца в большой русской шубе. Потом, в свою очередь, показали мне весь дом, выстроенный, как и все дома здесь, удивительно разумно, обставленный комфортабельно и уютно.
Когда мисс Кэт вернулась со мной в гостиную, к five o’clock tea {К пятичасовому чаю (англ.).} пришли ещё друзья дома: немолодой мужчина с дамой и ещё молодой человек.
Завязался общий разговор; меня расспрашивали, что я изучаю, трудны ли юридические науки. Я вспомнила – мне рассказывали, что один из наших соотечественников, приговорённый здесь за подстрекательство к убийству на полтора года каторжных работ, по окончании срока вышел из тюрьмы в злейшей чахотке. Он ежедневно вертел в одиночной камере огромное колесо, перепрыгивая беспрерывно с ступеньки на ступеньку; механизм верчения был устроен так, что в случае остановки он рисковал раздробить себе ноги…
И я воспользовалась теперь случаем, чтобы высказать этим, более нас цивилизованным людям, всё своё возмущение жестокостью и бессмысленностью такого наказания.
– О нет, вертеть колесо – это не бессмысленно, – с живостью возразил один из гостей. – Насколько мне известно, – это мельничное колесо – они таким образом мелют себе хлеб.
– Но согласитесь, что такое наказание жестокостью своей превосходит самое преступление, – настаивала я. – Надо же иметь сострадание.
– Сострадание? – с холодным удивлением спросил англичанин, точно я сообщила какую-то новость.
– Ну да, – продолжала я, с недоумением глядя на этих интеллигентов. – Сострадание к преступнику.
– Для преступника нет сострадания. Он нарушил законы общества и должен быть за это наказан, – медленно, с расстановкой сказал один из гостей, который пришёл с дамой.
– Но ведь этот человек ещё и не убил никого, – сказала я наконец.
– А если убил, – за жизнь должна быть отдана жизнь, – с живостью сказал другой гость. – Он должен быть повешен.
– Он должен быть повешен, – как эхо повторили остальные.
У меня язык прилипнул к гортани при виде того, до чего чуждо было этим людям то чувство, которое с детства воспитывается в нас почти религиозным отношением к “несчастным”, которое заставляет мужика, крестясь, подавать копейку арестанту, а других, кто побогаче, – посылать в тюрьмы подаяние.
Это было свыше моих сил. Я забыла совсем, что нахожусь в чопорном английском салоне и вскочила с места.
– И вы ходите в церковь, читаете Библию – как смеете вы считать себя христианами, раз в своём законодательстве держитесь ветхозаветного правила “око за око, зуб за зуб?!” – закричала я в негодовании, от волнения мешая французский, немецкий и английский языки. – Ведь смертная казнь бессмысленна уже потому, что не достигает цели. Кого “вознаграждает” отдача одной жизни за другую? Родных убитого? – да ведь казнью преступника нельзя оживить его жертву. Если вы, общество, присваиваете себе право судить преступника, – докажите ему, что вы достойны этого права, что вы нравственно лучше, выше его… а для этого, прежде всего – отнеситесь к нему с состраданием, постарайтесь исправить его. А вы – ведёте его на виселицу… Чем же, скажите, чем вы лучше его?!
Что-то подступило мне к горлу – я не могла больше говорить…
– Но ведь у вас, в России, есть смертная казнь?
– Нашему уголовному процессу и общественному мнению чужда смертная казнь {После 1891 г. в гражданских судах Российской империи не было вынесено ни одного смертного приговора.}, – с гордостью сказала я, с трудом переводя дыхание.
И только тут ясно поняла, какое счастье, что нашему народу так чуждо это холодное, вполне сознательное жестокое отношение к преступникам, на какое я неожиданно наткнулась в этом интеллигентном обществе.
– Бороться с жестокостью народа мало цивилизованного ещё можно, надеясь на то, что просвещение смягчит нравы. Бороться с жестокостью цивилизованного гораздо труднее: он умеет создавать себе разные опоры в виде общественного мнения, науки и проч.
Никто не смеялся над моей ломаной, из трех языков, речью… и все её поняли, – моё лицо, глаза и жесты говорили яснее всяких слов… Все молчали… молчала и мисс Кэт… она совсем не принимала участия в разговоре. Молодой человек встал и подошёл ко мне…
– Да, вы правы, мы действительно следуем Ветхому Завету, тогда как в Новом сказано: “возлюби ближнего твоего”… Вы говорили так хорошо… благодарю вас.
Я была тронута, что хоть одного удалось убедить, и чуть не со слезами на глазах пожала руку этому молодому человеку, фамилия которого так и осталась мне неизвестной.
Подошла мисс Кэт и показала мне пчельник, который помещается в комнате; красивый, искусно сделанный ящик, где под стеклом видны были соты и ползали пчёлы. Она с любовью смотрела на них, рассказывая, как нынче вечером повезёт свой пчельник в один из народных университетов для демонстрации и будет читать там реферат.
А я, смотря на её уже немолодое лицо, думала: “какая масса женщин в Англии осуждена на безбрачие”, и какой-то холод пробивался в душу при мысли о молодости без любви, об одинокой жизни… И глубокое сострадание охватывало душу…
Заменять страшную пустоту личной жизни – пчёлами… какой ужас!
Скорей в Париж! Как могла я так долго пробыть здесь, вдали от него, как могла?! Я теперь удивляюсь сама себе. Кажется, если бы пришлось пробыть здесь ещё неделю – я умру…
Стрелка близилась к семи. Гости ушли. Семья мисс Кэт радушно пригласила меня отобедать у них; скоро десять часов вечера – я еду прямым путем на Дувр-Калэ. <…>
Париж, 30 сентября.
Наконец—то!
Облетели листья… Париж уж не блестит яркой свежей красотою, как в мае, – но после Лондона он кажется ещё прекраснее, а расстояния и совсем невелики.
Всё моё существо сияет от радости при мысли о том, что я опять там же, где он живёт…
1 октября, вторник.
Ищу комнату в прекрасном доме на той же rue de Arbalete, которая носит громкое название Villa Medicis {Вилла Медичи.}. Действительно, улица достойна этих господ: четыре прекрасные большие дома, выстроенные по всем правилам современных удобств и гигиены. <…>
3 октября, четверг.
На этот раз, кажется, нашла: правда, не в семье и не одной жилицей, но зато и нет студентов, – комнаты в этой маленькой квартире сдаются исключительно женщинам. Две румынки – одна с медицинского факультета, другая с lettres – живут в одной комнате, две другие ещё не заняты. Я взяла одну из них, подешевле, – очень светлая, чистая, уютная. Другую по дороге рекомендовала какой-то русской, тоже, кажется, студентка. <…> Возьму пианино напрокат – здесь это стоит всего 10 fr. в месяц. <…>
5 октября, суббота.
Вчера первый свободный вечер – пошла гулять… и конечно туда, на rue Brezin.
Она была по-прежнему тиха и пустынна, только сквер изменился – печально смотрели пожелтевшие листья… Было холодно… и всё кругом так печально, так способствовало моему настроению…
Не знает он, что я вернулась. <…>
Он спит теперь, утомлённый дневной работой, и не узнает, и не догадается… никогда…
6 октября.
А ведь я совершенно не знаю, кто он; как бы узнать хоть что-нибудь о нём?..
Когда я уезжала и приходила прощаться с Анжелой {См. запись от 11 июня 1901 г.}, та сказала, что знает его. Тогда я не смела спросить ничего, это было бы слишком явно заметно… А теперь… Если я не могу его видеть, – то услышать хоть слово о нём! <…>
И я пошла в госпиталь Брока.
Анжела очень обрадовалась моему приходу.
– Давно ли вернулись? Как это мило с вашей стороны – сейчас же вспомнить обо мне… очень, очень рада, что вы пришли.
Я вся вспыхнула: ведь я пришла не просто, чтобы повидаться…
Но шёл дождь, и в маленьком кабинете электротерапии, где живёт Анжела, было темновато, так что она ничего не заметила.
Мы заговорили о госпитале, перебрали всех больных, которые ходили на электризацию одновременно со мной; вспомнили и о докторе Дроке, и его необыкновенном взгляде…
– Он скоро вернётся из отпуска.
– Судя по его взгляду, – это должно быть необыкновенный человек, – направляла я на него разговор: помню, что – “господин Ленселе – близкий друг доктора Дрока”.
– О, это действительно чудный человек, и притом знаменитость… Вы знаете ли, сколько стоит визит у него на дому?
– Сколько?
– Два луи! – двадцать франков! – торжествующим тоном сказала Анжела, точно это она сама получала такую плату.
– О, – сказала я с уважением.
– Да, да… это такая знаменитость по накожным болезням.
– А эти, которые ходят с ним по палатам, – это тоже… доктора? нарочно ошиблась я, зная, что Анжела сейчас объяснит, как иностранке.
– Нет, это экстерны и интерны. Каждый шеф имеет своего интерна. Доктор Досси – акушер – своего, доктор Дрок – своего… теперь у него Собатье, в прошлом году был Кур-де-Глеквинье… я их всех отлично знаю.
– И Ленселе тоже был? – наконец решилась я спросить, думая, что вопрос как будто вскользь будет незаметен.
– Как же! Он был здесь интерном у доктора Дрока. Это его близкий друг. Они вместе работают. Ах, мсье Ленселе, он так много работает… Прекрасный врач, а его пинают все кому не лень…
Так вот кто он… <…>
9 октября, среда.
Познакомилась с румынками. Одна сестра, медичка, – такая красавица, что я тотчас же прозвала её “la belle Romaine”, “прекрасная римлянка”, другая – с филологического факультета – не так хороша, но с лицом очень симпатичным и интеллигентным, обе чрезвычайно симпатичные девушки {Ср. с записью от 12 декабря 1900 г. о встрече с симпатичными сестрами—румынками Бильбеско, чьи характеристики – одна с филологического, другая с последнего курса медицинского факультета, – странным образом, совпадают с теми, которые присутствуют в данной записи о только что состоявшемся знакомстве.}.
Сестры посвятили меня в свои намерения и планы жизни. Медичка готовится к экзамену на экстернат – и объяснила, что это такое. Студенты медицинского факультета – Ecole de medicine – могут держать конкурсный экзамен при Assistance Publique – на экстернат и интернат. Экстерны состоят как бы помощниками врачей – делают перевязки, присутствуют при обходах; интерны – уже самостоятельно заведуют палатой, нечто вроде наших ординаторов. Экстернат и интернат – по четыре года каждый, причём экзамен на интернат можно сдать и ранее этого срока. Стать интерном – идеал всякого студента-медика, так как, будучи студентом, интерн уже имеет за собой большую практику, и когда кончает курс – выходит опытным и знающим врачом. Некоторые из них читают и частные лекции, подготовляя к конкурсным экзаменам на экстернат. Они много работают, но зато и веселятся же! Для них в каждой больнице отведено особое помещение “salle de garde” {Дежурка (франц.).} – так что они там выделывают! Вот уж кто веселится!
Слушать такие разговоры для меня и величайшее наслаждение и мучение. Я всётаки узнаю что-нибудь о нём, какая его жизнь, в чём состоит его работа, но это… кажется, кто-то вкладывает нож в сердце. У него такие редкие волосы на голове. И как подумаешь, что люблю всеми силами души, со всей искренностью первого чувства – этого преждевременно истасканного парижанина… ужас!
Несмотря на свою буржуазность, медичка всётаки выражается более свободно.
– Вас возмущает эта безнравственность? Что же? ведь для мужчины женщина – это первая необходимость.
– Ну, а я так с вами не согласна. Я бы не хотела выйти замуж за… такого…
– Мужчина—девственник! что может быть хуже! – с ужасом восклицает прекрасная румынка, лениво раскидываясь на постели. – Ни за что! а ты? – спрашивает она сестру. Та в своем качестве немедички считает нужным конфузиться и молчать. <…>
11 октября, пятница.
Пошла сегодня в музей Гимэ {Музей восточного искусства им. Гимэ.}. Мне говорили, что там находятся мумии Таисы и Серапиона {Герой романа Анатоля Франса (1844—1924) “Таис” (1890) – монах-отшельник Пафнутий, но в некоторых версиях легенды, обработанной писателем, персонаж именуется Серапионом. Мумии, идентифицированные как останки Таис и Серапиона, были найдены при раскопках в Египте в 1889—1890 гг., о чём писала пресса. Имя преподобного Серапиона-монаха Е. Дьяконова могла, кроме того, знать из святцев.}. Я читала прелестный роман Анатоля Франса “Таиса” – и интересно было взглянуть на эти мумии.
О, какой ужас! В стеклянном ящике, в почернелой от времени одежде, лежит то, что было некогда красавицей Таисой… жёлтый череп с остатком тёмных волос; рядом с нею бесформенная тёмная масса почерневшей одежды с куском пожелтевшей кости сбоку – должно быть, рука, обвитая железными веригами, – это что-то было когда-то Серапионом…
Неужели когда-нибудь и он, мой милый, любимый – будет таким же?!
Жить можно только тогда, когда не думаешь о смерти…
Стремясь уйти от этого ужасного зрелища, – я свернула в одну из зал. Там со всех сторон сидели статуи Будды, и на лицах их отразилось торжественное спокойствие Нирваны. <…>
13 октября, воскресенье. Снова была в этом музее.
Но сегодня зала с Буддами была закрыта; открыты другие – японского искусства.
Это было для меня настоящим откровением. Почти всё, что принято называть 1’art moderne e moderne style, – стало мне вдруг понятно. Это совершенно несправедливо по отношению к японцам: следовало бы назвать “японское искусство, японско-современный стиль”, как говорят о стиле дорическом, ионическом. Все эти афиши, все издания, современная манера живописи, предметы искусства, переплёты с рисунком, идущим от угла, – всё, всё японское и существовало в этой удивительной стране за сотни лет до нашего времени. Я видела рисунки, относящееся к 1513—1685 годам, – они сделали бы честь любому соЕюеменному художнику… И как у нас, в России, мало об этом знают! как невежественны мы в художественном отношении! право, жаль, что всё знакомство с историей искусства у большинства моих соотечественников ограничивается знанием того, что Фидий жил в Афинах во время Перикла, а Антокольский сделал статую Ермака…