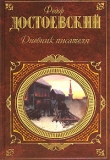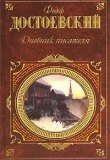Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Такое беспристрастие делает вам честь… это здесь такая редкость, такая новость… спешила я попасть ему в тон. Педагог был очарован и растаял окончательно.
– Что поделаешь… Стараемся по мере сил… Поговорите, поговорите сами с Никаноровым. И знаете, я бы советовал вам взять домой брата… теперь он и ярославскую гимназию кончит…
– К сожалению, это невозможно – у него в гимназии уже установилась очень скверная репутация… Мне хотелось скрыть от этого человека наши тяжёлые семейные обстоятельства.
– Ну вот, полноте, какая там репутация! Ведь он ушёл оттуда из 4-го класса, вернётся в седьмой… Факт говорит сам за себя и сразу создаст ему лучшую репутацию.
– Но есть и некоторые семейные обстоятельства. Мать очень больна, у неё неизлечимая болезнь, ей нужно спокойствие, а брат своим резким характером и выходками будет её раздражать; вы можете понять, что мальчики ничего не смыслят в женских болезнях, – объясняла я, внутренне страдая от того, как мало было чутья у этого человека. Не могла же я сказать ему всю правду: что брат с детства был нелюбимый сын, и его от природы далеко не кроткий характер немало способствовал тому, что мать в конце концов возненавидела его и рада была отделаться, бросить в другой город, как только увидела, что он плохо идёт в ярославской гимназии.
– М-м… Но отчего же у него такие отношения с матерью? – бесцеремонно продолжал педагог свой мучительный допрос.
– Очень понятно. Вот и вы говорите, что с ним трудно справляться, а для него вы чужие; со своими же он стесняется ещё меньше. Всё это очень тяжело, очень неприятно, но что же поделаешь… разные бывают натуры.
– Да, разные, разные, – сочувственно вздохнул инспектор и встал, протягивая руку. – До свиданья. Так переговорите же с Никаноровым и успокойте вашу матушку. Честь имею кланяться.
Я поехала к Никанорову. Это человек добрый и умный – пишет по педагогическим вопросам, прекрасный отец семейства и очень тактичен… даже чересчур. Брат живёт у него уже второй год. Никаноров встретил меня по обыкновению ласково и сдержанно. После неизбежного разговора о загранице я перешла к щекотливому вопросу о брате.
– Не знаю, не знаю – он недоволен житьём у меня, это очевидно. Нервен, озлоблен – на что, не понимаю. Положим, он переживает теперь такой возраст… В декабре он был болен и страшно испугался, я тоже.
– Что с ним было?!
– Этого я вам не скажу… вы всётаки девушка.
И сколько я ни упрашивала Никанорова отбросить в сторону предрассудки и говорить со мной так же свободно, как если бы я была медичка, – он стоял на своём.
– Нет, не скажу… Всётаки вы девушка. Я писал вашей матери.
“Ну, напрасно; такой матери всё равно незачем писать”, – с досадой подумала я. И сколько мы ни говорили – я никак не могла понять причины неудовольствия брата. Никаноров пожимал плечами, беспомощно разводил руками с видом угнетённой невинности: видите сами, как трудно с таким характером. И так как брат платит ему за пансион довольно высокую плату, то я ясно увидела его тактику. Ему не хотелось самому ничего говорить против брата как выгодного пансионера, и в то же время он не хотел показать этого мне. Поэтому он избрал позицию среднюю: всё сваливал на брата, на его капризы, оставаясь сам в стороне. Я была в очень затруднительном положении, и кто прав, кто виноват – становилось невозможным разобрать.
– Скоро придёт из гимназии ваш брат. Поговорите с ним сами, – сказал, наконец, Никаноров, провожая меня в его комнату.
Ждать пришлось недолго. Высокий юноша с ранцем на спине вошёл и небрежно швырнул его в угол.
– А-а… – протянул он, увидев меня.
Я радостно бросилась к нему на шею. Как-никак, а всётаки очень люблю этого юношу, который причинил мне столько горя и хлопот.
– Шура, милый, здравствуй, я…
Он высвободился сильным жестом из моих объятий, передернул плечами и сел.
– Без нежностей, пожалуйста. Из дому? Маменька послала разбирать мои дела с Никаноровым?
Он расставил ноги, упёрся руками в колено и смотрел на меня в упор. Серая гимназическая куртка оттеняла его свежее, миловидное лицо, которому не хватало правильности линий.
Голубые глаза сверкнули из-под тонких чёрных бровей:
– Так вот мой ответ: убирайся отсюда с чем пришла!
Я пробовала успокоить его, уверить, что и не думаю вмешиваться в его дела, что только исполняю поручение.
– Ну, хорошо, я отвечу, – сказал, наконец, брат и вдруг заговорил патетическим тоном: – Живу я у Никанорова уже второй год, и он обращается со мною точно с чужим. Мне так тяжело. Поэтому я хочу бросить его и уйти к другому. Я не хочу у него жить. Нельзя сказать, что мы поссорились, но мы и не сходились.
Я знала, что Никаноров строг и не одобряет увлечения брата театром. Поэтому надо было проверить, насколько брат искренен, и не играет ли ловкой комедии, чтобы перейти на житье к другому, более снисходительному воспитателю.
– Шура, милый, но если тебе так тяжело живётся – отчего ты не напишешь мне? Ведь ты знаешь, что я всегда готова помочь тебе чем могу.
– Я тебе ещё прошлым летом сказал, что не хочу с тобой иметь дела – раз и навсегда. Ты мне не сестра.
– Так ты ещё помнишь эту глупую ссору? Пора бы забыть, я успела даже совсем забыть, в чём дело, – с удивлением сказала я.
– Она забыла! скажите, пожалуйста! Рылась в моих бумагах, читала мою драму, – и потом ещё станет уверять, что забыла! – вскричал брат тоном прокурора, уличающего преступника. Он был наивно убежден, что всякая мелочь всю жизнь важна и её необходимо помнить. Ему и в голову не приходило, что в Париже, в университете – можно было забыть об его тетрадках.
– Шура, да ведь я тогда же сказала тебе, что перерыла твой ящик по ошибке, – никакой твоей там драмы не читала и не видала…
– Врёшь!
– Шура?!
– Врёшь, подлая лгунья! Нечего выворачиваться. Как я тебе сказал, – ты мне больше не сестра,– так и будет. И ни ты, ни твоя заграничная жизнь меня не интересуют, и дела мне до тебя никакого нет.
Я совсем растерялась. Эта сухость и грубость натуры сказывалась в нём с детства и к восемнадцати годам только развились. Напрасно старалась я доказать ему, что это глупо, что я неспособна на нечестные поступки, приводила в доказательство любовь и уважение, которыми пользовалась на курсах. Брат был непоколебим.
– Ну, как хочешь, – сказала я наконец, – я не стану насильно навязывать тебе братских чувств. Но раз мать меня послала узнать о тебе – надо же сказать ей что-нибудь.
– Можешь передать ей, что я решил гимназию кончить – я теперь пришёл к этому убеждению, – со снисходительною важностью произнёс брат.
Он пришёл к этому убеждению только в восемнадцать лет, после девятилетней борьбы с учащим персоналом двух гимназий, кое-как, правдами и неправдами добравшись до шестого класса.
– Наконец-то!
Брат не понял сарказма моего тона. И весь преисполненный важности от природы ограниченного человека, нахватавшегося “верхушек”, продолжал:
– Я готовлюсь к сцене или к опере, ещё не знаю куда. У меня, говорят, прекрасный баритон. Но в императорское театральное училище, если без среднего образования, надо держать конкурсный экзамен. А мне не выдержать. Так уж лучше гимназию кончу. Так маме и передай. Пусть она не беспокоится.
– Хорошо. Передам.
– Ну, а теперь – и разговаривать больше не о чем. Можете отправляться.
Эта дерзость, это самодовольство, самоуверенность ограниченного ума – до глубины души возмутили меня. И мне захотелось доказать ему, что в сущности он сам не прав, что вся его жизнь построена на несправедливости закона.
– Ты обвиняешь меня в нечестности, а честен ли ты сам?! Подумай только: мы, сестры, получили наследство после отца только седьмую часть, тогда как ты и брат Володя – всё остальное. Ты можешь учиться и платить дорого за пансион только потому, что у тебя денег вдвое больше нашего, тогда как мы, сестры, – как учились? и где? – По самым дешёвым ценам, без новых языков. На что ты тратишь свои проценты? На театры, на извозчиков… тогда как я в Париже едва свожу концы с концами, и всётаки мне не хватает годового дохода, беру из капитала. А ведь мы дети одного отца. Вот ты и подумай – раз ты спокойно пользуешься своими деньгами, которые дал тебе устаревший закон о правах наследства – честен ли, справедлив ли ты сам?
– Ф-ф-ью! Вот она о чём заговорила! Ну уж это дудки! Мне деньги, брат, самому нужны. А тебе не хватает – так заработай, ха, ха, ха! – и он нагло и дерзко рассмеялся.
Я крепко стиснула зубы и сжала руки, задыхаясь от негодования. Вот к чему привели все старания, все заботы об его образовании! Только к тому, чтобы было одним дипломированным подлецом на свете больше!
– Посмотри, сколько я покупаю книг! – и он широким жестом указал на полки.– Сколько я в долг даю! – хвастался брат. – Ещё недавно дал полтораста рублей…
– Но ведь ты великодушничаешь на чужой счёт! Если мать с детства не внушала тебе понятий честности и справедливости, я говорю тебе это – я, твоя старшая сестра. И ты ещё смеешь упрекать меня в нечестности, тогда как сам, сам…
Голос мой оборвался, я не могла продолжать от рыданий – и отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слёзы.
– Без драм, пожалуйста. Я своих слов не изменяю. Разговор наш кончен, можете отправляться.
Брат сел в кресло у письменного стола и закурил папиросу. Оставалось только – уйти и уехать.
***
Передала матери, что ей нечего беспокоиться, что дела брата идут хорошо.
– Чего же он пишет такие письма, негодяй! Только здоровье портит, беспокойство причиняет!
Теперь она, наверно,
…пишет себе на отраду
Послание, полное яду *. <…>
{* “Изменённая цитата из баллады А. К. Толстого “Василий Шибанов” (“Поспело ему на отраду / Послание, полное яду…”).}
6 апреля/24 марта.
<…> Вечером мы с бабушкой сидели за чаем. Я рассказывала ей о своей поездке {В Кострому для утверждения духовного завещания покойной бабушки в Окружном суде.}; она молча слушала и вздыхала с каким-то особенным взволнованным видом.
– Бабушка, милая, что это вы? – спросила я.
– Ничего, Лиза, ничего… так.
– Да вы скажите, допытывалась я. – Случилось что-нибудь? неприятность какая? да?
Бабушка молча покачала головой, и вдруг сказала серьёзно и торжественно:
– Вот бабушка твоя и умерла… честь честью, как следует быть: и причастили её, и завещание написано, и в нём никого не забыла – и вам оставила, и бедным, и Саше и на помин души… Хорошо… дай Бог всякому такую кончину. Вот я теперь и думаю… про твою маму, плоха она стала, – ах, плоха. Пора и о завещании подумать. Ведь у неё денег-то немало. Опять всё мальчикам пойдёт, как после отца… велика ли ваша восьмая часть? Опять же в церкви надо бы, в монастырь, на помин души. Пора и об этом подумать… Живём – грешим, после смерти кто помолится? Вы, молодые, в Бога не верите… – Ох, надо, надо Саше подумать об этом… поговорила бы ты с нею, Лиза.
– Бабушка, что вы говорите? – в ужасе вскричала я. – Да разве можно говорить с ней об этом? Ведь вы знаете, как она смерти боится…
– А Бога она не боится? Как подумаешь, будет лежать в могиле… без вечного поминовения… как собака какая, прости Господи.
Голос бабушки дрогнул, и она заплакала.
– Бабушка, дорогая, поймите, что это – немыслимо. Ведь вы же знаете, она всю жизнь прожила, делая только то, что ей нравилось… смерти она боится до безумия… всю жизнь лечилась от всяких болезней – и действительных, и воображаемых. И вдруг говорить с ней о завещании! Да что вы, что вы, бабушка! Пусть уж лучше я сама дам за неё, куда вы велите – на всякие поминовения. Только молчите, только не говорите с нею об этом!
Но у бабушки свои убеждения. Её горячая, наивная вера придаёт ей твердость фанатика… Она молча покачала головой…
– А Бог-то! а грехи-то! а вы, дочери, чем же хуже сыновей? хоть бы о вас подумала, пожалела бы. Шутка ли, законы-то какие, всё у вас для братьев отымают… Нет, коли ты не хочешь, я уж сама с ней поговорю.
– Этого ещё только не хватало!
Я в отчаянии умоляла её ничего не говорить. Бабушка молчала. Она, очевидно, раскаивалась, что завела со мной этот разговор, а теперь я мешала привести ей в исполнение, очевидно, уже назревшую мысль. Что-то будет? Как устроить так, чтобы она и в самом деле не вздумала высказать матери своих мыслей? Как помешать? Не пускать её одну без себя ехать к матери? Но как это устроить? Пожалуй, со своей стороны, бабушка догадается, рассердится и всётаки поедет.
8 апреля/26 марта.
Смешно, что мы с бабушкой ведём такую дипломатическую игру: она старается скрыть от меня свои думы, – а я стараюсь всячески не допустить её ехать к матери без меня. Сегодня удалось уговорить идти к всенощной, пока я вечером буду у адвоката.
10 апреля/28 марта.
Сегодня утром прихожу из библиотеки – бабушки дома нет. Я тотчас уже сообразила, что она, наверное, поехала к матери, и поскорее пошла туда. Ещё подходя к столовой по коридору, сквозь все затворенные двери долетел до меня раздражённый резкий крик. Это был голос матери. Сердце у меня так и замерло… Не удержалась-таки бабушка! говорила!
Я пробежала столовую и распахнула дверь гостиной. Бабушка с платком в руках сидела в кресле и плакала. Около неё стояла дрожащая Надя. Мать полулежала на низеньком диване.
– А-а, вот она, вот кто это вас научил! – злобно воскликнула она, указывая на меня. – Как посмела ты, подлая тварь, – нет, отвечай, как только ты это посмела!!!
Я остолбенела и не могла сразу сообразить, в чём дело. В голову точно молотком ударило, в глазах помутилось…
– Что такое? При чём я тут? – с усилием выговорила я.
– Она не понимает!
– Саша, побойся Бога, не возводи на неё неправды, это я сама, сама, – я только на монастыри, на помин души, – умоляюще твердила бабушка.
Бедная Надя, совсем уничтоженная, тихонько всхлипывала.
– Неправда! Знаем мы, в чём дело! Вы не о монастырях, а о внучках хлопочете! Так нет же! Я вам дам себя знать! – Глаза матери сверкали хорошо знакомою мне ненавистью к нам, детям, и всё её существо, казалось, оживилось злобной радостью от сознания, что она может отомстить нам, дочерям, даже из-за могилы.
– Не на-пи-шу! Пусть всё идёт мальчикам, – я очень рада! Какие они мне дочки? Одна замуж вышла, другая на курсы поехала…
Я не выдержала.
– Вы же сами вышли замуж тоже против воли бабушки? или вы произвели нас на свет только для того, чтобы воспитать из нас себе рабынь? – сказала я с негодованием, и вдруг опомнилась, сознавая, что с этим чудовищем бесполезно тратить слова.
Сколько слёз было пролито мною когда-то, в годы ранней молодости, перед этой женщиной, когда я на коленях умоляла её отпустить меня на курсы. Как плакали мы, сестры, в детстве от её побоев, придирок, наказаний!
– Уйдём отсюда, бабушка, милая, уйдем скорее, – старалась я её поднять с кресла. Но старушка не двигалась с места, точно загипнотизированная гневом дочери.
– Ишь, чего захотели! что выдумали. Пусть всё идет мальчикам, так вам и надо… подлые…
И каждое слово этой женщины, как удар ножа, отзывалось во всём существе моём. Я столько выстрадала от неё, что, кажется, сил нет более, а она всётаки ищет ещё что-нибудь новое.
А бедная Надя тихо шептала:
– О, как мама рассердилась! Лиза, Лиза, и зачем это ты выдумала?
Бедная, глупая девочка! напрасно её разуверять, всё равно не поверит.
Я поспешила скорее увести бабушку.
И среди этой бездны нравственной мерзости, среди всего, что приходится мне переносить – воспоминание об этом вечере в Бусико являлось единственной светлой точкой в моей измученной душе. Как хорошо он говорит! Как он добр ко мне!
Казалось, что его слова издалека поддерживали во мне бодрость духа, энергию, гордость…
Вечером бабушка долго молилась и, укладывая меня спать, по обыкновению – перекрестила с особенно торжественным выражением лица.
– Спи, Бог с тобою! И ты ведь немало от неё натерпелась… Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!..
12 апреля/30 марта.
Я совсем устала от переездов по железной дороге, устала от всего. Я разбита и физически, и нравственно, чувствую себя совсем плохо… Сил нет оставаться здесь после всей этой истории… Не стану дожидаться утверждения духовного завещания, уеду в Москву к тёте, она зовет к себе на Пасху. Вчера послала за сестрой и целых три часа упрашивала её принять доверенность и окончить дело. Она не соглашалась, всё боялась “напутать” и “не так сделать”. А чего проще: теперь осталось только деньги получить да разделить поровну. Наконец, она поняла и согласилась. Бабушка поглощена говением и бесконечными великопостными службами. Моё присутствие в маленькой квартире, постоянные поздние возвращения домой – беспокоят её и отвлекают в сосредоточении на благочестивых мыслях. Когда я вчера сказала ей, что собираюсь уехать, она не стала удерживать меня.
– Кабы другое время – а теперь поезжай. Дни такие великие настали… Доживу ли до будущей страстной седмицы? Бог весть,– так надо теперь помолиться…
Всё это не мешает ей самой приготовлять мне ежедневно к утреннему чаю яйца всмятку… Накануне страстной-то недели! Но бедная бабушка молчит, подчиняясь требованиям неведомого, чуждого ей прогресса.
Москва. 15/2 апреля.
Приехала к тёте {Тётя – Евпраксия Георгиевна Оловянишникова.}. Она, по обыкновению строгая, сдержанная, всегда критически смотревшая на курсистку-племянницу, на этот раз обняла и поцеловала меня, с видимым удовольствием, оглядывая моё парижское траурное платье.
– Наконец-то на человека стала похожа! Одета прилично и причёска по моде, и как ты похорошела! Боже мой! Повернись-ка… Да-да! Вот что значит Париж!
Все двоюродные братья, женатые и неженатые члены многочисленной семьи тоже говорили мне комплименты. Я удивлялась. Туалет – до сих пор оставался для меня непроницаемой тайной, и я была радехонька вместе с поступлением на курсы одеть традиционное платье курсистки: черную юбку и простенькую блузу. Прическа – то же самое. Сколько ни учили меня завиваться, причесываться, – я не изменяла гладко причёсанным волосам в одну косу. В Париже я невольно усвоила общую манеру – пышно взбивать волосы и делать тщательную прическу. И никак не воображала, что вместе с платьем это произведёт такой эффект. И, под влиянием всех этих похвал и комплиментов, посмотрелась в зеркало. Ну да, действительно, что-то не видать прежней курсистки.
Тётя была очень довольна, и не удержалась, намекнув, что её приглашение было не без дипломатической подкладки: есть жених в виду…
Я вспомнила совет Ленселе, и рассмеялась. Как кстати, если бы тётя знала! что же, посмотрим, что за жених.
И я последовала за тётей в изящную маленькую гостиную, любимое место её интимных разговоров. И садясь у ног её на пушистом бархатном ковре, шутливо сказала:
– Если вам пришла такая охота заниматься сватовством… – к вашим услугам.
– Нет, Лиза, – на этот раз нечего смеяться. Пока ты училась на курсах, – тётя с сожалением вздохнула, в тоне её голоса зазвучало бесконечное снисхождение к людской глупости, – так уж и быть… Но теперь – курсы кончены, пора и замуж. Ты вздумала ещё изучать юридические науки – а много ли потом заработаешь? Тебе уж 25 лет; средства у тебя небольшие, вечно одна. А ведь в Писании сказано: “не добро человеку быть одному”… помнишь?
Ещё бы не помнить! С детства заученные тексты точно выжжены в памяти, и, несмотря на всё желание, – никак не забываются.
– Ну, так вот. Партия представляется превосходная. Не только для тебя – для своей дочки я не желала бы лучше.
И тётя горестно вздохнула. Бедная, она второй год страдает в своей уязвлённой материнской гордости; её единственная дочь, которую предназначали неведомо какому миллионеру и шили приданое во всех монастырях Поволжья, – влюбилась в бедняка-репетитора, студента и обвенчалась самым романическим образом. Второй год прошёл; он очень мало зарабатывает литературным трудом, и кузина должна сама себя содержать {Ю. Балтрушайтис и М. Оловянишникова.}… Этого ли ожидала тётя, мечтая о дворце для своей Тани!
Наши курсистки из интеллигенции, бывало, возмущались, когда слыхали подобные воззрения на брак. А я так вполне понимаю их: в нашем купеческом быту всё счастье, всё благополучие жизни построено на деньгах. И вот тётя искренно думала устроить хоть моё счастье, если не удалось создать его для родной дочери.
И я, тронутая, протянула руку.
– Очень вам благодарна, милая тётя, но…
– Послушай, Лиза, зачем “но”? Дело серьёзное. Это товарищ по университету Таниного мужа, Соколов, прекрасно кончил курс, занимается у отца на фабрике… богачи страшные… Он слыхал о тебе; хочет познакомиться. Вот завтра ты поедешь к Тане, он у неё бывает каждый день…
Я молчала. Всё это говорила тётя так ясно, так неоспоримо разумно… одного только тут не хватало: любви…
Москва, 18/5 апреля.
Сегодня день рождения кузины. Тётя не поехала её поздравлять, очень устала от церковных служб, а послала подарки со мной.
Кузина – нарядная, весёлая, счастливая – встретила меня в прихожей, смеясь с особенным лукавым видом. Очевидно, она действовала заодно с тётей…
Я сделала вид, что ничего не замечаю. В столовой сидели друзья её мужа – их было двое – один пожилой, а другой молодой. Кузина представила их. Пожилой оказался художником, а молодой тем “женихом”, о котором говорила тетя. Я взглянула на него с предубеждением. Но нет, в нём ничего особенного не было: спокойные, слегка расплывчатые русские черты лица, внешность, если не красивая, то и не безобразная.
Он свободно, непринужденно заговорил со мною о загранице, о литературе, об искусстве, оказался чрезвычайно начитанным и очень интересным собеседником. Кузина с тонким тактом вставляла в разговор свои замечания; муж её и художник спорили о каких-то вопросах. Время пролетело незаметно до полуночи; я стала собираться домой.
Кузина живёт на Пречистенке, тётя на Покровке, а он – на Таганке. Дорога предстояла длинная, и мы пошли вместе пешком.
Я уже начинала находить моего собеседника симпатичным, когда он случайно упомянул о своей сестре.
Я слыхала, что у него есть сестра – некрасивая и очень несчастная одинокая девушка. И мне захотелось узнать, как он к ней относится, такой ли он хороший брат, как говорила кузина. Кстати, он как раз рассказывал, что ездил с ней прошлым летом в Норвегию и жаловался, что с ней “невозможно путешествовать, все устаёт, ходить не может”…
– Отчего же вы не сообразовались со здоровьем вашей сестры? – спросила я.
– А мне-то что до неё за дело?! – откровенно признался он… – Я ведь не для неё ехал, а для собственного удовольствия.
Он рассуждал так в тридцать лет. Откровенный эгоизм и грубость – в такие годы! Я пришла в ужас, и невольно, инстинктивно сравнила его с тем, кого видела там, в Париже… какая разница! как в том развито тонкое, глубокое понимание души! И мне он стал не так интересен. Дойдя до ворот, мы простились…
19/6 апреля.
Несмотря на страстную пятницу, на то, что у всякого в доме хлопот по горло перед праздником, кузина всётаки приехала сегодня к тёте. Я сидела у себя в комнате и читала, когда горничная передала, что тётя просит придти к ней в спальню.
Едва я вошла, – “Поздравляю, поздравляю!” – вскричала тётя.
– Это с чем? – удивилась я.
– Не притворяйся, полно, нечего, ты ему очень понравилась – первое впечатление было самое прекрасное, остаётся только продолжать.
– Конечно, конечно, – подтвердила кузина. – Не к чему вовсе за границу ехать. Оставайся-ка лучше здесь.
– Но я уже подала прошение о выдаче паспорта.
– Эка важность! Дело серьёзное, а она с паспортом. Оставайся, – сказала тётя.
Я всё ещё думала обратить разговор в шутку. Но ни тётя, ни кузина не шутили.
– Тебе уже двадцать пять лет! В твои годы я уже пятерых родила! А она по белу свету скитается! Тут о ней заботишься, а она заладила своё “еду” – прости, Господи, моё прегрешение! – в страстную пятницу и то рассердила. Ну, как хочешь. Некогда мне долго с тобой разговаривать, сейчас к вечерне зазвонят, надо в церковь, – сказала тётя раздраженно, подымаясь с места. – Делай, как знаешь, только после на себя не пеняй.
И тётя торжественно вышла из спальни. Шлейф её роскошного чёрного шёлкового платья, казалось, укоризненно шуршал, медленно удаляясь в коридоре.
Мы с кузиной остались вдвоём в спальне.
– Ну вот, мама на тебя рассердилась, а я добрее её несколько, – проговорила Таня своим серебристым нежным голоском, который составляет одну из её прелестей и немало сводил с ума поклонников.
– Охота тебе, Таня, заниматься сватовством, – примирительно заметила я.
– Видишь ли, моя милая, есть одно хорошее житейское правило – лови момент. Тебе пора выйти замуж. С этим все согласны. В глубине души и ты сама, быть может, согласна, да только не говоришь. Ну, пусть, твоё дело.
Я опять вспомнила в эту минуту совет Ленселе, – и порадовалась, что его никто не слыхал. То-то бы торжествовали эти житейские мудрецы!
А кузина продолжала:
– Так вот. Представляется случай сделать прекрасную партию. Ты ему понравилась. От тебя зависит продолжать. А ты едешь там сдавать какие-то экзамены, да ещё больше чем на год. Пойми, что ты делаешь: упускаешь такой случай. Чего ещё тебе нужно: молод, образован, и – кузина добавила деловым тоном – и очень богат. В наше время это одно из существенных достоинств, которым пренебрегать нельзя…
Мне хотелось сказать ей: и так рассуждаешь ты, сама вышедшая замуж по любви, против воли родных? И вдруг я вспомнила, что тётя очень богата, что кузина вполне и навсегда обеспечена.
Да! ей, богатой невесте, можно было выбирать себе жениха по сердцу, она могла идти, за кого хочет… её средств хватит на двоих. А я…
И передо мной промелькнула перспектива предстоящей трудовой серенькой жизни. Именно серенькой… Деятельность, вечно ограниченная рамками закона, который не позволяет нам, женщинам, создавать более широкие планы будущности… однообразие одинокой жизни…
А демон-соблазнитель в лице элегантной молодой женщины сидел в качалке и, улыбаясь, говорил: “Останься лучше”…
Я вспомнила курсы и наши пылкие мечтания о работе на пользу народа… и мою гордую радость, при мысли, что, изучая юридические науки, я прокладываю женщине новую дорогу и потом буду защищать её человеческие права… И за один призрак буржуазного существования – я откажусь от своей цели, пожертвую своими убеждениями?
– Нет, Таня, как только выдадут паспорт – уеду… Надо скоро вносить деньги за последнюю четверть года.
Кузина молча пожала плечами. И когда в прихожей, прощаясь с ней, я протянула руку, то прочла в глазах её невысказанное слово “дура”.
22/9 апреля.
Вчера у тёти целый день был приём по случаю первого дня праздника. Визитёры, попы, яйца, поцелуи, пасхи, куличи… в роскошно убранных комнатах, среди живых цветов, среди разодетых по-праздничному людей праздник, казалось, совершался медленно и важно. Несмотря на все мои уверения, что я не хочу снимать своего траурного платья, тётя купила-таки изящный белый шелковый корсаж, заставила меня его надеть и выйти к гостям.
– Такой великий грех – быть на Пасхе во всём чёрном! В моём-то доме! уж извини – я этого не допущу…
Увы! как хорошо знаю я с детства эти слова: “не допущу!”, “не потерплю!”
Но из-за корсажа не стоило спорить и смущать душу набожной тёти. И я покорно надела его, причесалась и вышла к гостям.
Вечером, усталая от этой беспрерывной церемонии празднования первого дня Пасхи, я и укладывалась к отъезду. Паспорта ещё не прислали, начинаю беспокоиться. Тётя не сочувствует моим сборам и молчит. Она, очевидно, оскорблена в своей гордой уверенности, что я послушаюсь её.
Мне это больно и неприятно.
Я вовсе не хочу ни ссориться с ней, ни огорчать её… но и поступиться своей свободой не согласна ни на шаг. Поэтому я всячески стараюсь угодить ей в мелочах, спрашиваю, не надо ли поручений, вообще – изъявляю полную готовность быть в Париже комиссионером по части мод. И, кажется, немного успела. По крайней мере, от моих разговоров тётя призадумалась и решила дать какие-то поручения.
А я стала какая-то бесчувственная… точно деревянная… всё делаю машинально…
24/11 апреля.
Паспорт получен; сегодня же вечером выезжаю скорым поездом в Париж. Тётя дала поручение – купить накидку у Ворта или Пакэна. Мы простились дружелюбно, хотя со стороны тёти всё же заметна была некоторая сдержанность.
Париж, 30 апреля.
Вот уже третий день, как я здесь. За эти пять недель весна вступила в свои права: деревья покрылись зеленью, сады пестреют цветами, фонтаны бьют, на улицах серые платья и шляпы… Передо мной был светлый, ласкающий Париж, весь залитый яркими лучами весеннего солнца. Меня опьянял этот блеск, шум, эта ослепительная красота города в весеннем наряде…
Вот как отдохну немного, исполню тётины поручения, так и пойду туда, в Бусико…
4 мая
Если когда-нибудь женщина может искренно повторять слова молитвы – “и не введи нас в искушение”, так это переступая пороги храмов моды в rue de la Paix {Улица Мира (франц.).}. Название этой улицы неверно. Какой там мир! Те зрелища роскоши, на которые натыкаешься там на каждом шагу, прогоняют скорее последние остатки душевного спокойствия и мира и поселяют смуту, злобу, недовольство…
Её вернее надо бы назвать rue de la Mode {Улица Моды (франц.).}. <…>
Я начала с Пакэна. И сразу попала точно в волшебное царство. Вся квартира была белая: белая мебель, белые потолки, стены лестницы. Лёгкая лепная работа придавала им что-то воздушное. Казалось, что вошла в какой-то лёгкий белый храм… и в этом храме, среди сдержанного говора, совершалось благоговейное служение идолу моды.
По мягким коврам бесшумно и грациозно скользили взад и вперёд высокие, стройные красавицы в разных туалетах. Сверкали шитые золотом и серебром газовые бальные платья, пестрели костюмы для прогулки, медленно и лениво волочились шлейфы, дезабилье из тончайшего батиста и кружев валансьен. Это были не платья, а поэмы в красках, в тканях, такие же создания искусств, как картины в Лувре.
И от этой пёстрой, почти фантастической картины кружилась голова… Эта ослепительная красота роскоши, блеск, изящество гипнотизировали взгляд и властно притягивали к себе…
Я стала неподвижно, и с трудом соображала, зачем пришла, когда подошла продавщица спросить, что мне нужно.
– Накидку летнюю… для пожилой дамы.
Вдоль стены в открытых шкафах висели модели; в стороне на столах они были наброшены целыми грудами… Заказчицы подходили и выбирали, а надзирательница звала свободную примеряльщицу, надевала на неё платье, и живая модная картинка начинала прохаживаться взад и вперёд… а дамы сидели и следили, соображая, оценивая эффект костюма.
Продавщица подошла к одному из шкафов.
– Вот модель, – сказала она, вынимая из массы вещей нечто вроде хитона из розового шёлкового крепдешина с греческими рукавами, по которому потоком бежали чёрные кружева и бархатки… Я сначала не поняла, что это такое, и можно ли серьёзно носить такую необыкновенную вещь, какой у нас даже на сцене не увидишь.