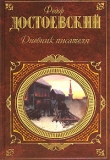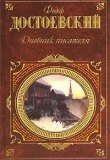Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Нет, – отвечала я, опустив голову, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.
– Не может быть! Невероятно! – воскликнула Кларанс.
– Я вам говорю правду, – лгала я, как когда-то в Англии “хозяину”.
Мне казалось, что я оскверню свою тайну, если её выдам… <…>
– Должно быть, вы стоите за добродетель? <…> Видите ли, по-моему, люди напрасно так рассуждают о добродетели. Девственность отнюдь не добродетель, а скорее – противоестественный порок. Ведь мы как созданы? а? К чему же нам атрофировать то, что дано природой? Мы должны жить согласно её законам. И величайшая ошибка всех религий лежит в том, что они возводили девственность и воздержание в культ. Вот почему я и ненавижу буржуазную мораль. Она вся построена на культе именно такой добродетели. А добродетель вовсе не в этом, а в отношении к другим людям. <…>
– А сами вы девственны?
Кларанс почти покатилась со стула.
– Вот так вопрос!.. Ох, какое же вы дитя, какое дитя! Конечно, нет, я люблю, как хочу, свободною любовью, и замуж никогда не пойду. <…> Видите ли, замуж нужно выходить только тогда, когда хотите иметь детей. А я не хочу. <…> Сами посудите, какая я мать? Жалкая калека. В детстве у меня была страшная болезнь… я осталась жива, но ноги – как последствия её – атрофированы. Я немного истеричка. Какую бы наследственность я им передала? <…>
– Вы – честная, хорошая женщина, и как я вас люблю!
Кларанс взяла мою руку в свои, тихонько пожала их и печально вздохнула.
– Да, жизнь надо производить осторожно… она слишком тяжела. В этом земном существовании мы искупаем ошибки предшествующих…
– Что вы хотите этим сказать? – спросила я в недоумении.
– Мы живём – грешим, не так ли? – спросила Кларанс.
– Ну, да.
– Так вот, для искупления их, душа после нашей смерти входит в тело другого человека, чтобы в новой жизни изгладить ошибки старой.
И, видя явное недоумение на моём лице, объяснила: Я занимаюсь оккультизмом и магией.
– Это ещё что такое? – удивилась я.
– Видите ли, человек состоит из трёх начал: тела физического, тела астрального и души. Из каждого человека исходит ток – fluide, посредством которого он может влиять на других людей: хорошо или дурно, смотря по тому, какой ток от него исходит.
Моё удивление не имело границ. Я испытывала такое ощущение, будто предо мной открыли дверь в какую-то таинственную тёмную комнату и заставили смотреть туда, и я ничего не видела. <…>
– Душа наша бессмертна. Я – не боюсь смерти. Я убеждена, что возвращусь в этот мир снова в виде новорождённого младенца… и опять буду жить новою жизнью.
– И у вас не останется никакого воспоминания о предшествовавшем существовании?
– Нет.
– Какое же это “бессмертие души”, раз от нашего “я”, со всеми нашими мыслями и чувствами, не остаётся ничего? <…>
– Душа наша меняет своё содержание. Проходя через несколько существований, она совершенствуется нравственно. Это объясняет кажущееся несправедливым с первого взгляда. Почему, например, одни с детства уроды, калеки? Ведь они сами не сделали никому ничего дурного. А между тем, этой теорией всё объясняется: значит, душа эта в предшествовавшем существовании делала очень много зла и теперь искупает свои грехи… Я, например, калека – значит, раньше много грешила, и теперь я должна совершенствоваться нравственно.
Однако, каких только нелепостей не придумают люди; уж подлинно – фантазия человеческая неистощима, – подумала я, но ничего не сказала, желая дать ей высказаться до конца.
– Каждого человека сопровождает дух – Guide. У меня руководитель – дух 18-го века. Я его вижу. Я ведь visionnaire {Визионерка (франц.).}. И мать свою вижу: вон она тут, в саване, около меня на диване.
Я инстинктивно обернулась – на диване никого не было. Что с нею? – с опасением подумала я.
Но Кларанс сидела совершенно спокойно… <…>
Я пожала плечами. Суеверие в Париже в двадцатом веке принимает формы соответственно требованиям прогресса. Что ж с этим поделаешь? <…>
28 ноября, четверг.
Встретилась с Danet на лекции.
Он приходит, как и я, не каждый день. Хитростью отделавшись от Бертье, чтобы остаться одной с ним в коридоре, я спросила, как идёт работа ложи {См. запись от 16 ноября 1901 г.}.
– Отлично! Вчера особенно весело было: мы были приглашены завтракать, и с нами в зале интернов было одиннадцать женщин.
И он был интерном в Брока! Я стиснула пальцы так, что кости захрустели, но всётаки шла рядом с Danet, улыбаясь и глядя на него.
– Вот как вы веселитесь!
– Это не мы, а интерны. Они-то веселятся вовсю. Их положение очень выгодно, впереди – карьера, живут в своё удовольствие. Впрочем, иногда – до безобразия доходят. Вчера, например, один пристал ко мне с непристойными предложениями, я, понимаете, с трудом сдержался дать ему пощёчину. Я люблю женщин, но слава Богу, не так ещё извращён, чтобы… Что с вами? вам дурно?
– Ничего, ничего… я рано встала… не завтракала… голова кружится…
Я сделала сверхъестественное усилие, чтобы не упасть и держаться прямо. И это удалось. <…>
– Послушайте… я хочу попасть на этот бал… слышите? Просто как иностранке мне нужно посмотреть, что есть наиболее интересного в Париже.
Danet с сожалением развел руками:
– С удовольствием бы, но… не могу.
Так вот как?!
Я буду на этом балу…
29 ноября, пятница.
Был Бертье. Преданная любовь этого юноши глубоко трогает меня. В те дни, когда я не прихожу на лекции, он заходит ко мне, справляется, не нужно ли чего, исполняет всякие поручения. И при этом перед всеми держит себя как товарищ, так что никто на курсе и не догадается об его настоящем отношении ко мне. Сколько бы я ни разговаривала с другими – никогда ни слова упрёка или ревности. Словом, он безупречен. И я понемногу начинаю привыкать к его любви… Я так одинока, так несчастна, и это сознание, что существует хоть один искренно преданный мне человек – немного поддерживает меня. У нас не может быть общих умственных интересов, он слишком молод; но душа его прозрачна, как кристалл, и не загрязнена пока житейскою пошлостью.
Как хороша любовь! Настоящая, искренняя, преданная любовь!
Он показывал мне сегодня Консьержери {Тюрьма парижского парламента.}; по возвращении домой сели у камина чай пить… Я не зажигала лампы… в сумерках комнаты видно было, как красивые тёмные глаза Бертье смотрели на меня.
И я смотрела на него… и потом, сама не знаю как, меня обхватили сильные руки, и горячие губы прижались к моим губам. Я закрыла глаза.
– Милая, дорогая, любимая… полюбите меня – хоть немножко. Я буду и этим счастлив… Вся моя жизнь – ваша…– слышала я шёпот Бертье.
Ласка, давно, с детства не испытанная, окружала меня словно бархатным кольцом. Я инстинктивно обняла Андрэ и прижалась к нему.
Потом тихо отстранила его и сказала:
– Voyons… что же мы делаем?
– Я люблю вас!
– Но я серьёзно любить вас не могу… слишком много для этого причин…
– Я ваш паж… Cherubin {Керубино, персонаж комедии Бомарше “Женитьба Фигаро”.} …будьте моей крёстной, знаете – как в “Свадьбе Фигаро”… – шептал Бертье.
– Андрэ, мы делаем глупости.
– Позвольте мне любить вас и любите меня немножко. Мы уж и так друзья, – настаивал Андрэ.
И я позволила быть ему моим пажем.
Четверг, 5 декабря.
Danet давно собирался ко мне придти; встречаясь на лекциях, спрашивал, когда можно застать меня дома. Но всё не шёл.
Сегодня я вымыла волосы и сушила их, распустив по плечам. Мягкие, длинные, они покрывали меня как шелковистым покрывалом.
Пришел Danet.
– Bonsoir, mademoiselle… и он запнулся, с восторгом глядя на меня.– Какие волосы! Боже, какие волосы! Я никак не подозревал… вот так красота.
Он забыл раздеться и, стоя посредине комнаты в пальто и шляпе, любовался мною.
“Он в моих руках”, – подумала я, и, не говоря ни слова, быстро подошла к трюмо, вынула большую чёрную фетровую шляпу с широкими полями a la Rembrandt, надела и медленно повернулась к нему. Я знаю – это так ко мне идёт, что его артистическое чутьё не должно было устоять.
Danet действительно терял голову.
– О, как вы хороши! Картина! Если вас одеть в пеплум, и так, с распущенными волосами, а я буду одет римлянином – да ведь это чудно хорошо будет. Произвели бы такой эффект! Слушайте, – мы поедем вместе на бал интернов, я сегодня же нарисую для вас костюм, а дома, у нас, его сошьют.
Я нарочно молчала.
– Хотите, я готов сделать для вас всё, всё, только бы вы позволили видеть себя такой… Что за волосы! я никогда таких не видывал… Что ж вы молчите? Так едем вместе на бал, да? Ведь это такое интересное зрелище в самом деле. Это надо увидеть хоть раз в жизни.
– Поедем… – с расстановкой проговорила я, и, медленно подняв глаза, окинула его взглядом, в котором он мог прочесть, что хотел…
Он с жаром поцеловал мою руку.
– Теперь давайте чай пить, русский чай, с лимоном. Вы никогда ещё не пили? так вот, попробуйте…
И сняв шляпу, занялась хозяйством. Вся душа моя так радовалась… я увижу его на балу интернов, я увижу его.
И я кокетничала с Danet и позволяла ему целовать мои волосы. Ведь только через него я и могла попасть на этот бал, и чем больше он увлекался мной, тем вернее было то, что он сделает всё, и этого только мне и было нужно. <…>
7 декабря, суббота.
<…> Звонок… <…> В комнату влетел сияющий Андрэ.
– Я устроил ваше дело! нашёл учителя! согласен за двадцать франков в месяц давать два раза в неделю уроки по древним языкам и поправлять французские сочинения. Это мой бывший преподаватель, превосходный педагог. Вот его адрес. Пишите поскорее…
– Да неужели правда?! правда?! – и только присутствие Danet удержало меня броситься на шею Андрэ, и я ограничилась тем, что протянула ему обе руки.
– Не знаю, как вас и благодарить!
Андрэ видел, что он не один, и поэтому не хотел остаться ни на минуту.
– Я только забежал вам сказать, спешу в библиотеку. До свидания!
Он пожал руку Danet; я пошла проводить его в коридор.
– Для вас, для вас! – шептал он, обнимая меня. – Паж исполнил поручение крёстной… теперь – награда… награда.
Я чувствовала, как в темноте коридора блестели его глаза, и, взяв его голову, поцеловала беззвучным долгим поцелуем, чтобы никто ничего не слыхал, и потом потихоньку освободилась от его объятий… Заперла за ним дверь.
Danet, сидя в моей комнате, усердно рисовал детали костюма…
– Как хорошо будет! – повторял он. <…>
– Скоро ли бал?
– 16 декабря.
Как ещё долго ждать! как долго! Кажется, и не дожить до этого дня. <…>
10 декабря, вторник.
Я понемногу привыкла к свободной атмосфере гостиной Кларанс. Некоторые слова всё ещё остаются для меня тайной, но откровенность и смелость выражений уже не шокируют меня больше. <…> И ведь вся эта молодёжь нисколько не хуже других, тех, которые подходят к нам, молодым девушкам “из общества”, с безукоризненно почтительной манерой, вполне цензурной речью…
Мне интересно изучать эту мужскую подкладку. <…> Скульптор так и вертится около меня, впрочем – это слово не идёт к его неуклюжей грузной фигуре.
– Как вы хороши, как вы хороши! Вы вся создана для искусства… С вами можно сделать хорошие вещи,– говорил он сегодня по-русски, усевшись около меня.
– Перестаньте… уверяю Вас, мне надоели эти комплименты, – отвечала я.
– Это правда, а не комплименты. Я оцениваю вас с художественной точки зрения. Вы никогда не носили корсета?
– Нет.
–То-то и видно, что вы не изуродованы, как большинство женщин. Знаете что – позируйте мне! Я сделаю с вас красивый бюст и статую… и вам дам, конечно… Право! сделайте мне такое удовольствие.
– Для головы я согласна.
– А так, вся?
Я строго взглянула на него.
– Отчего нет? – нисколько не смущаясь, продолжал Карсинский.
– Оттого что… подобное предположение…
– Вот тебе и раз! а ещё считает себя передовой женщиной! Вот вам и развитие! Что ж, по-вашему, нечестно, неприлично – позировать для художника? <…> По-вашему, выходит, что ремесло модели как труд – презренно? А туда же – кричат всякие громкие фразы об уважении к труду… – неожиданно заговорил Карсинский серьёзно, искренне и убеждённо, чего я от него никак не ожидала… <…>
И Карсинский, грузно поднявшись с места, шумно двинул стулом и отошёл в другой угол.
Мне стало стыдно. И я подошла к нему.
– Послушайте…
Он поднял голову.
– Ну?
– Я хочу вам сказать, что вы не должны быть так резки; в данном случае и непривычка играет большую роль.
Он посмотрел уже более смягчённым взглядом.
– Хорошо, от непривычки можно избавиться – привычкой… <…>
14 декабря.
Получила от Danet письмо, что костюм готов, и я могу примерить его. Что я примерю у него на квартире – это было условлено и раньше, чтобы не узнала хозяйка. <…>
На широком турецком диване, обитом красным плюшем, лежал костюм: туника цвета mauve и пеплум – creme {Кремовый (франц.).} – всё из дешёвой бумажной фланели. Но этот материал казался дорогим и красивым в изящных складках костюма, который был сшит так, как шьют только здесь и нигде больше. <…>
Danet всё обдумал, как настоящий артист, – купил чулки, сандалии, ленту на голову и камни на неё наклеил…
Я, не раздеваясь, тут же на платье надела тунику и пеплум… Очень хорошо, как раз для меня. Как Danet снял мерку, я уже и забыла – кажется, длину и ширину груди, – однако, всё впору. И он смеялся над моим восхищением работой… <…>
– Ну, теперь я покажу вам пригласительные билеты. Надо вписать ваше имя. В Брока мне выдали дамский билет, не вписывая имени, по доверию. – Я сказал, что приведу с собой девушку-цветочницу… польку. Но всётаки имя вписать нужно, это формальность… Так какое же мы придумаем? По кортежу я буду римлянин, а вы моя вольноотпущенница.
Это слово мне напомнило что-то. Ах, вот!.. Да ведь в романе “Quo Vadis” {“Роман Генрика Сенкевича (1846—1916) “Камо грядеши” (1896).} есть вольноотпущенница Лигия… По-французски это только выходит не так красиво – Lygie {Lygie, в русском произнесении – “Лижи”, с ударением на второй слог.}, а лучше Lydia – это и по-русски также. <…>
16 декабря, понедельник.
С трудом дождалась конца урока Franco-English Guild. В четыре часа бросилась бежать домой, – и, вся запыхавшись, влетела в столовую, где madame Tessier с матерью спокойно дремали в сумерках, сидя у камина.
– Мадам Tessier, – вообразите, какая радость: встретилась только что с подругой, которая проездом в Париже всего на два дня. Мы так давно не видались, сейчас ухожу к ней в номер и не вернусь до завтра, полудня, – ночую у неё, вернее – всю ночь проговорим. Так что обо мне не беспокойтесь. Я сейчас ухожу, тороплюсь. До свиданья.
Мадам Tessier любезно пожелала мне провести приятно вечер с подругой, и я, покончив с этой неизбежной формальностью, поскорее собрала пакетик с полотенцем, мылом и разной туалетной мелочью – и поехала к Danet на rue Varin.
8 часов вечера.
Поскорее вынимаю из кармана заветную тетрадку и набрасываю последние строки.
Мы одевались в рабочем кабинете, который предоставлен в моё распоряжение. Danet и Шарль – в спальне.
– Ты готова, Lydia? – кричит Danet.
Вторник, 17 декабря.
Когда я вошла в спальню, мои товарищи уже оканчивали свой туалет.
Danet окинул меня быстрым взглядом, схватил карандаш, слегка провёл им по бровям, чуть-чуть тронул пуховкой лицо и торжествующим тоном воскликнул:
– Прекрасно! Посмотри теперь на себя – о, как ты хороша, Лидия…
И я увидела в зеркале прекрасную, бледную молодую женщину с тёмными бровями и волной белокурых волос, которые падали почти до колен туники цвета mauve и в белом пеплуме, который падал с плеч красивыми мягкими складками… Узенькая ленточка mauve с цветными камнями, надетая на лоб, придавала лицу какое-то таинственное выражение и глаза из-под тёмных бровей смотрели серьёзно и важно…
– Лидия, Лидия…
Danet любовался мной с восторгом артиста. В самом деле, – такая, какой я была в эту минуту, – разве не была я его созданием с ног до головы? Не он разве придумал и нарисовал этот костюм, – настоял на том, чтобы я распустила волосы, загримировал!
Здесь, в Париже, научилась я ценить и понимать внешность… И искренно, как ребёнок, залюбовалась своим отражением. Сознание того, что я хороша, наполняло меня всю каким-то особенным ощущением, делало почти счастливой… Серьёзная курсистка, суровая книжница, вся погружённая в науку – куда она делась?
Я сама себя не узнавала: мне казалось, что какая-то другая, новая женщина проснулась во мне…
Если бы кто-нибудь год тому назад предсказал, какой стану, я воскликнула бы с негодованием: “не может быть, немыслимо!”
Ведь я четыре года училась в Петербурге, и ни разу не полюбопытствовала пойти на костюмированный бал Академии Художеств.
А теперь… теперь ради него, – пойду не только на этот бал, но спустилась бы во все подземелья ада, если бы знала наверное, что встречу его там…
И я протянула Danet обе руки: “merci, merci, Georges.”
Он быстро оканчивал свой туалет перед зеркалом, и тоже слегка подвёл себе брови. Он был очень интересен в богатом костюме римского патриция: красная тога красиво оттеняла гордую темноволосую голову с римским профилем, а такого же цвета плащ свободно драпировался на его высокой, мощной фигуре!.. Казалось, этому бретонцу нужна была блестящая, театральная атмосфера, что он только и жил в ней, был действительно самим собой.
А бледный, худой, маленький Шарль рядом с ним казался ещё незаметнее в своей голубой тоге раба. Danet беспощадно торопил его, и бедный мальчик тщетно старался пристегнуть трико к тунике. Я помогла ему.
В девять часов мы уже выехали в Брока. Я сидела, как кукла, в углу кареты, бережно укутанная Danet в его длинный чёрный плащ, с головой, покрытой чёрным кружевным шарфом.
Карета остановилась у ворот госпиталя Брока.
Danet быстро выскочил.
– Ждите меня, – и исчез.
Ждать пришлось долго. Я совсем не привыкла быть одетой зимой не в мех, а только в суконный плащ; ноги в тонких чулках и сандалиях замерзали.
Холод мало-помалу пронизывал меня насквозь… казалось, кровь постепенно застывает в жилах… я закрыла глаза. И мысль о возможности схватить серьёзную болезнь, смешанная с сознанием того, что я скоро увижу его, – доставляла мне какое-то невыразимое наслаждение.
Я рада была замёрзнуть тут же, на улице, у ворот этого госпиталя, лишь бы он был там…
Сколько времени просидели мы так – не знаю.
Дверца фиакра отворилась, и показалась красивая темноволосая голова в венке из роз. Молодой человек сел рядом с Шарлем, за ним вскочил в фиакр Danet.
– Мой товарищ Michelin – Lydia – мой кузен Шарль… – торопливо представил нас Danet и велел кучеру ехать.
– Ты не очень озябла, Lydia? – тихо и быстро спросил он. Н-нет… – с трудом выговорила я. У меня все члены онемели от холода, и язык не поворачивался.
Через несколько минут фиакр остановился перед знаменитым Bullier. Перед ним уже собирались зрители, чтобы смотреть на съезд костюмированных.
Danet быстро и ловко высадил меня из кареты и повёл куда-то. Я шла с ним рядом, как в тумане, не замечая, куда мы идём и каким ходом… и яркий свет раздевальни совершенно ошеломил меня.
Небольшая лестница вела вниз в большой танцевальный зал, разделённый колоннами на три части. Он был пуст и слабо освещен.
– Погоди раздеваться, Лидия… Холодно. Что ж ты молчишь. Или замёрзла? Пойдем греться к печке.
Он повёл меня через всю залу, на другой конец, к одной из своеобразных печей невиданной мною доселе системы – не было видно огня, и теплота доставлялась большим медным рефлектором. Danet усадил меня около него, и сам стал тоже греться. Мало-помалу я пришла в себя, могла пошевельнуться и сознательно осмотреться кругом.
Зала была почти пуста. Никого ещё не было.
– Чего ж ты так торопился,Georges,– спросила я. – Мы так рано приехали.
– Наш кортеж формировался в Брока. Мне надо было сказать, что мы едем вперёд, – объяснил Danet. – Другие ведь идут пешком, а мы ехали – вот и вся причина.
Я увидела, что сидела на эстраде, которая шла вдоль всей залы и была уставлена столиками. Должно быть, это был ресторан. Danet отошёл в сторону, рассматривая зал. Я сняла шарф…
– Какие прекрасные волосы! – раздалось за моей спиной.
Я обернулась. Некрасивый субъект в костюме нищего римлянина фамильярно погрузил руку в волны моих волос.
– Да не про Вас! – резко оборвала я его, наклоняясь в сторону. Он быстро отошёл.
Danet всё это отлично видел и в ту же минуту был около меня.
– Послушай, Лидия, – прошептал он, обнимая меня за талию, – так нельзя. Ведь я же тебя предупреждал, что надо быть готовой ко всему.
– Но… это уж слишком скоро, ведь и бал-то ещё не начался, – оправдывалась я.
– Всётаки без резких замечаний, надо играть роль до конца… Куда это делся Шарль? Я поведу тебя в нашу ложу, видишь? – налево.
Мы сошли в зал и снова поднялись по ступенькам, входя в ложу. Она была, действительно, очень хороша и представляла террасу дома с видом на Помпею у подошвы Везувия… <…>
Зала мало-помалу наполнялась народом. Зажгли все люстры и ярко осветили пёструю толпу – тут была “смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний” {А. Пушкин, “Цыганы”.}. Египтяне, финикияне, средневековые монахи и пастушки Людовика XV, русские казаки и адвокат, алхимик и Пьеро – пёстрый поток наводнял залу…
Становилось жарко. Danet снял с меня плащ и унёс его в раздевальню.
На несколько минут я осталась одна…
Вдруг я скорее угадала, чем узнала его… Он шёл прямо на меня вдвоём с высоким красивым брюнетом, оба переодетые китайцами. Длинная коса смешно болталась сзади, так же как и длинное перо. Общий серьёзный вид его и очки составляли странный контраст с пёстрым костюмом.
Это он, – нет сомнения – это он!
Но нахлынувшая волна вновь прибывших подхватила и унесла их…
Впервые в жизни находилась я на костюмированном балу. Голова кружилась от массы разнообразных впечатлений.
– А, наконец-то, я нашёл тебя, Лидия! – обнял меня Danet. – Пойдём в нашу ложу. Там я тебя оставлю, – ты посмотришь, а я пойду танцевать. Он играл роль, как было условлено. И широким, видимым для всех жестом, но лишь едва дотрагиваясь до плеч, – обнял меня и осторожно поцеловал в лоб.
“Как это мило с его стороны, такая деликатность”, – подумала я.
– Вот стул, Lydia. Садись, Шарль, побудь с нею, – приказал Danet и исчез в толпе.
Рассеянно разговаривая с Шарлем, я искала в толпе его… пёстрая, многоголовая, она шумным роем двигалась по залу, – и нелегко было в ней найти его.
У меня уже начинала кружиться голова и глаза устали от этого беспрерывно движущегося потока, как вдруг вновь мелькнули китайские костюмы. Это он! И я скользнула за ним, как тень, увлекая за собой недоумевающего Шарля, который никак понять не мог, зачем я вдруг оставила ложу.
– Немного размяться, Шарль, – уверяла я, смотря, не отрываясь, вперёд.
Кругом веселье разгоралось… женщины – молодые, красивые, накрашенные, – и все доступные.
Я начинала понимать, что это за бал… и к чувству радости при виде его примешивалось острое сострадание.
А он шёл вперёд всё такой же серьёзный и важный, – не обращая внимания на женщин…
“Зачем он пришёл сюда, зачем? ведь он знает, что это за бал и всётаки пошёл… значит…”. Я чувствовала, если только увижу, что он, как и все, развратничает с женщинами – я не вынесу этого… убью её, его, себя…
Я задыхалась… рука инстинктивно искала какого-нибудь оружия, а его не было: я никогда не употребляю и не ношу его из принципа.
А теперь… о, будь они прокляты эти принципы! шагу мы, русские, никуда без них ступить не можем!
Полина Декурсель, полуиспанка, прямо сказала мне, что в день свадьбы покупает себе кинжал и револьвер, чтобы убить мужа в случае измены. Она так рассуждает: “Если я выйду замуж – не иначе как по любви. А если он изменит мне, то за мою разбитую жизнь – сам не должен жить”.
Я люблю его… он должен быть лучше других… а если ничем не лучше, так пусть погибнет и он, и я сама.
Мозг мой горел, в глазах заходили красные круги…
И вдруг меня осенила блестящая мысль, именно блестящая… <…> Я вспомнила, как Шарль вместе с носовым платком и портмоне взял ещё и большой перочинный нож и положил всё это в карман, который кое-как приколол булавкой под тунику.
– Шарль, дайте мне, пожалуйста, носовой платок. Я своего не взяла, у меня кармана нет…
Я знала, что неловкий Шарль, вынимая платок, наверное выронит и нож… Так и вышло. Он выворотил весь карман, и на пол выпал и нож, и портмоне, и какая-то бумажка и, кажется, даже… шпилька! Я наклонилась и, быстро подобрав нож, спрятала его в складки пеплума.
– Так вот как! вы приходите на бал точно в классы – с перочинным ножом, – так не отдам же я его вам.
Смущённый Шарль оправдывался, возился с карманом и просил отдать нож. Я отказалась наотрез:
– В наказание оставлю его у себя до завтра.
А сама, под складками пеплума, потихоньку открыла его и сжала ручку. И странно: я сразу успокоилась, словно какая-то сила и твёрдость от него сообщилась мне.
Но два китайца шли всё вдвоем. Danet разыскивал нас в толпе.
– Скоро полночь! пойдут процессии; пока очередь не дошла до нас – пойдём в ложу, Lydia, и посмотрим, – предложил он.
Чтобы он ничего не мог заподозрить, я тотчас же согласилась.
Мы с трудом нашли место у барьера ложи: она была переполнена.
Женщины – хорошенькие, весёлые, в самых разнообразных костюмах, – начиная от величавой египетской жрицы и кончая простой белой фланелевой туникой, – рассыпались по ложе.
Вдруг одна из них, сидевшая рядом со мной, исчезла и через минуту вновь появилась в одной газовой тунике, уже без шёлковой подкладки. Она спокойно прошлась по ложе. Две другие последовали её примеру: тоже сняли подкладку своих туник и отнесли в угол ложи.
Простота и непринуждённость, с какими эти женщины разделись тут же, на глазах у всех, – заставили и меня отнестись к этому совершенно спокойно. В такой атмосфере, в такой обстановке – это являлось естественным… Я осмотрелась: кругом мелькали голые женские фигуры или вовсе без одежды, или едва прикрытые прозрачным газом…
Сердце у меня почти остановилось: он входит в нашу ложу…
А вдруг он узнает меня? Как ни было нелепо подобное предположение – он близорук и никогда не видал меня без шляпы, – я всётаки инстинктивно прижалась к Danet. Тот прикрыл меня своим плащом.
– Что с тобой, Лидия?
– Так, ничего… мне хорошо с тобой… зачем только ты всё бегаешь к этим женщинам?
– Просто для развлечения.
Он со своим спутником вышли из ложи; очевидно, приходили только посмотреть живопись, не обратив никакого внимания на женщин, которые бегали в ложе.
Я вздохнула свободно! Так он не такой, как большинство… какое счастье! И я совсем забыла, что не он один вёл себя вполне прилично, что многие интерны были тоже одни, не приставали к женщинам, что хорошенький интерн с грустным лицом, который ехал с нами в карете, – тоже был всё время один…
Чем было объяснить такое поведение? Принципами, или только пресыщением благами жизни? Или же верностью своим любовницам, которых не могли почему-нибудь взять на этот бал? Кто их знает… я об этом не думала, – я видела только, что он всё время один – со своим товарищем, что, очевидно, бояться больше нечего…
Пёстрая толпа заколыхалась, раздвигаемая распорядителями. Шествие начиналось.
С другого конца зала показалась колесница, на которой высился гигантский фаллос из красной меди, обвитый гирляндами роз и красного бархата. Около него две нагие женщины раскидывались в сладострастных позах. Колесницу окружала весёлая толпа пляшущих, играющих, поющих жрецов и жриц…
Красота и откровенность этого зрелища – совершенно ошеломили меня… Колесница медленно двигалась кругом зала, и гигантский фаллос, окружённый женщинами, гордо высился над толпой.
Следующая колесница заставила меня вздрогнуть от ужаса и отвращения.
На операционном столе лежала кукла, покрытая полотенцем. Рядом с ней, в высоко поднятой руке, врач держал вырезанные яичники; его передник и полотенце были покрыты пятнами крови.
– Это госпиталь “des Enfants Malade” {Госпиталь Больных детей.} – вот программа, Lydia, – совал Danet мне в руки какую-то бумажку.
Что-то ещё будет?! – с ужасом подумала я и, обернувшись, – вдруг заметила вверху неприличный рисунок…
– Пойдём, пойдём скорее, Lydia – скоро наша очередь! – торопил меня Danet и, схватив меня и Шарля, потащил нас обоих куда-то.
В той части зала, где формировался кортеж, помещался летний сад и было страшно холодно.
Кругом суетились люди, накрашенные женщины взбирались на колесницы. На нашей уже лежал Помпеянец – высокий, рослый, красивый юноша, по типу – настоящий наследник римлян.
В первом ряду его друзей должен был идти Danet и с ним – я, его вольноотпущенница – Lydia. Нас окружили патриции, рабы, сзади – нищие. Распорядители бегали, суетились, уставляя нас.
Шествие тронулось. Danet обнял меня одной рукой, небрежно бросая другой монеты в толпу. У Danet от природы осанка патриция, так что он был чудно хорош… Я не смела поднять глаз… мне казалось, что я непременно встречусь глазами с ним…
Мы медленно двигались сквозь живую стену и сотни любопытных глаз. Я набралась мужества, подняла глаза и смотрела куда-то вдаль, стараясь не встречаться ни с одним из этих взглядов.
Мы два раза обошли залу; одну минуту показалось мне, что я прошла мимо него… не знаю… я в эту минуту инстинктивно вновь опустила глаза.
Когда мы вернулись в летний сад, Danet так же поспешно увёл меня обратно в ложу, чтобы не пропустить посмотреть другие процессии.
Остальные были очень хороши, вполне художественны по мысли и исполнению.
Госпиталь Неккер представлял союзников в Китае. Огромный китаец восседал на колеснице, по углам которой сидели курьёзные китайские куклы с огромными головами, которые качались в такт.
Я не успела понять, в чём заключалась процессия Notel Dieu, как в залу ворвалась весёлая компания поселян времени Louis XV, при сборе винограда и под звуки старинной музыки обходя весь зал… Древние египетские богини госпиталя Сент-Антуана – загадочные, как сфинксы, – двигались таинственно и важно.
И, как конец, – как дитя нашего века – бежала шумно cheminde fer de ceinture {Кольцевая железная дорога (франц.)} с локомотивом, вагонами, багажом и музыкантами, которые усердно во всю мочь играли какую-то пьесу, возбуждая общую весёлость.
Danet и Шарль исчезли из ложи – на раздачу призов. Я наблюдала женщин.
Одна из них – худенькая брюнетка лет под 40, вся накрашенная, – привлекала моё внимание. Она все время вертелась около нас, стараясь привлечь внимание Danet. Её жалкое, худое, с выдавшимися лопатками тело производило впечатление чего-то детского, беспомощного.
Я видела, как внизу в зале Danet танцевал. Как молодое животное, он наслаждался в этот вечер щедрою прелестью и красотой окружавших женщин…
– Смотри, Lydiа,– Диана, Диана.
– Кто эта Диана? – спросила я.
– Она позировала для Парижанки на Всемирной выставке. Молодая красивая женщина в чепце, с завитушками на висках, прошла мимо.