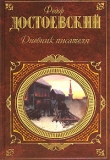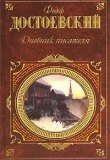Текст книги "Дневник русской женщины"
Автор книги: Елизавета Дьяконова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Село Устье, 3 июня.
После более чем двухмесячного перерыва – снова берусь за перо. Возвращусь к тому времени, – это для меня необходимо, так как в эти дни со мною произошло что-то странное.
Я всё время, с конца февраля, читала каждое утро по главе из книги Неплюева; это доставляло мне какое-то особое ощущение: я читала критику всей нашей жизни, некоторые страницы которой дышат такой искренностью, такой беспощадной правдой, что невольно вырывалось рыдание и сильнее чувствовалась вся неправда жизни, вся сила горя современного человечества… <…>
И странное дело: чем дольше я читала, тем более подвергала критике не только самую мою жизнь, вовсе не бывшую христианской, но и веру. Я старалась проанализировать собственное религиозное чувство, сразу не поддающееся объяснению; но было много времени, и вот, понемножку, в эти дни я думала и над своей “религией”.
В силу чего я верила? – В силу переданного традицией отчасти, в силу потребности своей души – тоже отчасти, так как известные религиозные воззрения были приобретены не лично мною, а усвоены с детства; не будь их – додумалась ли бы я сама до признания Бога? И я должна была ответить на этот вопрос честно: “не знаю”.
Мое религиозное чувство, проявлявшееся с детских лет… Чем, по большей части, оно было вызвано? – Моя младшая сестра постоянно твердила: “я не умею молиться”. Этого я никогда не понимала и не могла понять. С детства я молилась, и тогда душа моя находила особую отраду в молитве, и я понимала смысл произносимых слов… <…>
Потом… В гимназии я любила более всего всенощную; служба вечером казалась мне более поэтичной и торжественной, и искренно молясь, почти со слезами, за всенощной, я уставала и скучала за обедней и не стыдилась спать, выдумывая себе головную боль, чтобы не ходить в церковь и читать… В годы отрочества – лет в 14 – я опять вспомнила свою “веру”, начавшую становиться более сознательной, но которая всётаки не шла далее раскаяния. Я даже сначала не верила в теорию Дарвина именно ради того, что она расходилась с религиозными убеждениями, и была совсем сбита с толку, видя, что её принимают многие, называющие себя христианами. Сомнений же в существовании Бога у меня не было… <…>
С 21 года моё религиозное чувство всего сильнее оживало всего только два раза – перед поступлением на курсы и потом во время болезни Вали, т. е. оба раза под влиянием сильных душевных волнений, причём в последний раз оно было сильно только одно мгновение и затем сразу ослабло… <…>
И вот, пересмотревши всю свою жизнь, я невольно задала себе вопрос – “в чём моя вера”? – и какой же ответ на него давал мне беспощадный анализ?
– Первая вера была в силу твоей беспомощности, в силу склада твоей души, нуждавшейся в утешении и поддержке, не видевшей её нигде; твоя вера была в безотчётных порывах души к чему-то стоявшему выше пошлости житейской, в силу врождённой любви к поэзии… и только. Моя твёрдость, с которою я держалась за неё, несмотря на всевозможные возбуждавшие религиозное сомнение книжки, заставляла меня подвергать их критике и защищать “веру” от нападок, как нечто – необходимое для человека. Я с искренним сожалением смотрела на неверующих курсисток, называя их про себя людьми без твёрдых убеждений, не знающих смысла жизни…
О, жалкое, несчастное создание! Да был ли он, этот смысл, у тебя-то самой, в своём ослеплении воображавшей, что если она верит всему, что сказано в выученном наизусть катехизисе – то, значит, обладает и знанием смысла жизни? Ведь та же религия говорит – “вера без дел мертва есть”, – т. е. нет в ней, следовательно, и освещающего жизнь смысла. А ты, как фарисей, следуя выученной букве закона, не делая ни шага, чтобы провести эту веру в жизнь, ты – смела считать себя умнее этих людей, смела думать, что ты в сравнении с ними стоишь на твёрдой почве, потому только, что веришь в бессмертие души и будущую жизнь! Поистине – ты достойна презрения! <…>
Вспоминая свою “веру”, я нахожу в ней одно только честное, – что я всегда отделяла её от всякого общеобязательного credo. В наше время надо уже различать специфически-православных людей, с религией государственной, и вообще верующих. Я была из последних, так как до курсов по невежеству и политической безграмотности мне не приходилось сталкиваться с этим вопросом, а на курсах мою веру всегда глубоко оскорбляла грубо и резко выраженная критика православия и нашей государственности… А впрочем – ведь эта похвала отрицательная. Но если я дошла до падения – ничего, если упаду и ещё немного ниже!
Чем был для меня мой Бог? Думала ли я когда-нибудь о Христе? Странно: я много раз читала Евангелие, читала серьёзно, но мало вдумывалась в него. Однажды, ещё в детском возрасте, задумавшись над вопросом – что такое Бог? – я с ужасом почувствовала, что не понимаю Бога. Чем же был для меня Бог? – Чем-то идеальным, высоким, Кому я могла только молиться и жаловаться на свою жизнь, словом, Он был для меня фантомом (призраком) поддержки, и немудрено, что иногда после молитвы я чувствовала себя успокоенной… Самовнушение ведь играет здесь не последнюю роль… <…>
Хутор Замостье, 15 августа.
Невесело встречать каждый новый год своей жизни с сознанием, что ещё ничего не успела сделать для других и ещё не веселее – ясное сознание возможного запрещения всякой деятельности. Позволят ли мне открыть школу без обязательного преподавания “Закона Божия”? Конечно, нет. А идти на компромисс, я не пойду. Я слишком долго и упорно считала себя “христианкой” и “верующей”, – тем сильнее перелом, и нельзя, переживая его, согласиться кривить совестью. <…>
Для того чтобы жить в согласии с совестью, надо жить согласно своим убеждениям. Пусть другие легко относятся к вопросам веры, пусть они легко переносят официальное православие – я не могу!!
Куда же идти мне? Как мне жить, чтобы соединить разумный смысл жизни с убеждениями? В России это с трудом возможно лишь при полной материальной независимости. Педагогический путь для меня закрыт; будь у меня талант публициста, критика, ученого – я могла бы писать… но я не Добролюбов, не Писарев… не Соловьев и Костомаров. Если бы у меня была власть! Цари счастливы, и им можно завидовать только потому, что они могут сделать добра более, нежели простые смертные. Эмигрировать в Америку? Л-тина рассказывала мне о Т., у которого она жила в Америке три года, – его дети воспитываются совершенно свободно.
Да, вышла я, было, на дорогу и думала пойти по ней уже без препятствий; но спустился туман, не вижу теперь, – куда идти, и должна ожидать, пока не рассеется… <…>
Ну, однако, надо жить! Глубоко в сердце затаено сознание роковой ошибки, плода своего легкомыслия и неразвитости, – кто видит снаружи?
Пройдёт лет 50-60 и что останется от нас, от наших страданий? груда костей – и ничего больше. Точно ли ничего? Человечеству так свойственна вера в бессмертие души. Но я человек без веры, не знающая конечной цели своего существования – во что могу верить? Бессмертие пугает меня своей вечностью, а мысль о конечном существовании как-то ещё вяжется спорить с детства привитой идеей… И я запутываюсь в противоречии и, подобно Заратустре Ницше, восклицаю:
– Где я найду теперь для жизни силы,
И как перенесу я иго смерти?! <…>
11 октября.
Получила письмо от Тани; всё оно – сплошная жалоба измученного существа. “Удивительно складывается моя жизнь: я не знаю ни одной полосы из неё, которую я могла бы благословить, отдохнуть воспоминанием по ней. Вечное тяжёлое ожидание, бессмысленная борьба за то, что принадлежит мне по праву человека, полная нравственная отчуждённость от семьи, дикое непонимание меня, уродские отношения… Ну, да что говорить! Сама знаешь”…
Ох, слишком хорошо я это всё знаю! Пожалуй, лучше её… <…> У Тани на всем её страдании лежит яркая полоса разделённого чувства, а у меня что!? И этого не было. <…> Видит Бог (если есть Он), что не желаю я никогда испытывать любви, которая ведёт к браку, но до смерти я не перестану чувствовать неудовлетворённость сердца, ищущего братской любви и дружбы, – это да! Право же всё равно – мужчина или женщина, – только явился бы этот друг, с душою родственной, стоящий выше меня и любящий меня такою, какая я есть, тонко, без слов, понимая меня… <…>
Глубоко в сердце спрятала я эту потребность и никому не покажу никогда! Она во мне живёт и со мною умрёт! Я холодна и сурова на вид, – тем лучше, никто не догадается.
Валя, Валя! Сестра, с которой я сама же себя разлучила. Если бы ты была лучше сердцем и развитее умом! Но жизнь таинственно отводит её от меня, и кажется мне, что рано или поздно я буду ей ещё более чужой. Таня – вечно несчастная, слабая, сама нуждающаяся в поддержке и скорее способная принимать любовь, нежели давать её. <…>
Ну, что ж? Доктор Гааз был тоже одинок… Его великая по высоте душа несравнима с моей, и поэтому он был ещё более одинок, однако нашёл же он в своём сердце тот неиссякаемый источник любви, который освятил всю его жизнь.
13 октября.
Какой неприятный день пришлось пережить сегодня! Недели две назад я сдала в редакцию “Мира Божия” {“Ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал, выходивший с 1892 по 1906 г. Вёл полемику с народничеством с позиций “легального марксизма”.} мою заметку о школах и братстве Неплюева. Сегодня зашла за ответом. Редактор {Вероятно, Ангел Иванович Богданович (1860—1907) – критик, публицист.}, любезный и симпатичный господин, очень вежливо сказал: “Нет, это не пойдёт, рукопись можете получить теперь же”. Я расписалась, взяла тетрадь и вышла. Мне было очень досадно за свою наивность: разве можно было нести статью в такой журнал, да ещё написанную так небрежно! Я предназначала её для редакции “Ярославских Губернских Ведомостей”, в часть неофициальную, и признаюсь, писала её не очень-то заботясь о слоге, – ну и надо было отправить туда сразу, а не передумывать и не соваться с известной физиономией в суконный ряд. Вдобавок, в самую последнюю минуту дёрнула меня нелёгкая прибавить конец, который мог быть принят за страшную тенденциозность (разговор с марксисткой), за косвенную нападку на модное в наше время учение… Счастье мое, право, что не напечатали заметки, а то потом стала бы сожалеть. И сунуться в такой журнал, – ну могли ли её поместить?! Конечно, нет, хотя печатают бесконечные романы Потапенки {Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929) – беллетрист.}, но ведь то – всётаки имя, а тут дело идёт о таком явлении, которому вряд ли может симпатизировать прогрессивный во всех отношениях марксизм.
Теперь меня берёт раздумье, посылать ли и в “Ярославские Губернские Ведомости”? А ну как и там откажут? Там слишком консервативны, могут не пропустить… Чёрт возьми! Тогда – сожгу её… <…>
5 декабря.
Вечером я была у А-вых, где Н. Н. Неплюев читал свои статьи, подготовленные к конгрессу единого человечества, который должен состояться в 1900 году во время Парижской выставки. Н. Н. читал отчасти уже знакомые мне статьи о силе и значении любви. Есть у него немного режущие ухо выражения – “сладкие пирожки жизни”. <…>
После чтения статей, в короткой беседе с Н. Н. я узнала от него некоторые интересные известия: в Москве образуется кружок друзей мира и любви в среде Московского университета, ректор которого, проф. Некрасов, очень сочувственно отнесся к этому движению. Но зато как же несочувственно отнеслись к нему представители духовенства, и между ними проф. богословия в университете: они никак не могли понять, что возможно единение между верующими и неверующими на почве любви. “Какая любовь? Не надо любви! Надо исполнение долга!”
Наконец, кружок нашёл подходящего священника (присутствие которого на своих собраниях считают необходимым для того, чтобы их не заподозрили в сектантстве), который пошёл в священники по призванию.
Ещё утром я получила письмо от Марии Петровны с известием, что статья моя о братстве напечатана в “Русском Труде”, а вечером, здесь, она встретила меня похвалой статье, уверяя, что редакция осталась очень довольна ею.
6 декабря.
Вернусь к предыдущему.
Общество у А-вых собралось по большей части женское. <…> Дамы всех возрастов толпились около Н. Н. и взирали на него не то с уважением, не то с умилением. Слышался французский разговор… Признаюсь, мне было немножко смешно… также странным казалось и то, что лакеи разносили чай в промежутке… христианская любовь и… лакеи… Интересно бы знать, сколько часов работали они перед тем, как разносить здесь чай… В зале раздавались слова любви, а снаружи слышались выстрелы: в Галерной Гавани было опять наводнение.
И мне хотелось встать и сказать: “во имя любви – пойдёмте туда, в эти подвалы, помогать беднякам”. Никто бы не пошёл, и я нарочно не разговаривала с Неплюевым, пока он стоял, окружённый дамами…
Эх! Вот что значит принадлежать к известному кругу!
Дамы, милые светские дамы, окружили Н. Н. и смотрели на него чуть ли не с благоговением. “Точно на о. Иоанна Кронштадского”, – шепнул мне незаметно подошедший профессор. <…>
25 декабря.
Ну, вот настал “праздник ощущений”, по выражению Н.Н.Неплюева, праздник желудка, праздник глаз, ушей – чего угодно, только не духа. Хозяев и прислуги нет дома, и я спешу наслаждаться минутами полнейшей тишины, когда лучше думается… Наконец-то я выработала в себе силу переносить одиночество; нынешний год иду бодро по дороге, но, как и всегда, – живу двойственною, а иногда и тройственною жизнью. Последняя является лишь тогда, когда надо приспособляться к людям, вовсе мне чуждым, а двойственная – всегда и везде со мною: одна – на людях, с которыми приходится постоянно жить, а другая – для тех минут, когда остаюсь наедине сама с собою… Это случается редко: то я читаю, то пишу реферат, словом, стараюсь не думать, ни о чём не думать, а всего менее – об ожидающей меня будущности. Теперь я лучше отношусь к людям, чем прежде, но что же за голос вечно твердит мне “всё это не то, не то, не то!”? Когда я сталкиваюсь с людьми, я жадно в них всматриваюсь, как Вечный Жид, я всё иду и иду, ищу и ищу… найду ли? Нет! Судьба отнимает у меня моих близких, соединяя их с людьми мне несимпатичными: скоро я лишусь и второй сестры – Тани…
Как посмотришь, какое ничтожество мне всё приходилось встречать среди мужчин! Ни одного глубоко симпатичного, который бы отвечал на все стороны души… Я не идеал ищу – я сама не идеал, – а просто хотелось бы хоть раз встретиться с родственною мужскою душою, без малейшей мысли о какой-либо чувственной стороне. <…>
1899 год
24 января.
Вечером мы вдвоём {С М.П. Мясоедовой.} должны были ехать на собрание кружка у о. Григория Петрова {“Григорий Спиридонович Петров (1866—1925) – публицист, проповедник, соприкасался в религиозно-этических взглядах с учением Л. Толстого. Лекции и проповеди Г. Петрова были чрезвычайно популярны среди либеральной интеллигенции и в рабочей аудитории. В 1908 г. лишён священнического сана.}, который основал студент Б. Мы приехали вовремя, члены только собирались: пришли два студента, два медика, лесник, одна медичка, с высших курсов учащаяся была я одна, остальные – барышни, человек пять, мужчин же было гораздо больше, из них – о. Соллертинский {Сергий Александрович Соллертинский (+5 февраля 1920) – духовный писатель, протоиерей Никольского собора в Санкт-Петербурге, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.}, трое-четверо взрослых мужчин и, наконец, весьма ожидаемый профессор Вагнер. Всего собралось человек 25. Но странно было: люди, собравшиеся во имя единения, не соединялись, а разъединялись: мужчины входили в кабинет или сидели по углам, женщины собирались около стола с альбомами. Меня невольно поразила богатая обстановка квартиры, такой я не видала не только у своих профессоров, но даже у родных, людей очень состоятельных {Семейство Оловянишниковых.}. Огромный салон мог вместить в себя свободно 30-40 человек. О. Григорий, совсем ещё молодой человек, очень любезно встречал всех… <…>
Перед началом собрания Б. встал и предложил прочесть статью Меньшикова {Вероятно, статью М. О. Меньшикова “Дружеский союз”.} о дружбе. Собрание согласилось, лесник прочёл её. Она написана лет пять назад об этических обществах за границей, начало которым у нас положил профессор Вагнер несколько лет назад. В статье высказывались очень хорошие мысли о дружбе, единении людей. После прочтения такой статьи, по моему мнению, надо бы тотчас же перейти к обсуждению практического применения этих мыслей к нашим взаимным отношениям в данном случае. Но вышло не то. О.Соллертинский стал уговаривать профессора Вагнера быть председателем кружка, ввиду его заслуг на поприще основания этических кружков. Профессор отказывается. Его уговорили стать председателем хоть на это собрании. Он согласился… и тут началась та странная комедия, которая отняла весь смысл у этого собрания.
Профессор Вагнер начал свою речь с того, что заявил – верующие и неверующие должны разделяться. По его мнению, неверующим быть в обществе с верующими невозможно; а так как он сам верует в Бога, то и не может быть в обществе атеистов. Это звучало чем-то средневековым… Встал Б. и сказал, что он его предупреждал и раньше, что в этом собрании будут люди разных убеждений. Казалось бы, профессору оставалось только извиниться за свою бестактность, но старичок, стоя посреди гостиной, не соглашался. До глубины души возмущённая, я поднялась и сказала ему несколько слов о том, что если мы не можем верить, то это в силу того, что не имеем понятия об истинной вере, а те, кто показывают себя верующими, если у них есть истинная христианская любовь, – должны в данном случае ради неё не отказываться от общения с неверующими, если те сходятся с ними в воззрениях на нравственность. Я говорила – и голос мой невольно дрожал от волнения. Но профессор равнодушно-устало смотрел на меня и… опять-таки остался при своём мнении. Поднялся спор, не приведший, однако, ни к чему; из него мы узнали, что профессор был 14 лет атеистом и пришел к вере в Бога через спиритизм. И ему было не стыдно после этого говорить нам, молодёжи, прожившим одним десятком более этих 14 лет на свете, что раз он уверовал, то или нас знать не хочет, или же чтобы мы уверовали тоже. Выходило что-то недостойное… Наконец, профессор почувствовал, что надо “удалиться с честью” и обещал привести на следующий раз программы его этического кружка, наотрез отказавшись от председательства. Наверно, он не отказался вовсе от участия потому, что собирается сделать это в следующий раз. Но раз внесённый диссонанс продолжался и после его ухода. Поднялся спор об убеждениях, спор давний и беспонятный, потому что не было ещё примера, чтобы люди обращались к вере после словесного диспута. <…>
Наконец, на очередь выступил вопрос о нравственности. М.П. отвечала на него, конечно, с религиозной точки зрения, и мне, с моим незнакомством с Библией, показалось трудно следить за её мыслью, тем более, что она говорила быстро, а я была очень утомлена всем предшествовавшим. Помню только, что она настаивала на символическом понимании библейского рассказа о грехопадении человека, как противлении воле Божьей. О.Соллертинский одобрительно качал головою, собрание не спорило, так как все были утомлены, да и молодёжь, очевидно, не была расположена спорить, чувствуя невольную симпатию к этой девушке. По крайней мере, студенты не напали на неё, и я и медичка не возразили тоже.
Было уже 1 +. Я вышла с совершенно отуманенной головою. Нервы ли мои слабы, или в самом деле собрание носило такой характер, что куда ни придёшь, ничего не выходит… Вернее последнее. <…> “Нравственно ли это, возвращаясь с этического собрания, будить звонками усталых за день от работы людей? Нравственно ли нам во имя нравственности подобное переливание из пустого в порожнее?” И горькая ирония голоса совести мучила меня всё время… Ещё на собрании я подошла к о.Соллертинскому с этим вопросом, но он равнодушно ответил, что “на то они и прислуга”. А у меня на душе всётаки было нехорошо: мне, по обыкновению, было стыдно в глаза смотреть своему швейцару, когда он отпирал мне дверь.
Вопросы “жизни и нравственности” звучали сегодня таким диким диссонансом в стремлении нашем согласить их… Это будет похуже вопроса о вере и неверии, хотя я чувствовала, что на собрании “отцы” Петров и Соллертинский отнеслись ко мне очень симпатично. <…>
28 января.
<…> На курсах назначена генеральная репетиция (в костюмах) {Репетиция пушкинского вечера, посвященного 100-летию со дня рождения поэта.} <…>: решено было поставить 4 сцены – из “Русалки”, “Бориса Годунова”, “Полтавы” и “Евгения Онегина” – объяснение Татьяны с Онегиным. Я и В. с трудом были пропущены наверх, в залу, так как, кроме участвующих и членов бюро, посторонних не впускали. Там уже были все участницы апофеоза, частью одетые, я помогала им. Кого-то не хватало, суетились, бегали, кричали… VI аудитория была в полном беспорядке, – разбросанные направо и налево костюмы, на кафедре что-то вроде туалета; в соседней химической лаборатории – такая же картина… – “Марьи Ивановны нет! Где Марья Ивановна? Дьяконова, оденьте её платье, да встаньте в апофеоз!” – кричал мне кто-то. – “А говорить мне ничего не надо?” – “Ничего, скорей, скорей, Шляпкин {Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) – историк литературы, книговед, палеограф.} кричит, что она необходима, а её нет… Ну, ну!!” – и я не успела ничего сообразить, как очутилась в аудитории, наскоро разделась, и кто-то меня одевал, и кто-то стоял возле… Я разделила волосы пробором – получилась старинная причёска, которая так идёт ко мне, – и все в один голос воскликнули: “вот настоящая Марья Ивановна!” “Гринёв” подбежал ко мне, схватил меня за руку и не отпускал. “Он” был такой славный, толстенький, симпатичный. Скоро были готовы “Ангел” и “Муза”; не хватало только статуи Пушкина, которую мы не достали. Для чтения было выбрано стихотворение Полонского о Пушкине: “Пушкин – это возрожденье русской музы…” – и потом соответственные лица должны были повторять те строфы, которые относились к некоторым произведениям Пушкина. С этим было много хлопот: чтобы всякий знал свой No, и не перепутал… Шляпкин просто всё горло раскричал, – говорить было тихо нельзя за расстоянием и движением; он бегал, кричал, задыхался и… делал в сущности всё, так как помощниц среди нас ему не нашлось… <…>
12 февраля.
На днях приехала Таня. Пришлось мало заниматься – необходимо было поговорить и развлечь её. Её любовь к Д. в полном смысле слова можно назвать “больной любовью” – в нравственном смысле слова. И удивительно, до чего это всё напоминает мне роман сестры, всё то же самое: верчение около своего собственного “я”, полное отсутствие каких-либо широких идей, упорное игнорирование чужой душевной жизни и сосредоточение внимания около самих себя… больные люди! И опять я стою волею судеб рядом с ними, с любимой женщиной, и – помимо желания, – даже очень близко к их роману… <…>
13 февраля.
Пишу все эти строки в вагоне – железной дороги.
Вчера утром, идя на сходку на курсы, увидала телеграмму на моё имя и не сразу даже поняла её смысл: “Елизавету Александровну паралич положение опасно”… Вот оно, чего я всегда боялась! моя бабушка, моя родная! и перед моим вступлением в действительную жизнь судьба отнимает у меня самое дорогое?
До такой степени не верится такому несчастью, что мне пришло в голову подозрение: не нарочно ли тётя послала телеграмму, чтобы я уехала от здешних беспорядков, потому что в университете был скандал во время акта 8 февраля, вызванный распоряжением ректора (денежные штрафы со студентов и аресты за нарушение общественного порядка в день праздника), о котором он не предупредил заранее студентов. На другой же день была сходка и студенты решили сами добиться закрытия университета. У нас же сходка была 11-го, после философии. Решали вопрос: присоединяться ли нам, как учащимся, к товарищам и требовать ли нам тоже закрытия курсов? Большинство было против: студенты были оскорблены, главным образом, не распоряжением ректора, а поведением полиции, в этом им сочувствуют и профессора. Ну, а мы-то что представляем в данном случае? Не надо забывать, что университетов в России около десятка, а курсы только одни. А теперь как раз, говорят, намереваются открыть такие же курсы в Москве; что, если мы, своим неосторожным поступком испортим всё это дело, задушим его в самом начале? Таким образом, первая сходка выяснила, что большинство готово выразить моральное сочувствие студентам (чего, собственно, они и добивались, вполне входя в наше положение и отнюдь не требуя закрытия курсов), но против добровольного закрытия курсов.
Я пришла на сходку довольно поздно, и когда Д-го закрывала её, подошла к ней и просила позволения говорить завтра, когда должен был окончательно решён вопрос, примыкать ли нам к общестуденческому движению, именно – какой формой протеста. К сожалению, вчера я уезжала на родину, времени было мало, и, когда я на минутку прошла наверх, – VI аудитория была переполнена, так что нечего было и думать не только пробраться к кафедре, но и подойти к аудитории: все скамьи, всё около кафедры было заполнено народом, стояли даже за полузакрытыми дверями. Я вернулась домой. Перед отъездом пришла Юленька, недовольная настроением большинства, и рассказала очень печальные вещи: сходку вновь вела Д-го, которая, по всей вероятности, из угоды массе, изменив свои умеренные взгляды на радикальные, вела всё дело очень плохо, и масса, будто бы, пришла к решению тоже закрыть курсы.
Ах, до чего это всё глупо и детски-наивно! Досадно, что я не могла сказать ни слова с кафедры. И, как нарочно, вот уже второй раз мои семейные дела отвлекают меня от общего дела… <…>
Вчера, когда я ехала из гимназии с братом {По-видимому, с Александром.} мимо университета, – кругом него и по набережной стояла толпа студентов, перед входом в университет с набережной – отряд полицейских, а у главного подъезда – взвод конных какого-то войска, или жандармы – не знаю хорошенько. В этот день университет был закрыт по распоряжению правительства.
Что-то теперь делается у нас? Душа моя разрывается между противоположностями: там, в Петербурге, я оставляю свою вторую, духовную родину – курсы, а в Нерехту еду… что ждёт меня там? Сегодня мне уже приснилось, что я не застала бабушку в живых. Но подозрение, что это подстроено ради моего “спасения”, не выходит у меня из головы. Впрочем, в газетах известий о волнениях нет, и поэтому мать не могла ещё узнать ничего. Нет, должно быть, это правда. Но я не могу примириться с этим… Через три часа я буду на родине – что-то узнаю я?
19 февраля, Публ[ичная] Библ[иотека].
Третий день, третий день… Прямо с вокзала попала я в разгар истории. – Произошло что-то непонятное, тот гипноз толпы, вследствие которого все, потеряв голову, идут… куда и сами не знают. Два дня назад, когда было самое острое столкновение между двумя партиями, – казалось, целый ад был у меня в груди: нет, я не пойду за ними! никогда! Мне дорого существование В[ысших] Ж[енских] К[урсов], я не желаю рисковать судьбою единственного в настоящее время женского университета в России, а они, – чего хотят они?! – Закрытия курсов – ради того, чтобы этим примкнуть к студентам! – Да ведь университета не закрыть, а курсы с радостью закроют, у них так много врагов. И вот мы, небольшая партия человек в 50, дружно отстаивали дорогое нам учреждение, стояли за идею против сотенной толпы под градом насмешек, свиста и шума обструкции; среди этой массы были все, кто более или менее близок, все мои знакомые. Ах, как больно было сознавать всю бездну их недомыслия, с каким отчаянием сжималось сердце при мысли, что из-за этой толпы может погибнуть наше учреждение, а если уцелеет, – то не откроются другие, подобные…
Я пишу и волнуюсь… Нужно быть спокойным и беспристрастным во всём. У меня холодный анализ всегда является вслед за вспышкою увлечения. Обдумаем же теперь все происшедшее вполне хладнокровно…
20 февраля, утром.
Курсы, как и все высшие учебные заведения, закрыты. Когда я пришла туда – меня поразила необыкновенная тишина, лишь небольшая толпа курсисток бродила по коридору.
Теперь смутно на душе, и точно какой-то камень лежит на сердце…
Курсы закрыты; в каком же положении наша маленькая партия? Морально мы все на стороне студентов, только не сочувствуем форме, избранной для выражения протеста… Ну, и что же вышло? Дело только что началось, а впереди уже полная неизвестность.
Вчера я была у Е. Н. Щ-ной, и она встретила меня словами: “А мы, старые курсистки, собрались ехать к вам, чтобы сказать – прекрасно делаете!” Мне больно было ответить ей, что я принадлежу к меньшинству. – “Напрасно, – сказала она. – Мы переживаем в данную минуту исторический момент. Теперь доказывается полная непригодность многого, что мешает свободно работать… Курсы параллельны университету, и вам иначе поступить нельзя”.
Всё то раздвоение, и без того мучительное, которое я переживала в эти дни, поднялось с новою силою. Я почти не слушала Е. Н. и хотела в эту минуту только одного: остаться наедине с собою, со своею совестью. Но, к сожалению, нельзя было: пришлось рассказать Е. Н. обо всём, что у нас делалось. Со свойственной ей резкостью и лаконичностью она тотчас же выразила своё мнение о положении нашей партии. Она до того не понимает души человеческой, что всегда выражает своё мнение, не думая, что иногда это излишне. Так и теперь: мне пришлось выслушать, что мы в невыгодном положении, что самое лучшее – единение и т. п. Как будто я и без неё этого не знаю! Я возразила ей, ради чего мы стоим против большинства. – “Если вы опасаетесь, что будет затруднено открытие курсов в провинции – я вам скажу на это, что подобное опасение – не выдерживает критики. Курсы и без того в провинции не скоро откроются”. Потом она рассказывала мне, как благоприятно относятся к нам в обществе, всякие сочувственные отзывы, циркулирующие в столице…
Я поспешила уйти, и всю длинную дорогу от Щ-ной я думала о положении нашей партии. На душе было страшно тяжело. Вспоминая читанный бюллетень о событиях и обдумывая вновь всё происшедшее, – я начала колебаться. Выходило так: сочувствуя морально студентам и не примыкая к общему движению из осторожности, из боязни повредить делу высшего женского образования, мы как бы останавливаемся на компромиссе, и положение становилось тем более тяжёлым нравственно, чем сильнее была та партия. Рассматривая же свою осторожность с точки зрения вредных последствия для наших, собственно, курсов, я приходила к заключению, что опасаться не имеем основания, так как ничего политического в нашем движении нет, и всё сочувствие общества будет на нашей стороне, – да и курсы теперь настолько развились, что закрытие их в данный момент представляется маловероятным; с другой точки зрения, – препятствий для открытия курсов в провинции, – самая возможность открытия таких курсов пока ещё маловероятна. А следовательно, выходило, что наша осторожность из-за проблематического пункта – являлась уже излишней и ставила нашу небольшую группу положительно в ложное положение перед нашими же товарищами.