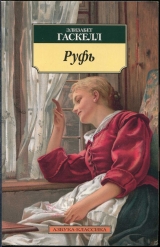
Текст книги "Руфь"
Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ГЛАВА III
Воскресенье у миссис Мейсон
В следующее воскресенье мистер Беллингам опять был у обедни в церкви Святого Николая. Знакомство с Руфью занимало его гораздо больше, чем ее, несмотря на то что в ее жизни эта встреча оказалась событием куда более значительным. Хорошенькая девушка произвела на мистера Беллингама какое-то странное впечатление, но он не подвергал это новое чувство никакому анализу и просто получал удовольствие, которое юности всегда доставляют новые и сильные ощущения.
Мистер Беллингам был еще очень молод, хотя и старше Руфи: ему исполнилось всего двадцать три года. Единственный сын у матери, и притом рано лишившийся отца, избалованный с детства, он не привык отказывать себе ни в чем. У него не было силы воли, которая приобретается годами и опытом. Мать обращалась со своим любимцем крайне неровно: то опекала, как малое дитя, а то потворствовала всем его прихотям, и все это крайне невыгодно отразилось на его характере.
Наследство, полученное им от отца, было невелико в сравнении с материнским имением. Это давало миссис Беллингам возможность по собственному произволу или капризу то баловать, а то приструнять и контролировать сына даже после совершеннолетия.
Если бы обращение мистера Беллингама с матерью отличалось такой же двойственностью, если бы он сколько-нибудь снисходил к ее слабостям, то, конечно, она, в слепой привязанности к сыну, охотно отдала бы все свое имение, чтобы доставить ему комфорт и блестящее положение в свете. Мистер Беллингам горячо любил мать, однако пренебрежение, с которым она приучила его относиться к чувствам окружающих, было причиной того, что он иногда без всякого злого умысла наносил ей глубокие обиды. Он передразнивал при миссис Беллингам священника, к которому она питала уважение, по целым месяцам не посещал ее школ, а если по настоятельным просьбам матери отправлялся туда с ней, то с серьезным видом задавал детям самые смешные вопросы, какие только мог придумать.
Все эти ребяческие выходки раздражали и оскорбляли миссис Беллингам гораздо больше, чем доходившие до нее известия о более важных проступках сына, совершенных в университете или в городе, – о них она избегала даже говорить.
При всем том миссис Беллингам имела подчас самое решительное влияние на сына и бывала в восторге, когда являлся случай выказать это влияние. Любое его подчинение материнской воле щедро вознаграждалось. Миссис Беллингам доставляло невыразимое счастье вынуждать эти уступки с его стороны любовью к себе, а не силой рассудка или убеждения – и если случалось, что сын отказывал ей в них, то делал это единственно для того, чтобы доказать свою независимость.
Ей очень хотелось женить сына на мисс Данкомб, но он и не думал об этом, полагая, что успеет жениться и лет через десять. Так проводил он свою пустую жизнь, то с удовольствием флиртуя с мисс Данкомб, то восхищая, то раздражая свою мать, но всегда и везде думая только о себе. Когда мистер Беллингам в первый раз увидел Руфь Хилтон, какое-то непонятное чувство овладело всем его существом. Он сам не мог дать себе отчета в том, чем она его околдовала. Правда, девушка была очень хороша, но он видел на своем веку много красавиц, умевших к тому же ловко пользоваться своими прелестями.
Наверное, было нечто чарующее в этом соединении красоты и грации женщины с наивностью, простотой и невинностью ребенка, нечто восхитительное в той робости, которая заставляла Руфь избегать его и уклоняться от его попыток ближе сойтись с ней. Мистеру Беллингаму ужасно захотелось приручить эту дикарку, как он приручал молодых оленей в парке своей матери.
До сих пор молодой человек ни разу не решился смутить Руфь ни одним страстным словом, ни одним смелым выражением восхищения ее красотой, надеясь, что скоро она привыкнет смотреть на него как на друга, а может, и на кого-то более близкого и дорогого.
Верный своей тактике, мистер Беллингам победил в себе сильное желание проводить Руфь из церкви до самого дома. Поблагодарив ее за сообщенные сведения о картине и сказав несколько слов о погоде, он поклонился и ушел. Руфь думала, что не увидит его больше никогда, и хотя она упрекала себя в глупости, но все-таки не могла справиться с чувствами: в дни, последовавшие за этим расставанием, ей казалось, что на ее жизнь легла какая-то тень.
Миссис Мейсон была вдова и имела шестерых или семерых детей, которых содержала своими трудами, и это отчасти оправдывало ту мелочную расчетливость, с какой она вела свои домашние дела.
Раз навсегда она решила, что по воскресеньям ее ученицы должны обедать и проводить весь день в городе у друзей или знакомых. Сама же она с теми детьми, которые не были отданы в школу, отправлялась на целый день к своему отцу, жившему за несколько миль от города. Вследствие этого по воскресеньям не готовили обед и ни в одной комнате не топили печей. Утром девушки завтракали в гостиной миссис Мейсон, после чего, повинуясь неписаному правилу, не входили в эту комнату в течение всего дня.
Что оставалось делать Руфи, у которой во всем городе не было ни одного знакомого дома? Ей приходилось просить служанку, отправлявшуюся по воскресеньям на рынок, купить булку или крендель, и это составляло ее праздничный обед. Надев бурнус, шаль и шляпку, чтобы предохранить себя от холода, который тем не менее пробирал ее насквозь, Руфь садилась в пустой мастерской у окна и смотрела на мрачную улицу, пока глаза ее не наполнялись слезами. Чтобы разогнать тягостные мысли и воспоминания, а также чтобы набраться сил для предстоящих на следующей неделе испытаний, она брала Библию и устраивалась у окна, выходившего на улицу. Оттуда была видна широкая, неправильной формы площадь и серая массивная, высокая колокольня. На солнечной стороне улицы прогуливалась нарядная публика, весело проводившая свои воскресные досуги. Руфь придумывала истории жизней этих людей, пыталась представить себе их домашнюю обстановку и их ежедневные занятия.
Потом раздавался тяжелый звон колокола, призывавший к вечерней службе.
Возвращаясь из церкви, она снова садилась к тому же окну и глядела на улицу, пока зимний сумрак не сменялся полной темнотой и звезды не начинали ярко блистать над темными массами домов. Тогда она пробиралась в кухню и просила свечу, которая помогла бы ей скоротать вечер в пустой мастерской. Иногда служанка приносила ей чая, но скоро Руфь стала отказываться от этого, узнав, что добрая женщина лишала себя небольшой доли продуктов, которые ей оставляла миссис Мейсон. Так сидела она, голодная, прозябшая, пытаясь читать Библию и вспоминая благочестивые мысли, приходившие ей в голову, когда она была маленькой девочкой и сиживала по праздникам на коленях у матери. Поздно вечером возвращались одна за другой ученицы, утомленные удовольствиями праздничного дня и ночной работой по будням. Усталые, они кратко и нехотя отвечали на ее расспросы о прошедшем дне.
Миссис Мейсон приезжала последней. Созвав своих «юных леди» в гостиную, она читала вслух молитву и отпускала их спать. Она неизменно требовала, чтобы все девушки оказывались дома к ее возвращению, но никогда не интересовалась, как и где они провели день. Возможно, она боялась услышать, что некоторым из них некуда идти, ведь тогда нужно было бы готовить обед и топить комнаты по воскресеньям.
Пять месяцев прошло с тех пор, как Руфь была отдана в учение к миссис Мейсон, и все воскресенья с тех пор проходили для нее одинаково. Правда, когда Дженни была здесь, она иногда развлекала Руфь рассказами о своих праздничных радостях, и, как бы ни устала к вечеру больная девушка, она всегда находила ласковое слово, которым вознаграждала подругу за скуку монотонного дня. После отъезда Дженни томительная воскресная праздность сделалась для Руфи невыносимее постоянного будничного труда. Так продолжалось до тех пор, пока для нее не блеснула надежда видеть по воскресеньям после обедни мистера Беллингама и обмениваться с ним несколькими словами – как с другом, принимающим горячее участие во всем, что она думала и делала в течение недели.
Мать Руфи, дочь бедного помощника викария в Норфолке, рано осталась бездомной сиротой и благодарила судьбу за возможность выйти замуж за почтенного фермера, который был гораздо старше ее. После их свадьбы все пошло дурно. Здоровье миссис Хилтон расстроилось, и она не могла наблюдать за хозяйством с той безустанной бдительностью, которую должна иметь жена фермера. Мужа ее постиг целый ряд несчастий, бывших куда серьезнее обычных фермерских неудач, вроде гибели выводка индюшат от ожогов крапивы или порчи годового запаса сыра по нерадению молочницы. Соседи судачили о том, что все несчастья мистера Хилтона связаны с его неудачной женитьбой – на слишком нежной и деликатной леди. У него случился неурожай, лошади пали, сгорело гумно. В общем, если бы подобные беды свалились на важного человека, то здесь заподозрили бы участие какого-то мстительного рока – столь непреклонно следовали беды одна за другой. Однако мистер Хилтон был самым обыкновенным фермером, и я думаю, что все его несчастья можно приписать отсутствию в его характере решительности.
Пока была жива жена, земные беды не казались ему такими ужасными. Ее привязанность и способность всегда надеяться на лучшее не позволяли ему впасть в отчаяние. Несмотря на болезнь, она всегда была готова поддержать других своим участием, и в ее комнате каждый находил одобрение и утешение.
Однажды летним утром, в тот год, когда Руфи исполнилось двенадцать лет, все ушли в поле на сенокос, оставив миссис Хилтон дома одну. Так часто бывало и прежде, но на этот раз она чувствовала себя хуже, чем обычно. Когда косцы вернулись и стали весело звать ее, ожидая увидеть уже накрытый стол, их поразило необыкновенное безмолвие, царившее во всем доме. Они не услышали обычного тихого приглашения «милости просим», никто не справлялся о дневных работах. Когда же вошли в маленькую гостиную миссис Хилтон, то увидели на ее любимой софе бездыханное тело. Мисс Хилтон лежала тихо и спокойно, покинув этот мир без предсмертных мук и страданий.
Страдания предстояли живым, и один из них – мистер Хилтон – не выдержал свалившегося на него горя. Первое время в нем не было заметно большой перемены, по крайней мере внешней. Память о покойнице не позволяла ему впасть в отчаяние, но день ото дня его нравственные силы все более и более ослабевали. С виду мистер Хилтон был совершенно здоров, как и прежде, но в нем произошла какая-то странная перемена. По целым часам он просиживал в своем любимом кресле около камина, пристально глядя на огонь, не двигаясь и не говоря ни слова без крайней необходимости. Когда Руфь, ласкаясь, упрашивала отца пройтись с ней, он неторопливо обходил свои поля, опустив голову, ни на что не глядя, не улыбаясь, не изменяя выражения лица, даже когда взор его встречал нечто такое, что должно было ему напомнить об умершей жене. А между тем дела его шли все хуже и хуже. Деньги утекали как вода, мистер Хилтон относился к ним совершенно равнодушно, и все золото Южной Америки не смогло бы вывести его из апатии. Но Господь Всемогущий, в неизреченной милости своей, знал нужное средство и послал прекрасного вестника, чтобы призвать к себе душу страдальца.
После смерти мистера Хилтона кредиторы оказались единственными людьми, принявшими какое-нибудь участие в его делах. Руфь с удивлением смотрела на этих господ, бесцеремонно разглядывавших и ощупывавших те вещи, которые она привыкла считать драгоценными. При самом ее рождении отец уже написал завещание. Гордый своим столь долго желанным отцовством, он воображал, что сам лорд-наместник графства почтет за счастье сделаться опекуном его дочери, но поскольку не имел чести быть знакомым с его превосходительством, то выбрал самого важного человека из тех, кого знал, хотя совсем и не близко, в период своего преуспевания. Зажиточный скелтонский фабрикант солода, не занимавший, впрочем, никакой почетной должности, немало удивился, когда его известили, что пятнадцать лет назад он был назначен душеприказчиком завещания в несколько жалких сотен фунтов и опекуном девочки, которую он никогда даже не видел.
Фабрикант оказался очень практичным и упрямым человеком. У фабриканта была и совесть, возможно даже побольше, чем у многих людей из его круга. Он не уклонился от обязанности, возложенной на него волей покойного, как это сделали бы другие, а тотчас созвал кредиторов, рассмотрел счета, продал все запасы, нашедшиеся на ферме, расплатился с долгами и положил около восьмидесяти фунтов в скелтонский банк. Потом стал хлопотать о том, чтобы поместить куда-нибудь в ученицы осиротевшую Руфь. Узнав о миссис Мейсон, опекун договорился с ней в два свидания и сам приехал за Руфью на двуколке. Он спокойно дожидался, пока девушка и ее старая служанка укладывали платья, но не мог сдержать нетерпения, когда заплаканная Руфь обегала сад, срывая с какой-то страстной любовью ветки своих любимых китайских и дамасских роз, которые цвели перед окнами ее матери. Пока они ехали в двуколке, опекун докучал Руфи практическими наставлениями о том, что надо быть бережливой и во всем полагаться на одну себя, однако Руфь едва ли слышала его. Она сидела тихо, безмолвно, пристально глядя вдаль и сожалея, что теперь не вечер и что она не у себя дома, где могла бы дать полную волю слезам. Однако ночь Руфь провела в одной комнате с четырьмя другими девушками и при них совестилась плакать. Она выждала, пока они не заснут, и тогда, спрятав лицо в подушку, судорожно зарыдала, останавливаясь по временам, чтобы вспомнить о счастливых днях, так мало ценимых прежде и так горько оплакиваемых теперь. Каждое слово, каждый взгляд умершей матери ясно представлялись ей, и Руфь снова принималась плакать о горе, так глубоко изменившем всю ее судьбу. Это было первое облако, омрачившее ее ясные дни. Участие, которое в ту ночь оказала Руфи пробужденная ее рыданиями Дженни, соединило их узами дружбы. Помимо Дженни, любящая натура Руфи, постоянно искавшая сочувствия и симпатии, не находила никого, кто мог бы вознаградить ее за утраченную родительскую любовь.
Однако незаметно для самой Руфи место Дженни в ее сердце заняла новая привязанность. Нашелся другой человек, готовый с теплым участием выслушать ее маленькую исповедь, расспросить о прежних счастливых днях и сам поведать ей о своем детстве, пусть не столь счастливом, как детство Руфи, но зато несравненно более блестящем. Мистер Беллингам рассказывал о прекрасном светло-коричневом пони арабской породы, о старинной портретной галерее в доме, о террасах, аллеях и фонтанах в саду. И обо всем он говорил так живо, что в воображении Руфи ясно рисовались описываемые им лица и события.
Не следует, однако, предполагать, что эта тесная дружба завязалась с первого дня знакомства. В воскресенье мистер Беллингам только поблагодарил Руфь за доставленные ею сведения о картине, а в следующие два воскресенья его не было в церкви Святого Николая. На третью неделю мистер Беллингам хотел проводить Руфь из церкви до дому, но, заметив беспокойство девушки, тотчас простился, и тогда ей захотелось самой вернуть его. Весь этот день показался ей очень скучен. Руфь сама удивлялась, почему смутное чувство заставило ее считать, что идти рядом со столь добрым и благородным джентльменом, как мистер Беллингам, было бы неприлично. Как глупо было с ее стороны так строго относиться ко всем своим поступкам. Нет, если он заговорит с ней когда-нибудь еще, она не станет думать о том, что скажут другие, а просто будет получать удовольствие оттого, что мистер Беллингам беседует с ней и испытывает к ней явный интерес. Потом Руфи пришло в голову, что мистер Беллингам больше не обратит на нее внимания, что ему, видимо, надоели ее отрывистые ответы, и ей стало досадно на свою грубость. В будущем месяце Руфи должно было исполниться шестнадцать лет, а между тем она все еще вела себя как совершенный ребенок, стеснительный и неловкий.
Так упрекала и бранила себя Руфь после расставания с мистером Беллингамом и вследствие этого в следующее воскресенье конфузилась и краснела в десять раз больше обыкновенного, что придало ей еще больше очарования. Мистер Беллингам предложил девушке, вместо того чтобы идти прямо домой по Хай-стрит, пройтись с ним по Лизовесу. Сначала Руфь не соглашалась, но потом, подумав, что нет причины отказываться от столь невинного, с ее точки зрения, удовольствия, к тому же обещавшего так много радости, согласилась прогуляться. Когда они вышли на луга, окаймлявшие город, восхитительная прелесть первого февральского проблеска весны привела Руфь в такой восторг, что она забыла все свои сомнения и всю свою робость. Более того, она почти забыла и о присутствии мистера Беллингама. Руфь разглядела на высаженных вдоль дороги кустах первые зеленые листочки, а среди прошлогодних листьев обнаружила бледные звездочки примул. Там и сям цветки чистотела расцвечивали золотом берега журчавшего вдоль тропинки ручейка, наполненного водами «февраля-водолея». Солнце уже начало клониться к горизонту, когда они вошли на самую высокую часть Лизовеса. Руфь не удержалась от восклицания при виде чудной картины, представившейся ее глазам: заходящее солнце обливало всю окрестность нежным светом, а все еще темный ближний лес на фоне золотого тумана и дымки заката отливал почти металлическим блеском. Весь луг кругом простирался не более чем на три четверти мили, однако же молодые люди ухитрились идти через него целый час. Когда Руфь повернулась к мистеру Беллингаму, чтобы поблагодарить за такую чудесную прогулку, его пылающий взгляд и раскрасневшееся лицо привели ее в смущение. Едва простившись с ним, Руфь торопливо вбежала в комнату с бьющимся от счастья сердцем.
«Как странно, – думала она, – почему мне все кажется, что эта милая вечерняя прогулка… не то чтобы неприлична, в ней ничего не было дурного, но словно бы не совсем правильный поступок? Отчего бы это? Я не обманывала миссис Мейсон, время было свободное. Конечно, другое дело, если бы я ушла в рабочий день, но по воскресеньям я могу ходить куда хочу. Притом же я была сегодня в церкви, и значит, чувство вины происходит не оттого, что я не исполнила свой долг. Хотелось бы мне знать, чувствовала ли бы я то же самое после прогулки с Дженни? Вероятно, во мне самой есть что-то дурное, если я, не сделав ничего плохого, чувствую себя виновной. Между тем мне хотелось бы поблагодарить Бога за радость, которую я получила от этой весенней прогулки, а мама всегда говорила, что такие желания приходят только после невинных и угодных Господу удовольствий».
Руфь не сознавала, что всю прелесть этой прогулке придавало присутствие мистера Беллингама. Одно воскресенье сменялось другим, прогулки повторялись. Теперь сознание могло бы уже пробудиться, но у Руфи не было ни времени, ни охоты разбираться в своих чувствах.
– Рассказывайте мне всё, Руфь, как если бы вы беседовали с братом. Позвольте мне помочь вам, насколько я в силах, – сказал однажды вечером мистер Беллингам.
Он никак не мог взять в толк, каким образом столь малозначительная особа, как портниха Мейсон, сумела внушить такой страх Руфи и теперь пользуется такой неограниченной властью над ней. Мистер Беллингам воспылал негодованием, когда Руфь, желая удивить его могуществом миссис Мейсон, рассказала ему о том, как хозяйка выражает неудовольствие своим работницам, и объявил, что его мать не будет больше заказывать платья у такого чудовища, похожего на известную убийцу миссис Браунригг, и даже попросит своих знакомых не давать ей заказов. Руфь не на шутку встревожилась и начала с таким жаром защищать миссис Мейсон, как будто угрозы молодого человека могли быть в самом деле приведены в исполнение.
– Я ведь действительно провинилась, сэр, пожалуйста, не сердитесь. Она бывает очень добра, но мы сами выводим ее из терпения. Мне часто приходится распарывать свое шитье, а вы знаете, как от этого портится материя, особенно шелковая, а потом миссис Мейсон получает за нас выговоры. Ах, зачем же я вам все это рассказала! Пожалуйста, сэр, не говорите ничего вашей матери, потому что хозяйка очень дорожит заказами.
– Хорошо, на этот раз я не скажу, – ответил он, подумав, что, пожалуй, рассказывать матери о происходившем в доме миссис Мейсон не вполне удобно: она может решить, что он сам бывал в магазине и лично собирал там все эти сведения. – Но если я еще что-нибудь услышу в этом роде, то я за себя не отвечаю!
– Я постараюсь больше не говорить об этом, – прошептала Руфь.
– Нет, Руфь, вы не должны ничего скрывать от меня. Разве вы забыли свое обещание считать меня братом? Поверьте, во всем, что вас близко касается, я принимаю самое живое участие. Как ясно я представляю себе тот хорошенький домик в Милхэме, о котором вы мне рассказывали в прошлое воскресенье. Даже мастерская миссис Мейсон так и рисуется перед моими глазами. Это, конечно, доказывает или силу моего воображения, или живость ваших описаний.
Руфь улыбнулась:
– В самом деле, сэр? Но ведь наша мастерская так мало походит на все, что вы привыкли видеть. Я думаю, вы часто проезжали мимо Милхэма, когда отправлялись в Лоуфорд.
– Так вы думаете, что я видел Милхэм-Грэндж? Это слева от дороги, не правда ли?
– Да, сэр, сразу за мостом. Как только поднимешься на гору, где растут тенистые вязы, тут сразу и будет наш чудный старый Грэндж. Никогда мне больше не увидеть его!
– Никогда? Вздор! Отчего же никогда, Руфь? Ведь это не далее шести миль отсюда. Вы можете побывать там в любой день. Это всего час езды.
– Да, вероятно, когда состарюсь. Я, наверное, неточно выразилась. Просто я так долго там не была и уже почти и не надеюсь снова увидеть его когда-либо.
– Но, Руфь… если хотите, мы отправимся туда в ближайшее воскресенье.
Она взглянула на него с какой-то тихой светлой радостью и сказала:
– Как? Вы думаете, что я успею сходить туда после службы и возвратиться домой к приезду миссис Мейсон? Как бы я хотела хоть взглянуть на него, зайти в дом хоть на минутку! Ах, сэр, если бы я могла еще раз увидеть комнату моей матери!
Он обдумывал, как лучше устроить для нее это удовольствие, не упустив из виду собственное. Если они отправятся в одной из его карет, то пропадет вся прелесть прогулки. К тому же это может привлечь внимание слуг.
– Хороший ли вы ходок, Руфь? Способны ли вы пройти шесть миль? Если мы выйдем в два часа, то дойдем туда, не торопясь, к четырем или, скажем, к половине пятого. Пробудем там часа два, вы мне покажете ваши любимые места, а потом потихоньку возвратимся домой. Итак, решено!
– Но вы уверены, сэр, что в этом не будет ничего дурного? Для меня эта прогулка обещает так много удовольствия, что я даже боюсь, нет ли в ней чего худого.
– Отчего это, маленькая трусиха? Что вы находите в этом дурного?
– Самое главное – если мы отправимся в два часа, я пропущу церковь, – отвечала серьезно Руфь.
– Если вы пропустите один раз службу, то большой беды не будет. Притом вы же сходите с утра к обедне?
– Я думаю, миссис Мейсон нашла бы, что это неприлично, и не пустила бы меня.
– Конечно не пустила бы. Но вы, Руфь, не должны позволять, чтобы миссис Мейсон помыкала вами согласно своим понятиям о хорошем и дурном. Она, вероятно, находит весьма хорошим мучить эту бедняжку Палмер, о которой вы мне рассказывали. Ведь сами вы не думаете, что это дурно? И ни один человек с сердцем так не подумает. Так не обращайте внимания ни на чьи толки, будьте сами себе судьей. Удовольствие это вполне невинно, и в нем нет никакого эгоизма, потому что я принимаю в нем такое же участие, как и вы. Если вам приятно будет увидеть места своего детства, то, поверьте, это будет приятно и мне. Я полюблю их так же, как вы их любите.
Мистер Беллингам говорил вполголоса, очень убедительным тоном. Руфь склонила голову, щеки ее пылали от чрезмерного удовольствия. Она не сумела возразить ничего такого, что возобновило бы ее сомнения, и, таким образом, прогулка была решена.
Какой же счастливой чувствовала себя Руфь всю неделю, думая о ней! Руфь была еще слишком юна, когда умерла ее мать, и потому в родительском доме она ни от кого не слышала ни советов, ни предостережений относительно разнообразных соблазнов. Есть же на свете мудрые родители, которые с ранних лет говорят своим детям о том, что нельзя выразить словами, – о том Духе, который не имеет определенной формы, но присутствие которого люди чувствуют прежде, чем оказываются способны понять Его существование. Руфь была еще совершенно невинна и чиста, как ангел. Она слышала, что люди влюбляются, но не знала, в чем выражается это чувство, и даже никогда об этом не думала. Она испытала так много горя, что могла думать только о своих обязанностях в настоящем и о своем прошлом счастье. Но ранняя смерть матери и болезненное состояние полуживого отца после потери жены сделали ее слишком чуткой и восприимчивой к участию, которое она встретила сперва у Дженни, а теперь со стороны мистера Беллингама. Увидеть снова родной дом, отправиться туда вместе с ним, показывать ему – чтобы он не заскучал – места, где она провела свое детство, с каждым из которых связана какая-нибудь история, вспоминать о том, что никогда больше не возвратится! Никакая тень не омрачала в эту неделю ее счастья, оно было слишком светло, чтобы говорить о нем посторонним равнодушным слушателям!








