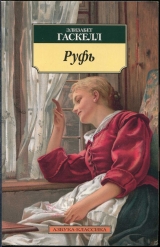
Текст книги "Руфь"
Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Элизабет Гаскелл
Руфь
Да оросит поток сердечных слез
Стопы Того, кто весть для нас принес.
Не уставайте плакать и молить,
За страшный грех прощения просить.
Господь, склони свой слух к стенаньям их
И узри грех сквозь слезы глаз моих.
Финеас Флетчер
ГЛАВА 1
Ученица портнихи за работой
В одном из восточных графств есть городок, где прежде собирались выездные сессии Высокого суда правосудия. Городок этот пользовался некогда особенным расположением Тюдоров, и их покровительство и милости доставили ему значение, возбуждающее справедливое удивление у современного путешественника. Лет сто тому назад он поражал своим величием. Старые дома, временные резиденции аристократов, довольствовавшихся провинциальными увеселениями, хотя и лишали улицы правильности, но зато придавали им вид благородства, какой теперь еще можно встретить в некоторых бельгийских городах.
Остроконечные крыши и высокие трубы, рисовавшиеся на голубом фоне неба, красиво окаймляли улицы сверху, а внизу глаз зрителя останавливался на всевозможных балконах и нишах, на бесконечном ряде причудливых окон, появившихся задолго до оконного налога, введенного мистером Питтом. Впрочем, все эти выступы и пристройки делали улицы темными и мрачными. Плохо вымощенные крупными камнями, без тротуаров для пешеходов, они не освещались фонарями даже в длинные зимние ночи. Город нисколько не заботился об удобствах для людей среднего достатка, не настолько богатых, чтобы иметь собственные кареты или носилки, на которых слуги доставляли бы их до самых дверей. Мастеровые с женами, купцы с супругами днем и ночью проходили по улицам с опасностью для жизни. Широкие неуклюжие экипажи заставляли их прижиматься к стенам домов в узких улицах, однако негостеприимные дома, вытянувшие ступени парадных подъездов к самой мостовой, побуждали их вновь ступать под колеса экипажей, подвергаясь той опасности, которой они избежали всего двадцать шагов назад. А ночью единственным освещением были масляные фонари, тускло мерцавшие над подъездами только аристократических домов. Они на краткое мгновение озаряли прохожих, снова исчезавших в темноте, где нередко поджидали свою добычу грабители.
Традиции, ушедшие в прошлое, и мелкие подробности тогдашней жизни объясняют, как формировались характеры людей. Будничная жизнь мало-помалу поглощает человека и заковывает в свои цепи, и только один из тысячи в состоянии с презрением разорвать их, когда явится та внутренняя необходимость независимой деятельности, перед которой бессильны все внешние приличия. Потому-то важно узнать, что же представляли собой те цепи обыденной жизни, казавшиеся столь естественными нашим предкам, прежде чем они научились обходиться без них.
Живописность старинных улиц совсем исчезла в наше время. Все местные тузы – Эстли, Данстены, Веверхэмы – давно проводят сезон в Лондоне, а дома в графстве продали лет пятьдесят и более тому назад. А после того как провинциальный город потерял привлекательность для Эстли, Данстенов и Веверхэмов, могли ли Домвили, Бекстоны и Уайлдсы проводить там зиму в своих куда менее великолепных домах и при все увеличивающихся расходах? Большие старые дома на время опустели, а потом спекулянты принялись скупать опустевшие жилища, чтобы разбить их на маленькие квартиры для небогатых людей и даже (нагните ухо пониже, чтобы тень Мармадьюка, первого барона Веверхэма, не услышала нас) – и даже сдавать в аренду под лавки!
Однако все это было еще сносно по сравнению с последним ударом, нанесенным древней славе городка. Лавочники решили, что фешенебельная улица слишком мрачна и тусклый свет не позволяет им как следует показывать товары. Доктору темнота мешала вырывать зубы у пациентов. Юристу приходилось зажигать свечи часом раньше, чем прежде, когда он жил на плебейской улице. Одним словом, по общему согласию весь ряд домов с одной стороны улицы был снесен и перестроен в простом, скромном и однообразном стиле времен Георга III. При этом корпуса домов оказались слишком прочны для перестроек, так что, пройдя сквозь вполне обычную лавку, можно было, к своему удивлению, очутиться перед огромной резной дубовой лестницей, освещенной окном с витражами и украшенной гербами.
Много лет тому назад, январской ночью, по одной из таких лестниц мимо одного из таких окон, сквозь которое светила полная луна, поднималась в изнеможении Руфь Хилтон. Я говорю «ночью», хотя правильнее было бы сказать «утром», потому что колокола церкви Спасителя уже пробили два часа. А между тем в комнате, куда вошла Руфь, несколько девушек все еще сидели над шитьем. Не давая себе отдыха, они шили, как будто от этого зависели их жизни, не смея зевнуть или как-то еще показать, что их клонит ко сну. Девушки лишь тихо вздохнули, когда Руфь сказала миссис Мейсон, который час: она выходила на улицу, чтобы узнать время. Однако девушки понимали: как бы поздно они ни легли, завтра утром им все равно придется браться за работу с восьми часов, между тем как их усталые тела требовали отдыха.
Миссис Мейсон работала столь же упорно, как и они, но она была старше и сильнее, к тому же получала все барыши. Однако даже она почувствовала наконец необходимость в отдыхе.
– Юные леди, – сказала хозяйка, – я разрешаю вам отдохнуть полчаса. Мисс Саттон, позвоните в колокольчик, Марта принесет вам хлеба, сыра и пива. Будьте так добры, когда едите, держитесь подальше от шитья и вымойте руки к моему приходу, чтобы вновь взяться за работу. Полчаса! – повторила она еще раз очень отчетливо и вышла из комнаты.
Девушки не преминули воспользоваться отсутствием миссис Мейсон. Одна из них, полная и, по-видимому, уставшая больше других, положила голову на сложенные руки и в ту же секунду заснула. Ее не могли добудиться, когда принесли скромный ужин, но она встрепенулась, с испугом оглядываясь по сторонам, как только вдали на лестнице послышались шаги возвращавшейся хозяйки. Кто-то из девушек начал мешать уголья в жалком камине, лишенном всяких украшений и вделанном для экономии места в тонкую перегородку, которой нынешний домовладелец разделил большую старинную залу. Другие сразу принялись за хлеб с сыром, напоминая мерным движением челюстей и безучастным выражением физиономий коров, которых вы можете увидеть на любом пастбище. Две девушки рассматривали почти готовые бальные наряды, любуясь ими в то время, как остальные издали их критиковали, как истинные художницы. Некоторые потягивались, расправляя утомленные мускулы, а кое-кто даже решался зевать, кашлять и чихать, что было совершенно невозможно в присутствии миссис Мейсон.
Одна только Руфь подбежала к большому старому окну и прижалась к нему, как птичка прижимается к решеткам клетки. Она отодвинула занавеску и смотрела на тихую лунную ночь. От снега, не перестававшего идти весь вечер, было светло, как днем. Окно находилось в четырехугольной нише, его старинная рама со множеством маленьких стекол была заменена на новую, с одним цельным стеклом, которое впускало больше света. В нескольких шагах от дома ночной ветерок едва качал густые ветви лиственницы. Бедная старая лиственница! Когда-то она стояла среди прекрасной лужайки и мягкая трава ласкала ее ствол. Теперь лужайку разделили на дворы и задворки, а лиственницу огородили со всех сторон каменными плитами. Снег лежал густыми слоями на ее ветвях и время от времени падал на землю. Старые конюшни были также перестроены и образовали узкий переулок с жалкими домишками. И над всем этим поруганным величием алело неизменно великолепное пурпурное небо!
Руфь прижалась горячим лбом к холодному стеклу и щурила усталые глаза, любуясь на прелестное зимнее небо. Ей очень хотелось накинуть на голову платок и выбежать на улицу навстречу чудной ночи. Было время, когда Руфь тотчас исполнила бы это желание, но теперь ее глаза наполнились слезами и она стояла неподвижно, вспоминая прошедшее. Мысли ее блуждали далеко, она припоминала прошлогодние январские ночи, так похожие и так непохожие на эту. Вдруг кто-то слегка дотронулся до ее плеча.
– Руфь, милая, – прошептала ей девушка, невольно выделявшаяся среди других из-за сильного кашля, – иди поужинай немножко, это поможет разогнать сон.
– Мне больше помогла бы прогулка, – ответила Руфь. – Ах, если бы я могла хоть разок пробежаться по свежему воздуху!
– Но не в такую же ночь, – заметила ее собеседница, вздрагивая при одной мысли о такой прогулке.
– А отчего же и не в такую ночь, Дженни? – спросила Руфь. – Дома я часто бегала на мельницу в такую пору, только чтобы посмотреть на льдинки вокруг мельничного колеса. А выбежав на улицу, ни за что не хотела возвращаться домой, даже к матери, сидевшей у камина. Даже к матери… – повторила она тихим, невыразимо печальным голосом. – Однако, Дженни, – заговорила она снова, пытаясь приободриться, хотя слезы все еще блестели у нее на глазах, – скажи, видела ли ты, чтобы эти уродливые, противные старые дома казались такими – как их назвать? – почти прекрасными, как теперь? Как кротко и чисто освещает их лунный свет! А как же должны смотреться такой ночью деревья, трава, кусты?
Но Дженни не могла разделить восхищение Руфи зимней ночью: для Дженни зима была тем тяжелым временем года, когда кашель ее увеличивался, а боль в боку мучила сильнее, чем обычно. Но, несмотря на это, она обняла Руфь и была счастлива тем, что ее подруга – сирота-ученица, еще не привыкшая к трудностям швейного ремесла, – может находить прелесть даже в морозной ночи.
Они стояли, погруженные каждая в свои мысли, до тех пор, пока не послышались шаги миссис Мейсон. Тогда обе швеи вернулись к работе, так и не поужинав, но немного отдохнув.
Место Руфи было самое холодное и темное в мастерской, но оно ей нравилось. Она инстинктивно выбрала его, чтобы сидеть напротив стены, на которой еще виднелись следы прежних украшений старинной гостиной, некогда великолепной, судя по уцелевшим полинялым остаткам. Стена была поделена на четырехугольники, выкрашенные в светло-зеленый, белый и золотой цвета. Художник украсил эти панели прелестными гирляндами цветов, необыкновенно ярких и роскошных. Он нарисовал их так мастерски, что казалось, можно было почувствовать и их запах, и легкий южный ветерок, нежно пробегающий по пунцовым розам, по веткам лиловой и белой сирени, по раскидистым золотистым ветвям ракитника. Тут была и стройная белая лилия – символ Богоматери, и розовый алтей, и ясенец, и акониты, и незабудки, и примулы. Одним словом, вся роскошная флора старинных деревенских садов, но не в том беспорядке, в каком я все это перечислила. Снизу тянулась гирлянда остролистника, украшенная английским плющом, омелой и зимним аконитом. С обеих сторон симметрично смешивались гирлянды осенних и весенних цветов, а над ними возвышались великолепные мускусные розы и яркие июньские и июльские цветы.
Художник – вероятно, Моннойе или какой-нибудь другой давно умерший творец этих украшений, – скорее всего, порадовался бы, узнав, что его уже полустертая картина доставляет такое облегчение сердцу бедной девушки. Она напоминала ей другие цветы, которые росли, цвели и увядали в прежнем ее доме.
Миссис Мейсон очень хотелось, чтобы ее швеи особенно постарались сегодня ночью, так как на следующий вечер назначен был традиционный бал для членов охотничьего общества и их семей – единственный бал, оставшийся в городке с прежних времен. Она обещала заказчикам прислать платья «всенепременно» к утру и не отказала никому из них, чтобы работа не перешла в руки соперницы – модистки, недавно открывшей магазин на той же улице.
Надеясь как-то оживить павших духом работниц, она решила прибегнуть к небольшой хитрости и, кашлянув для привлечения их внимания, начала таким образом:
– Я должна сообщить вам, юные леди. Меня просили и нынче, как в прошлые годы, послать на бал нескольких моих мастериц с лентами для туфель, булавками и разными мелочами на случай, если понадобится что-нибудь поправить в нарядах дам. Я пошлю четырех самых прилежных.
Последние слова она произнесла с особенной интонацией, однако не произвела желаемого впечатления: девушки слишком хотели спать, чтобы думать о роскоши и великолепии. Они мечтали только об одном – добраться до постелей.
Миссис Мейсон была весьма почтенная женщина, но, подобно многим другим почтенным женщинам, имела свои слабости. Одной из таких слабостей – очень естественной при ее профессии – было пристрастие к внешнему виду. Поэтому она втайне уже давно выбрала четырех привлекательных девушек, которые более других могли сделать честь ее заведению, и не думала изменять своего выбора, хотя и считала нужным пообещать награду самым прилежным. Миссис Мейсон искренне не видела в этом ничего бесчестного: по ее разумению, справедливо было все, что согласовывалось с ее желаниями.
Наконец всеобщая усталость сделалась слишком заметной, и миссис Мейсон велела швеям идти спать. Те исполнили лениво даже и столь долгожданное приказание. Вяло складывали они свою работу, едва двигая руками. Наконец все было убрано, и девушки спустились по широкой темной лестнице.
– Ах! Как я выдержу целых пять лет эти ужасные ночи! – вскричала Руфь, бросаясь на постель, даже не сняв платья. – В этой душной комнате, в этой страшной тишине, с этим несносным маятником, который не останавливается ни на минуту!
– Полно, Руфь, ведь не всегда же так много работы, – ответила ей Дженни. – Мы часто ложимся в десять часов, а к духоте в комнате ты скоро привыкнешь. Если бы ты так не устала, то и не обратила бы внимания на часы. Я их никогда не слышу. Ну полно, давай я тебя расшнурую.
– Стоит ли раздеваться? Через три часа надо снова вставать и браться за работу.
– Но за эти три часа ты отдохнешь, если разденешься и спокойно заснешь. Ну, давай же, милая!
Нельзя было противиться Дженни. Ложась, Руфь сказала:
– Какой я стала сердитой, раздражительной… Прежде я, кажется, не была такой.
– Нет, конечно. Все новые ученицы поначалу раздражительны, но со временем это проходит, и они скоро становятся ко всему равнодушны. Бедное дитя! Она уже спит, – тихо прибавила Дженни.
Сама Дженни не могла заснуть. Боль в боку мучила ее сегодня особенно сильно, и ей даже захотелось написать об этом домой, но она вспомнила, как трудно было отцу платить за ее обучение, вспомнила о своих нуждавшихся в заботе младших братьях и сестрах и решилась терпеть, надеясь, что с наступлением весны пройдет и боль в боку, и кашель. Она будет беречься.
Но что это с Руфью? Она так плачет во сне, как будто сердце ее разрывается на части. Такой сон был вреден, и Дженни разбудила ее:
– Руфь! Руфь!
– Ах, Дженни! – воскликнула Руфь, садясь в постели и отстраняя упавшие на лоб густые волосы. – Мне снилось, что мама, как бывало прежде, подошла к моей постели посмотреть, хорошо ли и спокойно ли я лежу. Я хотела удержать ее, но она исчезла и оставила меня одну, не знаю где. Мне стало так страшно!
– Это всего лишь сон. Помнишь, ты говорила со мной о ней? Ложись, тебе нездоровится, потому что ты сидела так долго. Попробуй заснуть, а я разбужу тебя, если вдруг снова что-нибудь приснится.
– Но ведь ты так устанешь. Ах, моя милая, милая! – И Руфь заснула на полувздохе.
Наступило утро. Хотя девушки спали недолго, они почувствовали себя свежее.
– Мисс Саттон, мисс Дженнингс, мисс Бут и мисс Хилтон, приготовьтесь идти со мной на бал сегодня в восемь часов.
На лицах некоторых девушек выразилось удивление, но большинство, знакомые с характером хозяйки, заранее предвидели выбор и приняли его с тем тупым равнодушием, с которым приучила их относиться ко всему окружающему их неестественная сидячая жизнь и бессонные ночи.
Однако Руфи такой выбор был непонятен. Во время работы она постоянно зевала, глядела по сторонам, любовалась на прекрасную стену, забывалась, мечтая о доме, – и ожидала за все это только выговора. При других обстоятельствах Руфь и получила бы его, но тут ее вдруг выделили в числе самых прилежных!
Ей очень хотелось увидеть гордость графства – великолепный бальный зал в здании магистрата, хотелось поглядеть на танцоров и послушать музыку. Ей хотелось хоть какого-нибудь разнообразия в мрачной монотонной жизни, но ее мучила мысль, что она награждена по ошибке. И вот, к удивлению всех своих подруг, Руфь быстро встала и, подойдя к миссис Мейсон, доделывавшей платье, которое следовало выслать заказчице уже два часа тому назад, проговорила:
– Извините, миссис Мейсон, но боюсь, что я не была особенно прилежна. Мне даже кажется, что совсем наоборот. Я была такая утомленная, и в голову мне лезли разные мысли, а когда я думаю, я не могу сосредоточиться на работе.
Она остановилась, полагая, что все достаточно объяснила. Однако миссис Мейсон не хотела ни понимать, ни слушать дальнейших объяснений:
– Ну, милая, так привыкайте думать и работать одновременно, а если не можете, то откажитесь от мыслей. Ваш опекун, как вы знаете, надеется, что вы скоро выучитесь работать. Надеюсь, вы не захотите обмануть его ожиданий!
Но это не удовлетворило Руфь. Она постояла еще с минуту, хотя миссис Мейсон принялась за шитье с таким видом, который ясно говорил всем, кроме новенькой, что хозяйка не желает продолжать разговор.
– Но все-таки я не была прилежна и потому не могу идти на бал. Мисс Вуд и многие другие работали гораздо лучше меня.
– Несносная девчонка! – проворчала миссис Мейсон. – Она договорится до того, что я и вправду оставлю ее дома.
Но, взглянув на девушку, она была в очередной раз поражена ее замечательной красотой. Эта чудесная фигура, это привлекательное лицо с черными бровями и ресницами, каштановыми волосами и нежным цветом кожи сделают честь ее заведению. Нет! Прилежная или ленивая, но Руфь Хилтон должна быть на бале.
– Мисс Хилтон, – сказала миссис Мейсон строгим, исполненным достоинства голосом, – эти юные леди могут подтвердить вам, что я не привыкла с кем-либо обсуждать мои решения. Если я так говорю, то так и должно быть исполнено, я знаю, что делаю. Итак, садитесь, пожалуйста, и будьте готовы к восьми часам. И больше ни слова! – прибавила она, пресекая новые возражения.
– Дженни, это ты должна была идти, а не я, – сказала тихонько Руфь, садясь подле мисс Вуд.
– Тсс, Руфь! Я все равно не смогла бы пойти из-за кашля. Мне приятнее уступить это удовольствие тебе, чем кому-либо другому. Вообрази себе, что я сама тебе уступила, и прими это как мой подарок, а когда вернешься домой, расскажи мне обо всем, что там увидишь.
– Хорошо, тогда я приму это как подарок, а не как награду. Спасибо тебе! Ты не можешь себе представить, как мне будет теперь весело. Когда я услышала, что возьмут самых старательных, мне так захотелось пойти туда, что я проработала прилежно целых пять минут. Но больше я не выдержала. Ах, дорогая, неужели я в самом деле услышу оркестр и увижу этот знаменитый зал?
ГЛАВА II
Руфь отправляется на бал
Вечером перед уходом на бал миссис Мейсон собрала своих «юных леди» и тщательно осмотрела их наряды. Ее важность и нетерпение напоминали курицу, созывающую цыплят. Она подвергла девушек такому осмотру, как будто им предстояло играть на балу роль поважнее, чем роль временных горничных.
– Это ваше лучшее платье, мисс Хилтон? – недовольно спросила миссис Мейсон, оглядывая Руфь, одетую в черное шелковое воскресное платье, довольно старое и поношенное.
– Да, мэм, – тихо ответила Руфь.
– Ну, делать нечего, – продолжала миссис Мейсон тем же тоном. – Вы знаете, юные леди, наряд – дело неважное, главное – это поведение. Но все же, мисс Хилтон, вы бы написали вашему опекуну и попросили у него денег на другое платье. Жаль, что я об этом не подумала прежде.
– Я думаю, он мне не пришлет, даже если я напишу, – еле слышно ответила Руфь. – Когда в начале зимы я попросила у него шаль, он рассердился.
Миссис Мейсон недовольно подтолкнула ее в знак того, что можно идти, и Руфь вернулась к своей подруге, мисс Вуд.
– Ничего, Руфь, ты все-таки красивее их всех, – весело сказала одна добродушная девушка, слишком несимпатичная для того, чтобы чувствовать зависть к сопернице.
– Да, я знаю, что я хорошенькая, – сказала Руфь печально, – но мне так стыдно: у меня нет платья получше, это такое истасканное, а миссис Мейсон за меня еще стыднее. Лучше бы мне не идти. Я не знала, что нам придется заботиться о своих нарядах, а я и не мечтала туда пойти.
– Ничего, Руфь, – сказала Дженни, – тебя теперь уж осмотрели, а через несколько минут миссис Мейсон будет слишком занята, чтобы думать о тебе или о твоем платье.
– Ты слышала, Руфь Хилтон знает, что она хорошенькая! – громко шепнула одна девушка другой, и Руфь услышала это.
– Ну а как же мне не знать, – ответила она совершенно простодушно, – когда столько людей говорили мне это!
Наконец приготовления были окончены, и девушки вышли на свежий морозный воздух. Прогулка так ободряюще подействовала на Руфь, что она едва не прыгала, позабыв и о своем поношенном платье, и о сердитых опекунах. Бальный зал в магистрате оказался даже лучше, чем она ожидала. Стены лестницы были разрисованы человеческими фигурами, которые при тусклом свете казались привидениями, потому что на темных выцветших полотнах выдавались одни только лица с каким-то странно-неподвижным выражением глаз.
Разложив принадлежности для работы на столах в передней и все приготовив, молодые модистки рискнули наконец заглянуть в зал, где музыканты уже настраивали инструменты и несколько поденщиц заканчивали вытирать пыль со скамей и стульев. Какой странный контраст представляли их запачканные платья, их неумолчная болтовня с величественным эхом, раздававшимся высоко под сводами!
Поденщицы ушли, когда вошла Руфь и ее подруга. Весело болтавшие до этого в передней, девушки смолкли перед древним великолепием огромного зала. Он был столь велик, что трудно было различить предметы, находившиеся на противоположной стороне. На стенах висели писанные во весь рост портреты знаменитых представителей графства во всевозможных костюмах, начиная от современных Гольбейну и до самых новомодных. Потолок нельзя было хорошо разглядеть, потому что лампы еще не были зажжены, но в одном конце комнаты сквозь ярко разрисованное готическое окно светила луна и, казалось, посмеивалась над потугами искусственного света соперничать с ней.
Сверху раздавались звуки оркестра, повторявшего еще не твердо разученные пассажи. Но вот музыканты перестали играть. В темноте, освещаемой всего несколькими свечами, их голоса звучали пугающе. Дрожание свеч напоминало Руфи зигзагообразное движение блуждающих огоньков.
Вдруг зажегся свет. Но освещенный зал произвел на Руфь менее сильное впечатление, чем прежний таинственный полумрак, и она без сожаления покинула его по первому зову миссис Мейсон, собиравшей свое разбежавшееся стадо. Теперь наши швеи должны были помогать дамам, которые толпились в передней и заглушали своими голосами звуки оркестра, – а Руфи так хотелось его послушать. Но если в этом отношении надежды Руфи не сбылись, то в остальном вечер превзошел ее ожидания.
– При определенных условиях… – и тут миссис Мейсон начала перечислять бездну условий, которым, как казалось Руфи, и конца не будет, – при определенных условиях швеям позволяется во время танцев стоять у боковой двери и смотреть.
Ах, какое это было прекрасное зрелище! Там плыли, то приближаясь, то удаляясь под звуки музыки, похожие на фей прелестнейшие женщины графства. Когда они приближались, можно было разглядеть мельчайшие детали украшений на их роскошных нарядах, но сами дамы не обращали никакого внимания на тех, кто любовался ими. На улице было так холодно, бесцветно, уныло, а здесь так тепло, ярко, живо. Благоухающие цветы, точно не кончилось лето, украшали головы и корсажи. Краски вспыхивали и исчезали в быстром движении танцев, сменяясь другими, не менее привлекательными. Улыбки появлялись на всех лицах, а во время перерывов по залу проносилась волна неясного, но полного радости говора.
Руфь не пыталась разглядеть каждую фигуру из тех, что составляли такое восхитительное и блестящее целое. Ей было довольно смотреть и мечтать о жизни, в которой эта музыка, это множество цветов и бриллиантов, эта роскошь и красота считались делом обычным. Ее не интересовало, кто все эти люди, между тем как подруги ее с восхищением называли друг другу имена гостей. Эти разговоры даже мешали ей: волшебный мир грозил моментально превратиться в будничную жизнь разных мисс Смит и мистеров Томсонов, и, чтобы не слышать об этом, Руфь вернулась в переднюю.
Там Руфь стояла, предаваясь мечтам, пока ее не вернул к действительности голос, раздавшийся над самым ухом. С одной из танцевавших молодых дам случилась маленькая неприятность. На ней было платье из легчайшего газа, подхваченное букетами. Один из букетов оторвался во время танца, и юбки волочились по земле. Чтобы поправить эту беду, дама попросила своего кавалера проводить ее в переднюю, где находились швеи. Там оказалась одна только Руфь.
– Мне уйти? – спросил джентльмен. – Необходимо ли мое отсутствие?
– О нет! – ответила леди. – Несколько стежков, и все исправлено. Да я и боюсь войти одна в эту комнату.
Все это она говорила очень весело и любезно. Но вот она обратилась к Руфи:
– Работайте побыстрей, не держите меня здесь целый час! – И голос ее зазвучал резко и повелительно.
Дама была хороша собой, с темными локонами и блестящими черными глазами. Руфь заметила это с первого взгляда, прежде чем встала на колени и принялась за работу. Она заметила также и то, что джентльмен был молод и изящен.
– Ах, этот чудный галоп! Как мне хочется танцевать его! Да скоро ли вы закончите? Как вы копаетесь! Мне так хочется поскорей вернуться, чтобы поспеть к этому галопу!
И, желая выказать милое ребяческое нетерпение, она начала под веселую музыку оркестра выбивать ножкой такт. Это беспрерывное движение мешало Руфи зашивать платье, и она подняла голову, чтобы попросить даму держаться поспокойнее. Но тут глаза ее встретились с глазами молодого человека, которого, по-видимому, очень забавляли грациозные выходки его хорошенькой дамы. Веселость молодого человека заразительно подействовала на Руфь, и она опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Но он ее заметил и теперь обратил внимание на эту коленопреклоненную фигуру, всю в черном, с благородной опущенной головкой, составлявшую такой контраст с беспечной, веселой, немного фальшивой девушкой, принимавшей услуги швеи с гордым видом королевы.
– О, мистер Беллингам, как мне совестно, что я вас задерживаю. Как можно так долго копаться с одним швом? Немудрено, что миссис Мейсон так дорого берет за платья, если ее швеи такие неповоротливые.
Дама хотела сострить, но мистер Беллингам не улыбнулся. Он увидел краску негодования на хорошенькой щечке, которая была обращена в его сторону, и, взяв со стола свечу, стал светить Руфи. Она не подняла глаз, чтобы поблагодарить его, – ей было стыдно, что мистер Беллингам заметил ее улыбку.
– Извините, я вас задержала, мэм, – кротко сказала она, закончив работу. – Я боялась, что платье опять порвется, если не пришить покрепче. – И она встала.
– Пусть бы лучше порвалось, но я бы не пропустила этого прелестного галопа, – ответила молодая дама, встряхивая платье, как птичка перья. – Пойдемте, мистер Беллингам, – прибавила она, взглянув на него и ни знаком, ни словом не поблагодарив оказавшую ей помощь девушку.
Это удивило молодого человека, он взял со стола кем-то оставленную там камелию:
– Позвольте мне, мисс Данкомб, вручить от вашего имени этот цветок юной леди за ее умелую работу?
– Пожалуй, – ответила та небрежно.
Руфь взяла цветок и молча наклонила голову. И вот она снова осталась одна.
Вскоре вернулись ее подруги.
– Что случилось с мисс Данкомб? Она сюда заходила? – спрашивали они.
– Ее платье немного порвалось, и я его починила, – спокойно ответила Руфь.
– И мистер Беллингам с ней приходил? Говорят, он на ней женится. Приходил он, Руфь?
– Да, – сказала Руфь и снова смолкла.
Мистер Беллингам всю ночь танцевал и с удовольствием ухаживал за мисс Данкомб. Но он часто посматривал на боковую дверь, возле которой стояли молодые швеи. Когда он различил стройную фигуру девушки с роскошными каштановыми волосами, одетую в черное, глаза его отыскали камелию. Цветок, во всей своей снежной белизне, был тут, на ее груди. И мистеру Беллингаму стало еще веселее, чем прежде.
Холодное, серое утро едва занималось, когда миссис Мейсон и ее ученицы вернулись домой. Фонари уже погасли, но ставни лавок и домов были еще закрыты. Все звуки как-то странно, не так, как днем, отдавались в воздухе. Двое бездомных спали на крыльце, прислонясь к холодной стене, уткнув голову в колени и дрожа от холода.
Руфи посещение бала казалось сном, и теперь она будто возвращалась к действительности. Не скоро удастся ей вновь побывать на бале, услышать звуки музыки, посмотреть на этих блестящих счастливцев, словно принадлежащих к другому, нечеловеческому роду, свободному от забот и горя. Отказывают ли они себе когда-нибудь в желаниях, не говоря уже о потребностях? Их жизненный путь устлан цветами – в буквальном и переносном смысле. Суровая зима и убийственный холод существуют только для нее и подобных ей бедняков, а для мисс Данкомб и ее знакомых – это счастливое время года. Для них и теперь цвели цветы, блистали огни, их окружал комфорт и роскошь, словно подарки сказочных фей. Зима! Знают ли они, как ужасно звучит это слово для бедняка? Что им зима? В то же время Руфи казалось, что мистер Беллингам, по крайней мере, может понять тяжелое положение тех, кто далек от него по своему положению. Она видела, как мистер Беллингам, дрожа от холода, поднимал стекла своей кареты. Руфь в это время внимательно смотрела на него. Ей очень нравилась и, подняв голову, гордо посмотрела кругом, как бы призывая в свидетельницы своих подруг.
– Где юбка от платья леди Фарнхэм? Как, оборки еще не пришиты?! Удивительно. Позвольте спросить, кому поручалась вчера эта работа? – спросила миссис Мейсон, пристально глядя на Руфь.
– Мне, но я не так нашила и должна была все распороть. Извините, пожалуйста.
– Я так и думала. Если работа не закончена или испорчена, то не трудно догадаться, в чьих руках она была.
Подобные замечания Руфи пришлось выслушивать целый день, и именно в тот день, когда она была менее всего готова переносить их спокойно.
После обеда миссис Мейсон нужно было ехать за город. Надавав бездну наставлений, приказаний и запрещений, она наконец ушла. Почувствовав облегчение от ее отсутствия, Руфь положила руки на стол, опустила голову и дала волю тихому плачу.








