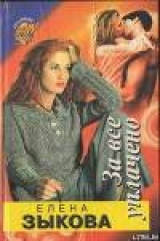
Текст книги "За все уплачено"
Автор книги: Елена Зыкова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Но забыть окончательно не удалось, потому что за ужином Донцова испуганно сказала, что звонила в Москву и в редакции ей велели дать подробный отчет о фестивале, а она не видела ни одной из премированных картин.
– Да-а, – мрачновато протянул Дронов. – Я тоже здесь поиздержался. Надо бы нацарапать пару статеек, гонорариев ради, да только я вообще на этом сборище ни хрена не видел.
– Ниночка, – вспыхнула Донцова, – вы бы нам что-нибудь порассказали, что видели.
По ее ехидному тону и по улыбке Дронова Нина поняла, что это скорее всего провокация, и она уже собралась отказаться, но заметила предупреждающий взгляд Андреева и кивнула.
Они нашли в гостинице тихий уголок под пальмами в бочках, Нина положила на столик свою тетрадку и принялась рассказывать. Через пяток минут скептическая улыбка соскользнула с губ Дронова, и он вытащил блокнот, записывая следом за Ниной. Еще через минуту Донцова взвизгнула, сбегала за диктофоном, принесла его, включила и подсунула Нине под нос.
Весь пересказ занял у Нины три с половиной часа.
– Спасибо, девочка, – прогудел по окончании Дронов. – Странно, что я не натыкался на твое имя в нашей прессе. Очень толковый анализ всего этого борделя.
Андреев только улыбался. Но ночью, открыв пошире окно, посмотрел на тихую ночную панораму уснувшего города и сказал:
– Через неделю, дома, мы переведем тебя ассистенткой режиссера. К Воробьеву пойдешь?
– Конечно.
– А осенью пойдешь учиться. В Останкине откроют курсы режиссеров телевидения, и мы тебя туда затолкнем.
– Но я же конкурсных экзаменов не сдам, Аркадий Сергеевич! – обмирая, сказала Нина.
– Не будешь сдавать никаких экзаменов.
Нина видела, что он хочет сказать что-то еще, подбирает слова и тон, а потому встала, обняла его за плечи и сказала тихо:
– Вы не бойтесь, Аркадий Сергеевич, в Москве я к вам приставать не буду. Если это протянется и в Москве, то мы только испортим все то, что было здесь. Не страдайте за меня. У меня на роду написано, я женщина для всех временная.
– Не говори так.
– А! – легко засмеялась Нина. – Говори иль не говори, но ведь это так именно и есть!
– У нас еще два дня в Софии, – едва слышно сказал он.
София, столица Болгарии, больше всего запомнилась Нине ярко-желтой, невиданной нигде брусчаткой мостовых и площадей. Гладкой, блестящей ярко-желтой брусчаткой.
К вечеру последнего дня они зашли с Андреевым в храм Александра Невского – громадный внутри, как ангар, темный, с голыми досками стен, и только алтарь был привычен, сверкал позолотой и варварским великолепием. Еще, в отличие от российских, здесь можно было присесть на стул. Но мрачного торжества в храме было достаточно.
В последний же день разменяли тайные, припрятанные доллары и на окраине Софии нашли толчок-барахолку, ничем от отечественных не отличимый. Кожаную куртку, сплошь на молниях, сторговали незадорого, куртка блестела, словно соплями смазанная, и Нина была уверена, что Пете она понравится.
– Это твой дружок такой моды придерживается? – спросил Андреев.
– Что вы?! Просто знакомый.
Последняя ночь перед вылетом домой прошла грустно и совсем бесстрастно с обеих сторон. Чего-то уже не было ни в Андрееве, ни в Нине, той неудержимой силы, которая бросила их друг к другу в первый день приезда в Пловдив.
Едва Нина открыла дверь своей родной квартиры, как из-под ног появившейся в прихожей Натальи выкатился Игорек, взвизгнул и сказал четко:
– Привет, мама!
Нина как стояла, так и села на пол, между своих чемоданов и сумок.
Дня через три после приезда Воробьев показал Нине газету, где был напечатан отчет-репортаж Донцовой с фестиваля в Пловдиве. Почти слово в слово она переписала со своего диктофона то, что рассказала ей Нина, только вступление оформила витиевато.
Еще через месяц, опять же словами Нины, в солидном журнале разразился большой статьей Дронов, но этот позвонил и сказал, что поделился бы с ней частью гонорара, однако сейчас обнищал, а потому компенсацию предлагает интеллектуальную, то есть, если Нина захочет, он поможет ей опубликовать любую статью в своем журнале. Публиковать Нине было нечего, у нее и мыслей таких не было, но она сказала, что подумает.
Но самым удивительным за эти первые недели оказалось то, что Нину увидели по телевизору все знакомые. Как она дважды стояла на фестивальной сцене в общем ряду, как получала чужую награду и несколько раз ее взяли крупным планом. Именно по этому поводу она в первый раз столкнулась с Зиновьевым.
Специально это получилось или нет, но беседа произошла в мужском туалете. Когда Нина вошла в него поутру, то ей показалось, что он пуст, однако едва принялась мыть пол, как одна из кабинок открылась, и Зиновьев вывалился из нее, на ходу застегивая брюки.
– А! – неприязненно сказал он. – Наша новая телезвезда!
На эти бессмысленные слова Нина ничего не ответила, усердно орудуя щеткой.
– Хотел бы я знать, за какие такие заслуги ты оказалась на сцене? Хотел бы я знать, через какую кровать ты свою карьеру делаешь?
Нина выпрямилась, посмотрела в тяжелые, дремучие глаза Зиновьева и сказала четко:
– Дуракам знать много вредно.
Зиновьев дернулся так, словно его палкой ударили.
– Ты, сучка постельная, со мной так не разговаривай.
– И ты, урод, мне не тычь!
Зиновьев выматерился сквозь зубы и пошел прочь из туалета, но Нина решила добить врага до конца и крикнула в спину:
– Научись после сортира руки мыть, деревенщина!
Он прихлопнул за собой дверь так, что едва стекла в окнах не вылетели.
Но результат этой беседы оказался таков, что ни Андрееву, ни людям рангом выше его не удалось быстро перевести Нину из уборщиц в ассистентки. Васильев отозвался о ней плохо как о работнике, а Зиновьев в каких-то сферах заявил, что давно знает Н. В. Агафонову с самой скверной и неприличной стороны. А когда его попросили расшифровать это заявление, то он вполне прозрачно намекнул, что это дело очень постыдное, когда молодые кадры из редакции документально-репортажных кинотелепрограмм проталкивают по должности своих проституток.
Команда Андреева тоже заупрямилась и сменила тактику. Нине предложили уволиться по собственному желанию, а через пару недель вернуться назад, напрямую написав заявление с просьбой зачислить ее ассистенткой режиссера. При такой схеме Зиновьев и все недруги команды были почему-то бессильны.
Образовавшийся в трудах недельный перерыв Нина и не знала как использовать, но неожиданно на адрес Натальи пришло письмо из деревни от сестры Валентины.
3
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕПЕЛИЩУ
Письмо было написано на листке, вырванном из школьной тетрадки, почерк у Валентины был твердый, но корявый.
«Дорогая сестренка!
Вчера мы тут смотрели телевизор, и нам показалось, что увидели тебя. И Семенюки тоже прибежали и сказали, что вроде бы это твоя рыжая грива там была на сцене где-то за границей. Эта программа повторялась утром, и мы смотрели уже всей деревней. Половина говорит, что это ты, а другие говорят, что ты такой никогда не можешь быть. Так что мы теперь в большом смущении.
Живем мы хорошо, картошки хватило до весны. Мать совсем еле ходит. Всю зиму пролежала на печке, мы думаем, что вскорости она преставится. У меня тоже поясница болит, ты бы приехала, Нинок, а то ведь так вот передохнем все друг за дружкой и даже не повидаемся. А если это ты по телевизору была, то нам это очень гордо, так что приехать тебе надо. Обнимаю и целую, всегда твоя сестра Валентина».
Письмо это так расстроило Нину, что она даже всплакнула, а Наталья сказала:
– Ладно, съезди на старое пепелище, такие вещи душу встряхивают и для здоровья полезны.
– Ты что, с Игорьком посидишь?
– Да что уж там, прикипела я к мерзавчику, день как его не вижу, так словно меня рюмкой обнесли. Езжай.
Нина заколебалась. Болела ли у нее душа по матери, сестре, младшему брату, по куче родственников в деревне, она и сама толком не знала. Одно она знала точно, что никогда уже и нигде не будет для нее на земле и в жизни такого места, где девчонкой она научилась плавать, чуть не утонула в речке, где ясно-холодное небо было усыпано блеклыми звездами, а луна была огромная и желтая. Где часами она могла лежать на песке в дюнах и смотреть на эти звезды и луну, и темными ночами сидеть с Борькой на берегу, глядя на лунную дорожку, начинавшуюся у самых ее ног. Она понимала, что возврата туда нет, что все там нынче по-другому и люди другие, но все же решилась съездить.
Петя проводил ее на вокзал и сказал на прощанье:
– Если подвернется под руку – икону мне привези. Чтоб подревнее была. На этом деле сейчас хороший навар можно получить.
– Хватит с тебя болгарской куртки.
Петя удовлетворенно хмыкнул, потому что так полюбил свою блестящую куртку с дюжиной «молний», что, по подозрениям Нины, и спал в ней не раздеваясь.
– Ты мне икону привези, а я тебе по курсу рубля-доллара долг спишу.
– Это какой еще долг? – поразилась Нина.
– Как это какой? Ты что забыла, что ли, у меня ведь и твоя расписка есть! Все по закону.
Нине такие шуточки были неприятны, как и вся история с этим долгом и похищенными Натальей деньгами.
– Ладно тебе, – сказала она. – Деньги мне не ты одолжил, а Наталья, с ней я и разберусь. А насчет иконы посмотрим. Ничего не обещаю.
– Постарайся, – подбодрил кожаный Петя. День и почти полную ночь Нина ехала в поезде, а потом от станции – на подвернувшемся грузовике.
Родной дом-пятистенок, казалось, вовсе не изменился, только кряжистей стал да словно ушел, укрепился в землю.
Валентина как раз вышла из ворот с пустыми ведрами на коромысле, поначалу мельком глянула на Нину, прошла было мимо, а потом развернулась и охнула:
– Нинка?
– Я, Валюха.
Начались визги, слезы, крики. Из дому, переломившись в поясе, вышла матушка, очень постаревшая, с лицом сморщенным и одним глазом, затянутым бельмом. Родная, милая мать. Нина чувствовала, что сейчас в голос зарыдает и как удержалась на одних всхлипываниях, откуда силы нашлись, сама не знала.
Истопили баню, Нина помылась с дороги, распарилась, а Валентина сказала:
– Сильно тут все переменилось на твой глаз?
– Я еще ничего не видела.
– Ты сходи, где дюны были, там сейчас дома-башни стоят и ТЭЦ построили.
– Нет. Не пойду, – ответила Нина.
Ей не хотелось любоваться гордостью односельчан – трубами ТЭЦ и башнями бетонок. Она хотела, чтобы в памяти ее все осталось прежним. А здесь сейчас о прежнем напоминала только поляна за околицей, дубы да акации перед выгоном.
Хозяйство сестры и матери оказалось в полном, даже образцовом порядке, но заслуга эта была не мужа Валентины, который вот уж пять лет исчез неведомо куда. Из города в дом частенько наведывался младший брат на своей машине. Он работал механиком в гараже, грозился, что как наладится фермерская жизнь, как примут закон о фермерах, он тут же с городом навеки простится. А пока приезжал на неделю-другую и день-деньской хлопотал на подворье. Но не было уже ни у Агафоновых, ни у соседей никакой мычащей и блеющей живности, поскольку просто ее уже негде было пасти – на лучших лугах отстроили санаторий, посадили вокруг него маленькие чахлые елочки, и все это хозяйство было обнесено высоким железным забором.
Вечером в доме собралась, кажется, вся деревня. Все, что имелось в доме, выставили на стол, посредине водрузили самогон все в тех же до боли знакомых высоких бутылках зеленого стекла. Нина, к удивлению матери и сестры, выпила рюмку, сплюнула и перешла на водку, которую привезла с собой.
– Другая ты стала, – то ли печально, то ли с одобрением сказала мать.
– Другая жизнь, другая личность, – солидно сказал сидевший напротив Нины широкоплечий мужик, и вдруг она поняла, что это никто другой, как Борька.
– Борька! – крикнула она. – Ты что же, на море не остался?
– На что мне эта лужа соленая? Детство это было. Борька указал Нине глазами на дверь, поговорить наедине, наверное, собирался, но Нина сделала вид, что этого призыва не заметила.
Какой-то совершенно незнакомый старикашка потянулся к ней через стол со стаканом самогона и просипел:
– Так разреши наши сомнения, Агафонова. Тебя ли наш народ видел по телевизору или не тебя?
– Меня, – ответила Нина спокойно, а за столом заорали так, словно им сообщили о пришествии Страшного суда.
Оказалось, что одна половина деревни поспорила по этому поводу с другой, поспорили – на деньги, чего раньше в деревне никогда не бывало. Теперь победители торжествовали, требовали свой приз, а проигравшие печалились и требовали с Нины доказательств, что это была именно она.
– Так кем же ты теперь в столице числишься? – не унимался все тот же старичок, и Нина внезапно узнала в нем бывшего председателя колхоза.
– Я работаю на телевидении, – ответила она. – В съемочной группе.
Ответа оказалось достаточно, хотя вряд ли за столом нашелся хоть один человек, который бы понял, чем Нина занимается. Но она сама даже немножко погордилась собой, поскольку и не соврала, и не очень приятной правды не сказала. Потому что Воробьев на прощанье ей испортил настроение, пояснив, что ассистент режиссера – это тот, кого называют «мальчиком за пивом», а вовсе не великая творческая должность. Но за этим столом поняли бы еще меньше – слово «ассистент».
– Снимаешь кино? – проявил знания Борька.
– Да.
– А как твое семейное положение? – не унимался бывший председатель. – Как материальный уровень достатка?
Однако мать уже почувствовала, что в этом плане жизнь у дочери сложилась непросто, что лучше об этом на народе не рассказывать и потому крикнула:
– Дайте хоть поначалу отдышаться девчонке! Все она вам расскажет, все! Ежели разом все услышите, так о чем потом за столом толковать будете?
– За столом надо пить! – изрек Борька и снова подал зазывный знак.
А пили, как отметила Нина, по-прежнему, жадно, без остановки, до потери пульса. Но все-таки, подумала она, чистый воздух, чистая вода да простая пища делают свое дело, а потому в городе пьянствовать тяжелей и страшней. В конце концов, и самогон, быть может, лучше магазинной водки, потому что он уж точно без всякой химии.
Через час про причину праздника, то есть про Нину, забыли начисто, потому что все, что она с собой привезла, все, что могла сообщить новенького и любопытного из столицы, было для них совершенно неинтересно. Жили своим – сохранятся ли колхозы или все станут ковбоями-фермерами и спрыснет ли необходимый дождь поля для хорошего урожая.
Нина почувствовала себя чужой, поначалу хотела обидеться, но потом поняла, что, собственно говоря, так и должно быть. Она здесь не чужая, да и никогда чужой не будет. Все по-русски – коли приедешь сюда со своей бедой, несчастной, обтрепанной, босой да голодной, то поначалу посмеются, позлорадствуют, а потом изо всех сил любой поможет всем чем может. А коль приехала как победительница, коль в душе своей каждый односельчанин тобой гордится, что теперь твой портрет на всю Россию по телевизору виден, то похвалили тебя, да забыли за весельем стола. Нечего обижаться, у всех своя жизнь, свои заботы.
Борька уже не знаки подавал, а хвативши самогону, сказал прямо, через весь стол:
– Эй, любовь моя первая, незабвенная, пойдем, потолкуем, что, уж нам и вспомнить нечего?
– Пойдем, – ответила Нина.
Они встали из-за стола, и особого внимания на этот маневр никто не обратил.
Нина вышла со двора и двинулась к центру деревни, к правлению и клубу и неожиданно увидела сверкающий купол церкви. Оказалось, что здание отремонтировали, покрасили, и церквушка, чуть не сто лет простоявшая в полном захламлении, словно заново родилась, засверкала, улыбнулась и от того, что она стояла на пригорке, беленькая, как невеста, все вокруг тоже приобрело какое-то веселенькое настроение.
Борька шел рядом и сопел, не зная, с чего начать разговор.
– Пойдем, Нин, на наше место.
– Куда?
– Да в дюны, к реке.
– Валя сказала, что нет уж там нашего места.
– Для нас-то есть, – пробурчал он.
– Перестань, Боря. Хорошо, что столько времени прошло. А встреться мы с тобой тогда, после твоего письма паскудного, я б тебя, наверное, и убила.
– Молодой я был, глупый.
– А сейчас поумнел? – усмехнулась Нина.
– Да уж как-нибудь! – обиженно ответил Борька. – Я свою житуху нужным курсом держу. Как наметил.
– Что-то я не понимаю. Так ты где сейчас?
– В Мурманске живу. Сперва там в рыбаках был, в Атлантике селедку ловил, а потом в порту работу дали. Хорошая работа, квартира есть и жена в магазине продавщицей работает.
– Дай Бог вам счастья. А здесь зачем?
– Сына матери на лето завез.
Он начал бубнить, принялся рассказывать Нине о своем житье-бытье в заполярном Мурманске, и очень быстро Нина поняла, что живет он хотя и в довольстве при жене-продавщице, но существование у него монотонное, серое, никакого конечного смысла не имеющее и все построено на том, чтобы двухкомнатную квартиру сменить на трехкомнатную.
– А дальше что? – спросила она.
– Обменяем на другой город.
– Какой?
– Где потеплее. В Мурманске все-таки ночь полярная и зимой мороз жжет так, что на двор выходить неохота. Ну, а у тебя дети есть, муж, семья?
Нина на мгновение задумалась. Врать не хотелось, но и правду в родную деревню сообщать тоже смысла не было. Начнутся пересуды, разговоры.
– Никого у меня нет, – жестко ответила она. – Тебе в жизни повезло, а мне нет. Работа есть, квартира есть, Москва есть. Вот и все.
И вдруг она увидела, что Борька при ее словах словно обрадовался, словно выпрямился и возгордился.
– Значит, Нина, без меня у тебя жизни не вышло, да?
– Не вышло, – ответила она, едва не расхохотавшись ему прямо в упитанное, гладкое лицо.
– Я так и подумал.
– Что подумал?
– Что у нас друг без друга жизни не будет! Ошибку мы тогда сделали, что разошлись. Ошибку.
– МЫ сделали?! – ударила Нина на «мы». – Ах ты мразюга вонючая! Мы! Поимел девку, обрюхатил, портки натянул и сбежал, а теперь толкуешь, что оба виноваты? А по глазкам твоим сальным я ж вижу, что ты прикидываешь, как бы меня опять на старое поймать, разжалобить да на сеновал завалить.
– Подожди, подожди! – Борька, кажется, даже испугался. – Так ты что, на сносях тогда была?
– Была! Но помер твой ребенок! Медики его ножиками порезали и в канализацию спустили!
– Да я ж не знал про то!
– А знал бы? Ну, не ври! Честно скажи, вернулся бы в деревню, обженились бы мы с тобой?
Она видела, что поначалу Борька собрался соврать и сказать, что да – вернулся бы и они поженились. Но не тс уже времена и люди они взрослые. Борька отвернулся и тихо проговорил:
– Нет, Нина. Я тебя тогда не ценил, да и не любил. Не вернулся бы я в деревню эту сраную. И ты для меня простой деревенской девкой была, просто баба с птицефермы. Ебалка с трактором.
Нине до боли хотелось спросить его, а как же он сейчас ее оценивает, в каком виде для себя представляет, но она удержалась, чтоб не слышать его глупостей. Умного ведь ничего не скажет.
А главное в том, что по засалившимся, плотоядным глазкам Борьки она видела, что не разговоры разговаривать ему сейчас хочется, а затащить ее куда-нибудь в тихий уголок, задрать юбку, сдернуть с нее трусики и заняться кобеляжьим делом. И самое-то обидное, как понимала Нина, что он даже не удовольствие от нее хотел получить, как мужчина от женщины, а приятно ему было, приятно мечталось потом где-то среди друзей похваляться, что отодрал в деревне бабу, которая в столице, в Москве на телевидении работает и се на экране телевизора можно увидеть. А он, молодецкий Борька, ее на сеновале драл всю ночь и так, и эдак, и как хотел.
– Ты, Боря, себя не волнуй, – сказала она насмешливо. – Я к тебе никакого такого интереса не имею.
Он понял, насупился и, когда они дошли до магазина, сказал:
– А говорят, что бабы всегда дают тем, кто у них первым в жизни был.
– Захотелось?
– Ну? Первый же я.
– Ну и что?
– Да то. Должна, значит, покладистой быть.
– Всю жизнь, получается, под тебя ложиться? Хорошо решил устроиться. Заскучаешь при своей торговке, слетал в Москву и всю свою дурь в меня спустил.
– Так я же не просто так, – начал было Борька.
– А как?
– Любовь у нас будет. Не как у молодых дураков, а настоящая, серьезная.
Она засмеялась и старалась смеяться, пока Борька не покраснел, не заелозил, понимая, что чепуховину порет.
– Да что ты в любви-то понимаешь, Борька?! У меня за эти годы мужиков было, больше чем волос у тебя на голове, а к любви я ни разу и не приближалась! Да и ты сам-то подумай, вспомни всех баб, которых на койку заваливал, да любил ли ты кого по-настоящему, готов ли был за нее умереть не раздумывая? Была ли хоть одна из них у тебя каждый день так в душе, что и до вечера без нее дожить не можешь?!
– Моя Зойка для меня...
– Да знаю я, что для тебя твоя Зойка! Жратву на стол ставит, бутылку по воскресеньям, пыхтит с тобой под одеялом, когда ты ее возжелаешь, вот и все. Это, думаешь, любовь?
– А что? – сбычился Борька.
– А то, что при этом ты и мне такой блуд предлагаешь!
– Зазналась, сука, – мрачно сказал Борька. – Думаешь, что столичные пижоны тебя имеют в зад, да в рот, так и ты от этого интеллигентной, культурной стала? Ошибаешься, Нинка. Как сидела на тракторе, такой и осталась. Губы помадой накрасила, а сопли из носопыры все равно те же, деревенские текут.
И вдруг Нина поняла, что сейчас Борька прав, прав на все сто процентов! Что с первых минут, как приехала она в родную деревню, так тут же и мыслить, и разговаривать, и вести себя стала так, словно она никуда не уезжала, словно сейчас посидит за столом, потрахается на сеновале с Борькой, отоспится, а завтра на зорьке встанет, да усядется за руль своего трактора и поедет пахать борозду.
Она даже засмеялась дико от удивления, а Борька глянул на нее как на сумасшедшую.
– Ты что?
– Ничего. Уеду я завтра.
Он улыбнулся с осуждением и презрения в голосе на покривившихся губах скрывать не стал.
– Не по нутру пришелся родной дом, да? Навозом шибко воняет да культуры мало?
Она отвернулась от Борьки и вошла в магазин в надежде купить там Комаровскому и Воробьеву какой-нибудь смешной подарок. У них это вошло в обычай, дарить друг другу какие-нибудь смешные и забавные мелочи. То какие-то старые галоши привез Воробьев из Актюбинска, то Комаровский нашел где-то для Нины утепленный лифчик на кроличьем меху.
Но в магазине ничего не было. Просто ничего. Ни продуктов, ни товаров. У одной стенки стоял детский велосипед, на полке лежали пакеты с сухой горчицей.
– Ты что здесь при таком ассортименте торчишь, Вера? – спросила она продавщицу.
– Деньги платят, и торчу, – лениво ответила она. – В пять закрою, к тебе в дом приду. Расскажешь, как ты там в телевизор попала?
– Расскажу, – безнадежно ответила Нина, хотя понимала, что рассказать так, чтоб это было понятно, она не сможет. И не потому, что Вера глупа, а просто это получится сказка из жизни иных миров, и никто ей не поверит.
Она вышла из магазина и увидела, что Борька уже поспешает обратно, к столу. Испугался, видать, что выдуют всю самогонку и ему ничего больше не достанется. И про всякую любовь забыл. Эх, и мужик нынче пошел! Отваливает в сторону при первой же неудачной попытке. А был бы поласковей, поосторожней да понастойчивей без хамства, так ведь и неизвестно еще, как бы дело к ночке повернулось. Ведь как там ни рассуждай, а все-таки он, Борька, – первый!
Возвращаться в дом Нине не хотелось. Она обошла церковь стороной, пересекла поле и присела на обрубок дерева на краю дубовой рощи.
В голову пришло где-то вычитанное или услышанное изречение, что-де родная земля питает человека могучими соками жизни.
Нина сидела и прислушивалась, питает ли ее родная земля этими соками. Ничего подобного не чувствовалось. Кто и как мог питать? Или это происходит в подсознании и человек просто не ощущает такой подпитки, а сказывается она позже, сама собой?
Нина тихо засмеялась, подумав, что бы по этому поводу сказали ее друзья. Андреев, понятное дело, поджал бы сухие губы и сказал: «Никто нас ничем не питает, кроме самих себя. Афоризм этот – очередная банальная пошлость, выкинь его из головы». Воробьев бы долго раздумывал, пытаясь проникнуть в смысл изречения, а потом ответил бы неопределенно: «Может быть... Хрен его знает. Есть вещи, которые мы не понимаем, но пользуемся ими. Никто не знает до сих пор, что такое электричество. А лампочки горят и холодильники работают. Познать все нам не дано. В том-то и счастье». Комаровский поначалу бы засмеялся, а потом объявил что-нибудь в таком духе, что питает нас хороший ресторан да горячая партнерша под одеялом. Ну, а верная Наталья сказала бы, что вопросы подобного рода настолько праздное занятие, что она о них не думает.
Через час Нина вернулась в дом матери, и, к ее удивлению, праздник уже выдохся, хотя выпивки было достаточно.
Чуть за полночь свалились и самые стойкие, притомившаяся вусмерть матушка пошла спать, легла на свою скрипучую деревянную кровать, задернула ситцевую занавеску и тут же уснула.
Нина с Валей прибрали стол, перекидываясь пустяковыми фразами, а потом попили чайку. Нина сестру почти не слушала, продолжая думать о могучих соках родной земли. Пришла к выводу, что питают ли они ее или нет, это неизвестно, но все же каждый человек должен иметь на земле тот уголок, куда всегда можно прибежать, чтоб передохнуть и зализать раны, где тебя всегда примут и обогреют для дальнейших жизненных битв.
Словно услышав или почувствовав ее мысли, сестра примолкла, а потом спросила:
– Нинок, а что у тебя в жизни дальше будет?
– Как «что будет»? – не поняла Нина.
– Я так считаю, что ты большим человеком станешь.
– Почему?
Сестра поежилась.
– Ну, за границу ездишь, среди таких людей в телевизоре показали. Мы все думаем, что ты большим начальником станешь, может быть, в правительство выбьешься.
Нина засмеялась.
– Почему же в правительство?
– Да не знаю. Так у нас говорят.
– Нет, Валюша, уж где-где, а в правительстве я никогда не буду. Это не мое дело.
– А чем ты все-таки занимаешься? Я ведь так и не разумею?
– Честно тебе сказать, я и сама не знаю.
Сказала это Нина откровенно и так же без грусти подумала, что это правда. Что если прикинуть ее жизнь на несколько лет вперед, то вся она зависит не от нее, а как решат те, кто взялся за ее судьбу: Андреев, Воробьев, Комаровский. А сама она лишь послушно идет по той дороге, которую они ей намечают. Хорошо это или плохо, тоже неясно. Смотря как на все посмотреть.
– У меня, Валя, – сказала она, – какая-то жизнь кончилась, а какая-то начинается. Куда и как она пойдет, я не знаю. Всякое может случиться. Может, светлые дни будут, а может, сдохну в канаве, никому не нужная.
Они проговорили до первых петухов и пошли спать. Нина решила, что срываться в Москву тут же, завтра, как она вгорячах решила, было совсем нехорошо. Как обещала побыть неделю, так и надо сделать.
И честно всю неделю была при матери, почувствовав в какой-то момент, что это их последняя встреча. Чувство это так ее испугало, что она сказала в последний вечер:
– Я, мама, думаю, что если все сложится хорошо, то приезжать теперь буду каждое лето.
– Приезжай, приезжай, – обрадовалась та. Нина пожалела, что так еще и не рассказала про Игорька, что надо бы сказать матери, что у нее есть внук, что именно он и будет приезжать на лето, но что-то ее остановило. Лишь чуть позже она поняла, что при такой новости пойдут неизбежные вопросы, и первый из них будет самый болезненный, кто папаша дитяти? И правду на этот вопрос отвечать не хотелось, а врать в таком щепетильном деле Нина уже не могла. Лучше было пока промолчать.
В день отъезда мать всплакнула, а Валентина сказала неуверенно, что если летом в хозяйстве все будет справно, то, может быть, она сама приедет в Москву в гости.
На станции Нина оказалась ранним утром, билет удалось взять только очень дорогой, в купе на два человека, и этого второго человека не оказалось. Весь путь до Москвы Нина пролежала на полке не вставая, то забывалась полусном, то бодрствовала, а когда поезд застучал колесами на подъездах к столичному вокзалу, она вдруг почувствовала с внезапно охватившей душу теплой волной, что она приехала в свой настоящий дом, на ту землю, которая и питает ее соками, и рассуждать не надо, почему это происходит. Это так, и все тут.








