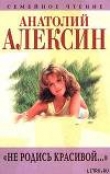Текст книги "Возвращаясь к себе"
Автор книги: Елена Катасонова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Помнишь, как мы ходили на лыжах? Был март, яркое солнце, и ты позволила себя поцеловать. Летели от поезда назад снега, сам поезд, казалось, летел по снегу, а я вспоминал. Как я был счастлив тогда, ты даже не представляешь! Помнишь, я сказал тебе, что ты мое «alter ego», ты удивилась – «Разве ты знаешь латынь?» – и, гордясь собой, я скромно ответил: «На уровне присказок – да».
Ты, наверное, ждешь – раз уж я тебе написал – объяснения: почему я внезапно исчез и даже уехал, не попрощавшись. Отвечаю на твой невысказанный вопрос: от страха. Да-да, от самого настоящего страха. Здесь, в армии, вдали от дома, от нашего очень человечного, мягкого климата (все в сравнении, Леночка, и не стоило нам ворчать на него) я как-то враз повзрослел. Может быть, это случилось бы и дома, в Москве, но не думаю, чтобы так резко. Да, я повзрослел, многое понял, хотя кое-что смутно понимал даже в то сумбурное лето, когда все делалось, как во сне, какая-то сила толкала меня на поступки, о которых теперь вспоминаю с мучительной неловкостью и стыдом.
Писать, во всяком случае, для меня, легче, чем говорить, глядя тебе в глаза. Ты хоть знаешь, какие они красивые? Иногда ты спрашивала: «Что ты на меня уставился?» А это я тобой любовался, твоими прекрасными, как у княжны Марьи, глазами. Я все думаю о нас с тобой, это главное мое здесь занятие – конечно, кроме военных наук, которые, как ни странно, меня увлекают, – и чувствую, что становлюсь пусть не умнее, но толковее, что ли.
Ленча, родная, если бы ты знала, как меня тянуло к тебе! Ия всегда тебя уважал – твой ум, эрудицию, культуру, до которой я тянулся, как мог, изо всех своих сил. Но если на свете есть Бог (как проснувшись, бросились все в религию; даже у нас в казарме висит распятие), то, уж конечно, вовсю резвится и развлекается дьявол – а может, его тоже надо теперь писать с большой буквы? Ну да черт с ним, с дьяволом!
К чему это я? К тому, что мое всегдашнее восхищение тобой, как ни странно, мешало к тебе приблизиться: я отваживался лишь на довольно робкие поцелуи. Что со мной творилось в то лето, страшно вспомнить! Да и жара была еще, как в аду. Все: труба зовет! Допишу завтра.
Дописываю. Перечитал и ужаснулся: разве можно о таком писать? Нужно остановиться. Умолкаю. Молчу. Добавлю только, что если бы ты поехала с нами в лес, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе. А может быть, и твоя, хотя это допущение, наверное, слишком смело. Но от каких случайностей зависит жизнь человека…
Ответь мне, пожалуйста, очень тебя прошу! На что я надеюсь? На нашу с тобой похожесть. И если мне так тебя не хватает, то, может, и я по-прежнему как-то нужен тебе? Конечно, у тебя теперь другая жизнь, другие друзья и подруги, и ты, конечно, увлечена своим институтом – Костя сказал, что ты поступила, – ведь ты всегда увлекаешься тем, чем сейчас занята, но было же у нас с тобой нечто общее, касающееся только нас двоих, остановленное на полпути дьяволом, если он существует, хотя на него своей вины я не сваливаю, не думай.
Недавно прочитал непонятно каким образом попавшую в здешнюю библиотеку и никому здесь не нужную, но очень интересную книгу – новенькая совсем, на формуляре за четыре года всего две подписи, моя – третья. Так вот в ней сказано, что существует отдельная от души и ума жизнь тела, у которой свои потребности и права. Утверждение спорное, но автор – доктор наук, философ, может, он прав?
Догадываешься, к чему я клоню? Да, именно к этому – ты всегда понимала меня с полуслова. И как я печалюсь (не то слово, но не скорблю же?), что так нелепо все получилось! Прости, если можешь. Ты знаешь, за что. Никому, кроме тебя и родителей, не пишу. Даже Косте черкнул лишь несколько фраз: попросил, чтобы он уговорил Настю, если она заартачится, передать тебе это письмо.
Напиши мне хотя бы из милосердия: пишут же письма даже незнакомым солдатам? Я знаю, времени у тебя, как всегда, мало, так ты черкни пару строк, я не жду от тебя такого длинного письма, как мое, я, может, не умею писать тебе коротко: мне хочется все объяснить и, как прежде, хочется говорить с тобой, пусть даже эпистолярно. Наша ученая школа научила нас выражаться изысканно, и я ничего не забыл из уроков Геннадьевича. Ты знаешь, кстати, что онис Элизабет поженились? Вся школа на ушах стояла от зависти: девчонки завидовали Элизабет, а мы – Геннадьевичу – такую красавицу отхватил!
Никак не могу поставить точку. Стихи теперь не пишу, зато пишу прозу. Начал даже вести дневник: очень много всего интересного, нового, и умных мыслей – вагон. А может, мне это только кажется? Но я написал, представь себе, очерк в газету. Выйдет – пришлю. И знаешь, какой я взял себе псевдоним? «Еленин»… В редакции меня отговаривали – они-то не знают, в чем дело, – но я железно стоял на своем, потому что посвящаю этот очерк тебе, хотя предмета посвящения, конечно, он недостоин. Нет, вообще-то он интересный – взгляд человека со стороны на эти края. Газетчики удивились– «А мы ничего такого не замечали» – и сказали, что я молодец.
Представляю, как ты будешь читать мое письмо. Придешь домой поздним вечером, наденешь халатик или брюки и свитер, сядешь на диван и, поедая что-нибудь вкусное, начнешь разбирать мои каракули. Почерк у меня скверный, но я очень старался писать разборчиво.
Целую тебя, хочешь ты того или нет.
Твой Дима.
3
Вот и пришла золотая осень, последние дни убывающего, тающего тепла. Этот маршрут уже для Лены привычен: от безликого нового в уютное и такое знакомое старое Переделкино. Тишина. Затаилась, затихла природа, готовясь к глубокому, зимнему сну. Даже ручей у дороги струится лениво и медленно, даже речка, на мосту через которую стоит сейчас Лена, будто застыла в неподвижной сонности.
Скрипнули перила деревянного мостика: кто-то облокотился на них, встал рядом. Седой, поджарый, в надвинутом на ухо синем берете, в теплой куртке с множеством молний, заклепок, застежек… «Стареющий франт», – определила Лена.
– Не возражаете, если постою рядом? – спросил незнакомец.
– Не возражаю, – коротко ответила Лена.
– Позвольте представиться: Михаил Сергеевич.
– Горбачев? – засмеялась Лена.
– Ох, увольте, – комически поднял руки, словно сдаваясь, Михаил Сергеевич. – Ну все потешаются, все, кому не лень! После него уж сколько прошло, а меня по-прежнему дразнят. Во многом поэтому в большинстве случаев я представляюсь по-детски – Мишей. Но вы такая возмутительно юная, что я не решился. Вас-то как величают?
– Леной.
– Прекрасно! – с непонятным энтузиазмом воскликнул неожиданный собеседник. – А я, между прочим, часто вас вижу – то у пруда, то гуляющей по аллеям. Вы ведь не наша, не из Дома творчества?
– Не ваша, сама своя, – улыбнулась Лена. – Я здесь живу, через дорогу.
– Железную?
– Ну да.
– Как же, как же, наслышан: новый и, говорят, красивый район. Почему-то не бывал там ни разу, а наши ходят. Но мне не хочется никуда вылезать: Переделкино – дом родной. Я, знаете, много лет жил в Кургане, а издавался в Москве, в «Советском писателе». Вот и приезжал, когда шла книжка и нужно было наведываться в редакцию. Да и просто так приезжал, пообщаться, даже когда переехал в Москву. Чудное место! Прикипаешь душой. Здесь и пишется, и думается иначе; многие считают, что с годами накопилась духовная энергия: здесь жили Пильняк, Чуковский, Иванов, Пастернак…
– Вы поэт?
– Нет, прозаик.
Он назвал фамилию, неизвестную Лене, и он смутилась: такого писателя она не знала.
– Ничего, – ободряюще улыбнулся незнакомец, – всех не перечитаешь. Хотите, предоставлю вам такую возможность?
Михаил Сергеевич играл своим и в самом деле красивым голосом; серые глаза с нескрываемым превосходством смотрели на Лену.
– Конечно, – вежливо сказала она.
– Интересно будет знать ваше мнение, – продолжал писатель. – Мнение молодежи всегда интересно. Пойдемте, я живу в новом корпусе. Посидим, попьем чайку, и я преподнесу вам последнее свое творение. Могу даже подписать, если желаете.
– Поздно уже, – после минутной растерянности нашлась Лена. – Мне пора. Как-нибудь в другой раз.
Михаил Сергеевич усмехнулся.
– Понимаю… Что ж, имеете право поостеречься. – Лена собралась возразить, но не успела. – Да правы вы, Леночка, ей-богу, правы: кто знает, что задумал этот старый черт? А проводить-то вас можно? Это для вас не опасно?
Он явно смеялся над ее осторожностью.
Пока шли к переезду, писатель говорил без умолку – о себе и своих собратьях.
– Какое было время… Какие были великие старики… Я застал еще Арсения Тарковского – вечерами он сидел в кресле у балюстрады. В те годы не было нового корпуса, а в старом были маленькие комнаты, обставленные, впрочем, вполне по-писательски: письменный стол, книжные полки, торшер – они и сейчас такие, немного уже старомодные. Удобства – в конце коридора, душ – внизу, на первом этаже. Все скромно, но нам это было, как сейчас говорят, без разницы. Днем работали, вечерами беседовали. И все подходили к Тарковскому – хоть слово сказать. Ах, какой поэт! «Вот и лето прошло…» Такая щемящая лирика… Зачем-то сляпали пошлый шлягер. Совершенно чуждая поэтике Тарковского музыка, и особенно – ритм…
Лена слышала песню и ее любила – как раз за слова. С уважением покосилась она на своего спутника: интересно было слушать его.
– А теперь? – спросила она: – Вы говорите, «великие старики».
– Теперь все в прошлом; кого здесь только нет, – безнадежно махнул рукой писатель. – Сначала сдали коттеджи – в одном из них практикует некий гомеопат. Правда, коттедж на отшибе, в глухой тени, у забора, иномарки, подкатывающие к нему, на территорию не въезжают, но я думаю это пока, на новенького. Другие коттеджи сняли какие-то фирмы. Стоят пустые до пятницы, приезжают на то, что называется у них «викенды». Приезжают и безобразничают: пьют, врезают на полную мощность магнитофоны, оставляют где ни попадя пивные бутылки, приходят в столовую, когда вздумывается, говорят официанткам «ты»… Эх, да что там! – Он прижал к себе локоть Лены. – «Вы только нас не бросайте, – просят наши симпатичные подавальщицы. – Мы к вам привыкли: вы такие культурные!» А нас все меньше и меньше.
– Почему?
Лена повернула голову, заглянула в посерьезневшие глаза.
– Дорого, – коротко сказал писатель. – Ну вот, я благополучно перевел вас через железную дорогу, разделившую мужчину и женщину, то есть нас. – Он слегка поклонился. – Мужчине пора возвращаться. На ужин мы никогда не опаздываем: наши милые официантки спешат домой. – Он задержал руку Лены в своей. – Когда я вас снова увижу?
Он так уверен, что они снова встретятся? – хотела возмутиться Лена, но не успела, потому что обрадовалась.
– В следующую субботу, – сказала она.
– Так нескоро… – разочарованно протянул писатель.
– По будням я в институте, – объяснила Лена, только сейчас отметив рассеянно, что спутник за всю их встречу ни о чем ее не спросил.
И опять – никакого заинтересованного внимания: что за вуз, на каком она курсе. Вместо этого – сразу в бой.
– Ну и что? – Михаил Сергеевич крепче сжал ее руку. Серые глаза смеялись. – Я, например, на лекции вообще не ходил: скукотища!
– Ничего подобного! – горячо возразила Лена. – У нас лекции интересные. А еще есть коллоквиумы, семинары…
– А в среду? – неожиданно спросил писатель.
– Что – в среду? – не поняла Лена.
– В среду что-нибудь такое есть – типа семинаров, коллоквиумов?
– Нет, – с ходу соврала Лена. – Никаких семинаров.
– А с лекций сам бог повелел сбегать, – по-мальчишески подмигнул ей Михаил Сергеевич, – даже с интересных. Оно того стоит: последние теплые деньки! Впереди зима, успеете насидеться в аудиториях. Идет? Часов в двенадцать, на мостике.
Он сжимал руки Лены, заглядывал ей в глаза. Лена молча кивнула: невозможно было сказать ему «нет».
Понедельник и вторник тянулись медленно и лениво, как волы в арбе. На занятиях Лена то и дело поглядывала в окно: светит ли еще ненадежное осеннее солнце? Дома с особым пристрастием прислушивалась к прогнозу погоды, хотя что могло измениться за три, к примеру, часа?
– Что с тобой? – толкнула ее локтем Катя на лекции по культуре античного Рима.
– Ничего, – шепотом ответила Лена.
– Да уж, – не поверила Катя. – Ни фига не записываешь, о чем-то все думаешь. Хотелось бы знать, о чем?
– О том, что вдруг завтра пойдет дождь.
Шепот Лены упал до чуть слышного.
– Ну и что? – удивилась Катя, и карие, с золотинкой, глаза воззрились на Лену. – На то и осень. Нормально!
– А кому неинтересно, – возвысил голос тучный, страдающий отдышкой профессор, – кто в отличие от меня, грешного, про античный Рим знает все досконально, тот может с чистым сердцем покинуть аудиторию.
За бликами его очков невозможно было определить, куда он смотрит, но передние ряды разом повернулись к Лене и Кате – должно быть, для себя незаметно они заговорили довольно громко, – и подружки испуганно пригнулись к столу и вжали головы в плечи. А когда профессор, выдержав не хуже мхатовской паузу, стал читать дальше, усердно застрочили в тетрадках, тщетно стараясь наверстать упущенное…
Дождь начался, по закону подлости, именно в среду, на рассвете. Сквозь зыбкий, тревожный сон Лена слышала, как стучат по жестяному желобу крупные капли; засыпая и просыпаясь, печально думала, что это, значит, судьба: не придется сегодня идти к деревянному мостику, потому что нечаянные знакомые разве встречаются под дождем?
Выходит, не случится то огромное в ее жизни, чего она страшилась и о чем мечтала, из-за чего потеряла Диму – что теперь его письма? – о чем они с Михаилом Сергеевичем молчаливо договорились там, у переезда, – если только все это ей не пригрезилось. «Я, что ли, влюбилась? – спросила себя Лена. – Не знаю… Но меня как-то странно тянет к нему…»
Лена закрыла глаза. Дождь равномерно, настойчиво шумел за окном. Как же ей отчаянно не везет! Что ж, не судьба… Но и в институт она не поедет, с непонятным ожесточением решила Лена. Так и будет лежать в постели до самого вечера. Лежать и страдать. Пусть другие сидят на лекциях!
Она слышала, как ходила туда-сюда мама, как щелкнул замок – мама ушла, – дождь превратился в мизерную водяную пыль; эта пыль все летела, летела, и не было ей конца. Вставать по-прежнему не хотелось – так бы вот и провалялась весь день, – но почему-то Лена все поглядывала на лежащие рядом часики и в одиннадцать вдруг вскочила и, не думая ни о чем, не колеблясь и ни в чем больше не сомневаясь, побежала в душ. Оттирала себя так рьяно, будто вылезла из забоя, вымыла новым шампунем волосы, хотя были они абсолютно чистыми, высушила их феном – завивать было уже совершенно некогда, – торопливо и, как потом поняла, слишком ярко «нарисовала лицо» – так называла макияж смешливая Катя – и заметалась по комнате, с треском распахивая шкафы и с грохотом выдвигая ящики.
Из одного вытащила кружевной, с белым атласом лифчик, купленный только вчера в дорогом бутике, тонкие колготки, короткую, соблазнительную маечку – из того же бутика, – из шкафа выволокла за рукав сиреневый свитер – тот самый, что ей так шел, – одним махом натянула его на себя, надела брюки, кроссовки, куртку, сдернула с вешалки зонт и бросилась вон, к переезду.
Она спешила – времени не оставалось совсем, – но идти приходилось медленно, выбирая места почище, особенно когда жилые кварталы кончились и Лена вышла на финишную прямую – к переезду. По унылой колонне машин, выстроившейся в неровный ряд, поняла, что горит красный свет: вот-вот к станции подойдет электричка. Можно, конечно, перебежать, взглянув направо-налево, но тетка с флажком однажды так наорала на Лену, что нарываться снова на этот безобразный ор не хотелось.
– Куда, шалава, несешься? – грозила она Лене флажком и даже ногой топнула от негодования. – Ростишь вас, ростишь… Успеешь еще на тот свет!
Тетка была, конечно, права. Кажется, проще простого – перебежать, но кто-то же попадает под поезд.
Лена вздохнула и послушно остановилась на своей стороне. Электричка, подвывая, как раненый зверь, подлетела к станции. Через пару минут, надрывно взвыв, устремилась дальше. Унеслась, как видение, испарилась, как дух, оставив позади подрагивающие теплые рельсы, и все, остановленное ею, разом пришло в движение: двинулись вперевалочку с обеих сторон машины, заторопились туда-сюда пешеходы, и среди них почти бежала, совсем уже опоздав, Лена.
Дождь припустил с новой силой. Казалось, сама природа рвалась остановить Лену, но она решительно шла вперед по пропитанным влагой кочкам, через мокрый лес, срезая дорогу, сокращая путь, стараясь держаться поближе к высоким, разлапистым елям, которые защищали как-никак от дождя. Мокрый зонт давно был в раздражении сложен, потому что, как только Лена ступила в лес, беспрестанно цеплялся за ветки да и закрывал столь необходимый Лене обзор.
«Куда я иду? Зачем? – терзалась Лена. – Мы почти незнакомы… С какой стати попрется мой Горбачев на мостик в такой-то дождь? Ну видел меня прежде, ну постояли рядом, поговорили, ну проводил – даже не до дома, всего лишь до переезда, – зачем-то уговаривал встретиться… Он, может, уже и забыл, а я… Ничего, никто не узнает, – утешала она себя, – Увижу, что нет никого, и пойду потихоньку назад. Никому не скажу, даже Кате…»
Никого, конечно, и не было. Сиротливый, почерневший от влаги мостик печально разглядывал себя в рябой от дождя воде и был так же одинок и несчастен, как Лена. Ноги сами понесли ее к мостику. Лена оперлась о перила и стала смотреть вниз, на безрадостную серую воду. Дождь барабанил по капюшону, но зонт раскрывать не хотелось, вообще было лень шевельнуться. Ни души… Все серо вокруг – и вода, и небо, и сама жизнь.
Вдруг чьи-то руки обняли ее сзади, повернули к себе, и Лена увидела совсем близко знакомое лицо, глаза смотрели радостно и открыто, капли дождя стекали с капюшона на лоб.
– Я уж думал, все пропало, конец, ты не придешь, – бормотал Миша и целовал ее мокрые щеки, губы, глаза. – Ну как я тебя найду? Не проводил, дурак, до дому, броди теперь, как леший, по здешним лесам, ищи свою Лену. Но если зарядят дожди, ты скорее всего вообще у нас не появишься.
– Как же я вас не заметила, – с запинкой сказала Лена. От радости, что ли, он перешел на ты?
– Прятался, как заяц, под елью, – хмыкнул Миша. Казалось, он посмеивается над собой. – Прибежал без пятнадцати, понимал, что глупо, но очень спешил. Знал, что ты обязательно опоздаешь, а летел к мостику со всех ног.
Лена смотрела на него удивленно, и он поспешил объяснить.
– Женщины всегда опаздывают – имеют право. Даже принято слегка задержаться, чтобы мы, мужики, не зазнавались. К тому же дождь, могла вообще не прийти. Что бы я тогда делал?.. Ну, пошли, а то ты у меня простудишься.
Его открытость, его неожиданное «ты» смущали и радовали. Они шли к нему, хотя Миша не сказал об этом ни слова, но ведь хлещет дождь, невозможно бродить по мокрому лесу, да и Переделкино – не Москва: деваться некуда. Лена плыла по течению, послушно шагая с этим неожиданным человеком, и только раз ее кольнула тревога, когда вошли они в белый красивый дом и пошли мимо лифта по аккуратной ковровой дорожке к широкой, тоже покрытой ковром лестнице. Но дежурная за стойкой что-то читала и даже не подняла головы; было тихо, безлюдно и очень спокойно.
– Прошу!
Перед Леной открылась дверь вовсе не в комнату, как она себе представляла, а в настоящую двухкомнатную квартиру. Мокрые куртки были повешены в стенной шкаф в прихожей, в просторной комнате, на столе, в высокой вазе лежали фрукты. Была приоткрыта дверь на балкон, которую Миша сразу закрыл, но запах свежести, прелой листвы остался. Альков вел, безусловно, в спальню.
– Хочешь привести себя в порядок? – угадал Миша. – Вот здесь. – Он зажег свет в туалете и ванной. – А давай примем душ? Не то, пожалуй, простудимся. – Он засмеялся, угадав страх Лены; похоже, он все про нее угадывал. – Не бойся, не как в сериалах наших новых друзей, не вместе, когда герои почему-то любят друг друга под душем, а по старинке – сначала ты, потом я. Как раз сегодня поменяли полотенце и все такое…
Лена стояла под душем, отдыхая от пережитого: когда ждала у переезда, почти бежала по мокрому лесу, а на мостике – никого… Горячие струйки стекали по телу, согревая и успокаивая.
– Леночка, – стукнул в дверь костяшками пальцев Миша. – Там, на стене, махровый халат, можешь надеть.
– Спасибо, – ответила Лена.
Халат – это уж слишком! Это почти провокация. Она вышла, как вошла, в брюках и свитере; ее встретил понимающий взгляд серых глаз и сервированный стол.
– Упер харчи из столовки, – доверительно сообщил Миша.
– И вино?
– Нет, вино, фрукты, кофе и там, – он кивнул в сторону холодильника, – мороженое – все приобретено на честно заработанное печатными строчками. Располагайся, я мигом.
Он скрылся в ванной, а Лена осторожно прошлась по роскошным, на ее взгляд, апартаментам. Еще и балкон! Неплохо устроились труженики пера. Хотя все это возведено было, кажется, до перестройки, когда писателей уважали, побаивались и баловали.
– Вот и я, – вышел Миша. – Халат, по примеру гостьи, надеть не посмел.
Господи, как он все понимал!
Миша подошел к столу, взял бутылку, взглянул на этикетку.
– «Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?» – галантно поинтересовался он.
Лена засмеялась.
– Тоже любите «Мастера и Маргариту»?
– Еще бы!
– И я! – обрадовалась сходству литературных вкусов Лена. – Что до вина, то, если я правильно понимаю, выбора у нас нет?
– Ну как же, как же, есть выбор! – с нарочитым возмущением возразил Миша. – Вот, пожалуйста!
Он распахнул холодильник.
– Ого! – воскликнула Лена. – Так вы небось пьяница?
– Увы, – с показным смирением признал Миша. – Хотя нет, наверное, нет: пьяницы, по слухам, хорошее вино не жалуют, им подавай «бормотуху». Так что почетный титул сей отрицаю. Но я буду работать здесь до глубокой осени, к чему затруднять себя поездками в город? А на станции, пожалуй, отравят. Так что? С какого начнем?
– С того, что на столе.
Светлое вино наполнило широкие, на тонких ножках фужеры.
– Выпьем, Леночка, на брудершафт, – сказал писатель. – А то мы блуждаем между «ты» и «вы», а по имени вы меня, грешного, так ни разу и не назвали. Неужели я столь безнадежно стар?
– Нет, что вы!
– Тогда – только «Миша» – с этой самой минуты. Как в Америке, без всякого отчества! Особенно если отчество, Господи помилуй, например, Ильич или, не к ночи будь помянут, Виссарионович. И никаких «вы»! Договорились?
– Договорились.
Их руки переплелись, они бесстрастно поцеловались – холодным, официальным поцелуем, как принято на брудершафтах, – и выпили прохладное кисловатое вино из бокалов друг друга.
– Теперь скажи: «Миша, я хочу есть».
– Миша, – послушно повторила Лена, чувствуя, как разливается по телу тепло и вино начинает туманить мозг: она совсем не умела пить. – Я не хочу есть.
– А чего ты хочешь? – внезапно охрипнув, спросил Миша.
Лена молчала.
Он встал, подошел к Лене и, как там, на мостике, обнял ее сзади, вместе со стулом.
– Можно посидеть на балконе, – торопливо сказала она.
– Да, – согласился он. – Только не нужно.
Лена запрокинула голову; на нее смотрели глаза, полные насмешливой нежности.
– Совершенно невозможная поза для поцелуя, – тихо сказал Миша и поцеловал Лену, дотянувшись до ее губ и не разжимая объятий. – Чего ты боишься? – спросил он еще тише.
– Не знаю… Всего, что будет, – беспомощно ответила Лена.
– Глупенькая, – улыбнулся Миша, отпустил ее, подошел к столу и снова налил в фужеры вина. – Будет хорошо, это я знаю точно. Выпьем! Нас ведь тянет друг к другу, или, может быть, я ошибаюсь?
– Нет, – покраснела Лена. – Не ошибаешься. Только я боюсь, ты подумаешь…
И опять Миша все угадал.
– Ничего такого я не подумаю, – взял он в свои ее руки. – Я же видел тебя не раз – как ты ходила по лесу и по аллеям, такие умные глаза, и такое в них одиночество… Я о тебе много думал: кто ты, почему одна? Надо было подойти раньше, но я, представь себе, не решался.
– Почему?
– Должно быть, чувствовал: даром это мне не пройдет.
Больше они не сказали друг другу ни слова. Молча, обнявшись, прошли через альков в спальню, где стояли две тахты, разделенные тумбочкой. Миша задернул шторы, стало почти темно. И в этом сумраке, под шум дождя, содрогаясь от боли и счастья, Лена стала женщиной.
– Милая моя, так это у тебя впервые, – прошептал ее первый мужчина – растроганно, изумленно. – В наше время… В расхристанной нашей стране… Да ты просто реликт Золотого века!
– Не смейся…
– Посмотри на меня! Разве я смеюсь? Я чуть не плачу…
У него и в самом деле стояли в глазах слезы.
– Мне нужно в ванную, – шевельнулась Лена.
– Да-да, конечно, – засуетился Миша. – Вот чистое полотенце, салфетки… Что-нибудь еще?
– Нет, ничего. Я сейчас.
– Теперь-то ты можешь надеть халат? – крикнул ей в спину Миша. – Это уже ничего не значит?
Невозможно, когда тебя так понимают!
Лена вышла, путаясь в полах синего с белым халата. Миша встретил ее в бежевой свежей рубахе и легких брюках, какой-то очень вдруг молодой.
– Какая ты хорошенькая! – восхитился он. – В этом халате – как медвежонок. Он всегда теперь будет ждать тебя, хорошо? Пошли в столовую: уже обед.
– Нет, что ты, я не могу, – испугалась Лена.
– Почему? – простодушно удивился Миша.
– Потому что… Потому что…
– А, понимаю! – догадался Миша. – Никто здесь ничему не удивляется, никто никому бестактных вопросов не задает, так и знай! Не бойся, на тебя не будут глазеть: у нас такое не принято. К тому же в нынешние времена полным-полно посторонних. Разве я не говорил тебе: все коттеджи сдаются.
– Говорил.
– Ну вот. Это прежде все друг друга знали в лицо; теперь незнакомых лиц много. Так что пошли обедать, заодно погуляем. Смотри, какое солнце! Как по заказу.
Вышли на балкон и увидели: чудо произошло в природе. Толстым желто-красным ковром устлана была земля, с влажных деревьев, плавно кружась, падали последние багряные листья, подбавляя красок роскошному ковру осени. Ветер разогнал тучи, яркое небо сияло над головой.
Миша обнял Лену за плечи.
– Смотри, как радуется за нас природа. Ты ведь останешься? Утром провожу на станцию, поедешь в свой институт.
– В университет, – самолюбиво уточнила Лена.
– Сейчас везде – университеты да академии, – засмеялся Миша. – Так останешься?
– Я с собой ничего не взяла.
– А что, собственно, нужно студентке? – призадумался Миша. – Выдам тебе ручку, бумагу, соорудим бутерброды.
– А мама? Что ей скажу?
– Что-нибудь вместе придумаем! – оживился Миша. Он чувствовал, что почти уговорил Лену. – Дождь, слякоть… Решила заночевать у подруги.
– У нас так не принято.
– Тогда скажи правду, как есть, – рассердился Миша. – Тебе не три года.
– А как оно есть? – подняла глаза Лена.
– Пока не знаю, – задумчиво и серьезно ответил Миша. – Знаю только, что не случайная встреча, не то, что принято называть «связью». У меня к тебе огромная нежность, и удивительно трогательно, до слез, что у тебя до сих пор никого не было.
– Разве это так важно?
– Ты знаешь, да. Века не переменили мужчину: в глубине души каждый из нас жуткий собственник… А сейчас мне очень хочется, чтобы ты осталась. Не потому что… а просто так. Клянусь, больше к тебе не притронусь. – Он заметил мгновенное удивление, скользнувшее по лицу Лены. – Потому что… – Миша запнулся. – Черт, я волнуюсь, как мальчик. Чтобы ты не думала, что прошу поэтому. Нет! Мне хочется с тобой говорить, побольше узнать о тебе, чтобы мы уснули и проснулись вместе… Но если хочешь, ты можешь уйти на вторую тахту – она тоже застелена. А теперь мы идем обедать – я уже заказал – и не вздумай сказать «нет»!
Как много вместил в себя этот день! После обеда они гуляли по пронизанным солнцем аллеям, по роскошному ковру желтых, багровых и бурых листьев. Потом сидели в симпатичном маленьком баре и разговаривали, сходили к «святому колодцу» и набрали в кувшин воды. Вечером Лена позвонила маме: «Я останусь у Кати, хорошо?» – и, на всякий случай, Кате: «Не звони мне сегодня и завтра с утра, ладно? Я тебе потом все объясню».
– Интриги, интриги, – заметил, посмеиваясь, Миша. – Какая ты еще маленькая! Какая счастливая, что можешь звонить маме и что-то выдумывать. – Он поймал непонимающий взгляд Лены. – Счастливая, что у тебя есть мама – главная, что ни говори, защита в жизни. Пока у нас живы мамы, мы надежно защищены.
– От чего?
– От всего. Мама стоит между тобой и всем тяжелым, что может случиться, между тобой и, прости меня, смертью. Не знаю, как объяснить. По-настоящему это понимаешь, когда матери уже нет, когда остаешься один на один с жизнью и смертью. Перед тобой лежит финишная прямая, теперь – перед тобой, и никого – в защите…
Лена смотрела на Мишу испуганно: она и вправду не очень его понимала.
– Извини, – спохватился он. – О таком обычно не говорят, но мне почему-то кажется, что тебе я могу сказать все. И ты мне – тоже. Вот ты рассказала, как поступала в иняз, и мне так стало больно, словно это случилось со мной. А этот твой УНИК без аккредитации… Конечно, еще есть время, но вдруг они обманут тебя, вас всех, и вы останетесь без дипломов?
– Нет, дипломы, конечно, будут, – возразила Лена. – Только не государственные.
– А какой в них тогда прок?
– Какой-то все-таки есть…
– Похолодало… Закрываем дверь на балкон и пьем чай с коньяком, идет?
– С коньяком? Так есть еще и коньяк? А говорил, что не пьяница.
Оба расхохотались. Миша схватил Лену на руки и стал целовать, целовать, закружил, задыхаясь, по комнате, бросил на диван.
– Ну вот, – сказал он потом с показным смущением, потому что втайне был горд своей воспрянувшей мужской силой. – Вот и верь после этого нам, мужикам.
Лена молча улыбалась, губы ее дрожали. Так вот это что такое… В первый раз, кроме острой, мгновенной боли, она ничего не почувствовала, а теперь… Какой взрыв всего ее существа, какое потрясающее освобождение…
– Прости. – Миша заглянул ей в лицо и увидел глаза счастливой женщины. – Я тебе не сделал больно? – осторожно спросил он.
– Нет, – обняла его Лена. – Так, наверное, задумано.
– Кем?
– Природой. Через боль – к счастью. Странно и радостно.
– А почему странно?
– Мы друг друга почти не знаем.
– Еще есть время, – прижал ее к себе Миша. – Узнаем…
Еще… Внезапная тревога кольнула Лену, но спросить она не посмела.
– Ты обещал подарить мне книгу.
– Ах да!
Миша подошел к столу, взял книгу в твердом коричневом переплете, раскрыл, надписал.
– Моя последняя, – сказал он, отдавая книгу Лене. – Написана довольно давно, только все не удавалось издать. Спасибо блаженной памяти перестройке: разрешили издавать за свой счет. Дороговато получилось, но потом я все окупил – помогло Общество книголюбов: продавалась на встречах с читателями.