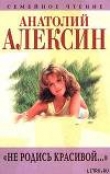Текст книги "Возвращаясь к себе"
Автор книги: Елена Катасонова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Ты вся – людских несчастий памятник
И даль изменчивых морей.
Я жду тебя, как чуда праведник,
Как ждет прощения злодей.
– Костя, ты очень занят?
– Как все и всегда. А что?
– Я бы к тебе приехал.
– Валяй!
– Так ведь ты занят.
– Ну и что? Дружбу пока что не отменили, хотя, говорят, сие – рудимент ежечасно проклинаемого социализма. – Костя смеется. – Помнишь, как говаривал Михаил Светлов, когда друзья возмущались, что он звонит по ночам?
– Нет, – тоже смеется Дима, хотя не знает еще, в чем дело.
– Он говорил: «Дружба – понятие круглосуточное», и они смирялись. Так что – приезжай.
Московские кухни… О них до сих пор вздыхает старшее поколение, и Дима это поколение понимает… В доме у Кости уютно, тепло, родители, отужинав, удалились в гостиную – смотреть очередной сериал.
– Ну что, – смеется Дима, – телевизор одержал большую творческую победу?
– Да мне он даром не нужен, – презрительно фыркает Костя. – Но польза от него, дурака, как видишь, имеется: нам предоставлено все жизненное пространство. – Широким жестом он обводит руками крохотную кухню. – Ну, рассказывай, как ты там?
– Слушай, может, я шизофреник? – сразу берет быка за рога Дима. – Какое-то жуткое раздвоение… В моей жизни главное – Лена…
Он рассказывает все как есть, выворачивая перед другом свою истерзанную душу. Костя сочувственно слушает, испытывая даже некую гордость: к нему обращаются как к эксперту. А как же! Ведь он «бойфренд» независимой, самолюбивой Насти, и у них, слава богу, не только духовная близость. Отчалят на дачу предки – он будет оставаться у нее до утра. Во всяком случае, так они с Настей планируют.
– Все ясно, старик, – говорит он, когда Дима, высказавшись, наконец умолкает. – Любые отношения должны развиваться, а вы все топчетесь на пятачке платонической дружбы.
– Вот и Танька так говорит, – успевает вставить фразу Дима.
– Танька твоя – та еще девка, – морщится Костя. – Но тут она, к несчастью, права. И кто же, как не мужчина, должен сделать первый, решительный шаг?
Диме лестно, что его назвали мужчиной, но прикоснуться к Лене… Невозможно даже представить… И – где? Как? Он не знает, не знает, не знает!
– Ну, приходите сюда, – подумав, решает Костя. – А я отвалю часа на два, подышу свежим воздухом.
– Но как я скажу? – в отчаянии восклицает Дима. – Ей ведь и в голову не приходит…
– Ты уверен? – мудро прищуривается Костя. – Откуда ты знаешь, что она чувствует? Вы ведь целуетесь?
– Да, конечно.
– Так двигай дальше – вперед и выше! Но лучше – ниже.
– Долго думал? – укоризненно смотрит на него Дима.
– Совсем не думал, – кается Костя. – Прости, старик: дурацкая шутка.
– Почитать, что я написал вчера? – не слушает его Дима. – Еще не отделано – так, черновое.
Он явно волнуется.
– Давай! – охотно соглашается Костя.
– Начало смятое, буду еще работать, конца пока нет. Но есть середина:
И заломив запястья тонкие,
Слегка раскачивая стан,
Из глаз туманных искры звонкие
Роняешь в пьяный океан.
И вижу: пепельными змеями
Разметена твоя коса…
Так в ураган летят над реями
Разорванные паруса.
– Здорово, – одобряет Костя. – Но ведь у Лены, кажется, нет кос?
– О боги, – горестно закатывает татарские глаза Дима. – Это поэзия, а не калька с действительности, дубовая твоя голова! Так я вижу Лену, и даже не ее, а…
– Прекрасную даму, – не без ехидства подсказывает Костя. – Ты, случайно, не подражаешь Блоку?
– Не знаю, – задумывается Дима. – Сознательно – нет. Но иногда мне самому кажется, что я как-то близок к этой блестящей плеяде, к знаменитому Серебряному веку.
– А к городскому сочинению ты готовишься? – вдруг спрашивает Костя.
Дима вскакивает как ужаленный.
– И ты туда же! Уж напишу как-нибудь, пропади оно пропадом!
Неожиданно отворяется дверь и возникает Иван Николаевич, отец Кости.
– О чем шумим? – любопытствует он, наливая себе воды в стакан.
– У него, пап, седьмого городская контрольная, – объясняет Костя, – а он все пишет стихи.
– Надо бы оторваться, – добродушно басит Иван Николаевич. – Хотя бы на время. Сдашь экзамены, а потом…
– А потом – вступительные в вуз! – возмущается несправедливостью бытия Дима.
– Ничего не поделаешь, такая у вас пора – юность, – сочувствует Иван Николаевич, но губы морщит улыбка. – Все сразу: школа, вуз, выбор профессии, а тут еще всякие любовные страсти.
Он весело подмигивает ребятам.
– Да-а-а, – с завистью тянет Дима. – Вам-то хорошо: у вас все в прошлом.
– Так уж и все? – вскидывает бровь Иван Николаевич. – Не скажи… Ну, ладно, отправимся восвояси: кончилась небось идиотская эта реклама.
Залпом выпивает он еще стакан воды и возвращается к телевизору. Дима смотрит на закрывающуюся дверь невидящим взглядом.
– Ты чего? – спрашивает Костя.
– Концовка пришла.
– Какая концовка? Куда пришла?
– Концовка стиха. А пришла, естественно, в голову.
– Читай! – распоряжается Костя.
И вместо счастья будет бешеный
Порыв безумия души…
Как погребения повешенный,
Я жду тебя в людской глуши.
– Эко хватил! – не одобряет концовки Костя. – Уж и «повешенный»… Не очень-то поэтично.
– Что бы ты понимал! – вспыхивает Дима и, отшвырнув от себя стул, начинает бегать по кухне, стукаясь об углы. – Это же не стихи какой-нибудь графини Ростопчиной.
– По-моему, она была княгиней, – думает вслух Костя. – «Какой-нибудь»… Скажешь тоже…
– Какая разница! Графиня, княгиня… Короче, это не салонная лирика.
– Сдаюсь, сдаюсь, – поднимает руки Костя. – А о моем предложении все-таки ты подумай.
– О каком предложении? – непонимающе хмурит густые брови Дима.
– «Уж эти мне поэты», как говаривал Евгений Онегин. Живешь в мире грез, а реальная жизнь…
– Выражайтесь яснее, – подражая Геннадьевичу, велит Дима.
– Я говорю о хате, – терпеливо напоминает Костя. – И, повторяю, мужчина должен сделать первый шаг, понял?
В черных глазах Димы самый настоящий страх.
– Слышь, я боюсь, – признается он. – Наверное, я дурак, но мне страшно.
– Чего? – шипит возмущенный Костя.
– Ну, это… Вдруг у меня не получится?
Дима нервно хихикает.
– Ну-у-у, – не находит подходящих к случаю слов Костя.
– Нет, ты ничего такого не думай, – торопится Дима. – У меня все в порядке, но Лена…
– Понятно, – рубит воздух рукой эксперт Костя. – Но, знаешь, не войдя в воду, не научишься плавать, так?
– Так.
– Следовательно, нужно решиться. А то, гляди, разовьется какой-нибудь комплекс.
– Ты только меня не пугай! – самолюбиво вспыхивает Дима.
– Нас всех без конца пугают, – хмыкает Костя. – «Имфаза, имфаза…»
– Так это для стариков.
– И выкачивание денег из бедняг-импотентов.
С бессердечностью молодости оба хохочут и не собираются объяснять родителям Кости, когда те приходят пить чай, что их так рассмешило.
7
Теплый, душистый апрель пролетел, как всегда, мгновенно. Начало мая было традиционно холодным и сумрачным. По небу лениво ползли серые, мрачные тучи, то и дело срываясь ледяным внезапным дождем. Прохожие, съежившись, короткими перебежками пробегали открытые пространства и, торопливо сложив мокрые зонтики, ныряли в спасительное метро. Московские власти сразу после праздников безжалостно выключили батареи, по районам с садистской неторопливостью отключали горячую воду, садоводов пугали возможными ночными заморозками. Вся Москва чихала и кашляла: по городу катился очередной грипп.
Болела Наталья Петровна, болела, заразившись, от нее, Лена, в лежку лежала вся семья Кости – заразу принес в дом общительный Иван Николаевич; у Димы пока держались – в основном благодаря чесноку.
– Так пахнет же! – бессильно возмущался Дима, отбрыкиваясь от очередной дольки.
– Не важно! – сурово говорил отец. – За щеку – и в метро! У самой школы выплюнешь и закусишь «тик-таком».
– Все равно остается, – чуть не плакал Дима. – И во рту противно.
– Экзамены сдавать надо? – задавал риторический вопрос отец и сам на него отвечал. – Надо! Учиться – не целоваться. Вызовут к доске – дыши в сторону. Сам говоришь, что не ходит полкласса.
– Мама! – взывал Дима в отчаянной надежде к главному в доме авторитету.
– Отец прав, – коротко отвечала мать.
Приходилось смиряться, хотя за порогом чеснок, конечно, выплевывался. Однако дело уже было сделано, и вирусы к Диме не приставали.
Одна из лучших школ Москвы бешено, в беспощадном темпе готовила своих питомцев к экзаменам. Сбив температуру, пошатываясь от слабости, глотая всяко разные витамины, приползали в класс отболевшие, и, глядя на их изнеможенные, бледные лица, Дима начинал думать, что непреклонный отец, возможно, и прав.
– Как ты себя чувствуешь? – звонил он Лене.
– Хреново, – вздыхала она, и сиплый, придушенный голос о том же и говорил.
– Может, что-нибудь привезти? – не очень-то искренне, скорее из вежливости, предлагал Дима, и Лена, конечно, отказывалась.
– Не надо. Мама уже выходит.
Вообще-то их выручал мамин Леша: привозил полные сумки всего-всего, нажимал кнопку звонка и ждал на лестничной площадке, когда приоткроется заветная дверь.
– Уходи, уходи, – махала рукой Наталья Петровна. – Поставь сумки на пол и уходи.
– Дай хоть взглянуть на тебя: я соскучился, – жалобно просил Леша.
– Ох, я такая страшная, – слабо сопротивлялась она.
– Ни в жизнь не поверю! – горячо восклицал Леша.
Дверь открывалась пошире, родное, измученное болезнью лицо устало смотрело на Лешу, они обменивались тремя-четырьмя фразами, улыбались друг другу – он чуть не плакал от жалости и любви, – она протягивала руку и брала сумки, он рвался свою Наташу поцеловать.
– Не подходи! – останавливала она.
Дверь закрывалась, и Леша оставался один. Тут же, у двери, набирал заветный номер.
– Ты еще здесь? – угадывала Наталья Петровна.
– Ага, – радостно подтверждал Леша. – Стою и печалюсь: зачем ты придумала карантин? Это же, в конце концов, не холера!
– Хуже, – роняла в ответ Наталья Петровна.
– Скажешь тоже, – ворчал Леша. – Может, ты просто меня разлюбила? – тревожился он. – Вдруг тебе не хочется, чтобы я тебя целовал?
– Дурачок, – слышалось в ответ в трубке. – У меня тридцать восемь и пять, какие там еще поцелуи?
– Хоть в щечку, – не сдавался Леша.
– Да хоть и в щечку, а все равно.
– Что – все равно?
– Свалишься с таким же гриппом – узнаешь.
– Ну и пусть, – храбрился Леша.
– А кто будет тогда нас кормить? – вопрошала Наталья Петровна. – Ну иди, я устала.
Лена слышала мамины ответы, угадывала вопросы и думала о любви. Ни заниматься, ни даже просто читать она не могла: температура лезла все выше, голова раскалывалась от боли, то и дело Лена проваливалась в туманное забытье. Но даже в тяжелом сне, с повязкой на лбу – вода и уксус, – которая высыхала так быстро, что грела и без того пылающую в огне голову, мучил ее вопрос: что это такое – любовь?
Вот, например, мамин Леша. Видно, что любит маму, и она, кажется, любит тоже. Так почему же они не вместе? Даже католики и те разрешили разводы. Что ли спросить? Нельзя, потому что жестоко. А как иначе узнаешь? Однажды Леша пришел раньше мамы, и Лена поила его чаем и развлекала светской беседой. А внутри все кричало: «Зачем ты устроил себе такую сумбурную, суматошную жизнь? Зачем врешь, изворачиваешься, мотаешься из конца в конец Москвы? Ведь не мальчик уже, не юноша, седина в волосах. И до каких пор…» Но конечно, она ничего не сказала и ни о чем таком не спросила…
– Леночка, пора обедать, – вошла в ее комнату мама.
– Не хочется, – прошептала Лена.
– Хотя бы чаю, – уговаривала мать. – Леша принес лимоны. Когда высокая температура, нужно побольше пить. А смотри, какой торт! И дольки – апельсиновые, лимонные.
– Ну давай. Чай и дольки.
– А торт?
– Даже думать противно: сразу тошнит. Мама принесла чай, на блюдце – апельсиновые и лимонные дольки и тихо вышла.
Лена, с внезапно проснувшейся жаждой, тремя глотками опустошила чашку. На дольки взглянула, но к ним не притронулась.
Так… На чем мы остановились? Все на той же любви. Вот, скажем, Димка. Смуглое лицо, черные глаза, смелый взгляд и улыбка тут же всплыли из горячечного тумана.
С ним интересно всегда, и когда он целует – приятно. Его звонки, всякие байки о школе, его стихи – не очень умелые, но какие-то очень живые, и как он о ней беспокоится – встречает у колледжа, провожает домой… С ним можно говорить обо всем на свете, ему можно рассказать все до донышка, и это чувство, что она не одна, что их двое… Все так ново и неожиданно, так согревает сердце, но разве это любовь?
Она без него скучает, ей хочется видеть его, прочла до болезни «Последний магнат» Фицджеральда – захотелось немедленно своим впечатлением с ним поделиться – интересно, читал или нет? С ним у нее появилась компания умных, веселых ребят, а с Настей они по-настоящему подружились.
Лена словно загибала пальцы, подсчитывая плюсы своей новой жизни. Да, у нее теперь появился, как у Насти, «бойфренд», только без близости. «Подобно многим блестяще одаренным личностям, он вырос ледяно-равнодушным к сексу…» Значит ли ее равнодушие, даже страх к постоянно, назойливо и бесстыдно рекламируемому сексу, что она «блестяще одарена»? Так вот, как Стар, герой незаконченного романа? Разве интеллект и чувственность несовместимы? Говорится ведь в том же романе, что Стар «окинул взглядом оставшуюся убогую пустыню и возразил себе: «Нет, так нельзя». И обучил себя доброте, снисходительной терпеливости, даже любовной привязанности».
Лена выписала эти – слова в свою записную книжку и, перечитывая, выучила наизусть. Тут было над чем подумать. Значит, можно себя обучить? Наверное… Только не хочется. Лена брезгливо поморщилась. «Как представлю… фу ты ну ты…» Или она еще просто не доросла? Тот же Стар все-таки влюбился – лет в сорок. Господи, как долго ждать. Опять-таки почему? Вот Настя, ее ровесница, такая умная, бесконечно в себе уверенная… Ей же интеллект не мешает? Все знают, что она близка с Костей, и в компании им откровенно завидуют. Поговорить, что ли, с Настей, спросить? Нет, неудобно, да и о чем? Придется, как Стар, ждать. Но мужчина сорока лет и сорокалетняя женщина – категории разные: «У стены сидела старушка лет пятидесяти…» Правда, это было написано в девятнадцатом веке, но все-таки…
Устав от сумбурных мыслей, Лена поменяла повязку, с наслаждением почувствовав прикосновение к пылающему лбу холода, повернулась на правый бок и впервые за последние дни заснула глубоким и крепким сном. И это было началом выздоровления.
Как бешено, азартно, с каким удовольствием пришлось нагонять!
– Никому нет никакого дела, болела ты или нет, – прослушав по телефону фальшивые сетования подруги, сурово сказала Настя. – Тем более что у вас выпуск. Так куда после колледжа? Ты решила?
– Точно – не в юридический.
– Столько трудов, и зря?
– Лучше остановиться сразу, чем потом всю жизнь маяться.
– Подумай! У юристов работы невпроворот. И бабки приличные.
– Копаться в грязи – совершенно не для меня, – сказала Лена.
– Почему в грязи? – немедленно возразила Настя. – Можно на все эти суды и споры взглянуть иначе.
– Интересно, как?
– Как на борьбу за высокую справедливость.
– Ой, не смеши! У нас суд неправый – таким был, таким и остался. А уж новоявленный суд присяжных… То оправдывают убийц, то твердят «виновен» при отсутствии всяких улик. Взять хотя бы последнее дело…
Лена с жаром рассказывает о слушаниях в Мещанском суде.
– Ты так красочно все описываешь, – смеется Настя, – а в юристы идти не хочешь. Потом не раскаешься?
– Ни в жизнь! Буду поступать на переводческий.
– Ну-ну. Звони!
– И ты.
Не успела Лена повесить трубку, телефон затрезвонил снова.
– С кем ты трепалась? – хмуро спросил Дима, даже не поздоровавшись. – К тебе не прорваться.
– С Настей.
– О чем?
– Обо всем понемногу.
– Слушай, – все так же хмуро продолжал Дима, – двадцать пятого у нас последний звонок, и мы решили не кататься на пароходиках, а поехать всем классом в лес, с ночевой. Берем палатки, жратву и выпивку, разожжем костер; Серега возьмет гитару. Я сказал, что ты будешь.
– Ну и напрасно, – сухо обронила Лена.
– Почему?
У Димы обиженно падает голос.
– Потому что у меня никакого последнего звонка не будет. Сразу – экзамены, и первый – двадцать шестого.
– А чего ты злишься? – неожиданно вспыхнул Дима. – Чем я тебя обидел?
– Ничем, – небрежно ответила Лена, хотя это не было правдой: тон его действительно злил. – Просто я думала, что ты помнишь. Я тебе об этом раз сто говорила. У тебя, может, склероз?
– При чем здесь склероз?
В неожиданном гневе Дима бросает трубку. Что он такого сказал, что он ей сделал? Пригласил в лес, на пикник, это что, преступление? Не хочет – ну и не надо! Вечно она занята, всегда ей не до него! В последнее время даже по телефону ее не достать, а когда достанешь, сразу чувствуешь, что торопится.
– Прости, мне надо бежать… Извини, меня ждут ребята…
– Какие еще ребята?
– Ну, дети, ученики, – торопливо объясняет Лена. – Созвонимся завтра?
Но завтра ей тоже некогда.
Мне это надоело, черт возьми!
И я лечу туда, где принимают.
Сколько песен знает Серега! И как здорово, классно играет он на гитаре, поет хрипловатым, простуженным голосом, под Высоцкого. Потрескивая и похрустывая, горит высокий костер, огненные птицы взвиваются вверх, устремляются к широким лапам сосны, тают в черном и теплом небе; им на смену торопятся, взлетая, другие.
Две большие оранжевые палатки натянуты недалеко друг от друга – для мальчиков и для девочек. На одной изображены лихие косички, торчащие в разные стороны, на другой – угольные, загнутые вверх усы. Это состроумничал толстый Мишка, лучший рисовальщик их класса.
Никого из взрослых, даже любимого всеми Геннадьевича, с собой не взяли, хотя родителям, сговорившись, наврали, что взрослые – а как же! – будут.
– Мы сами с усами, – хорохорились мальчишки на тайной сходке, и девчонки покатывались со смеху, потому что у ребят и в самом деле давно уже пробивались усики.
– А вдруг – террористы? – нервно хихикая, спросила известная бояка Наташа, глядя добрыми округлившимися глазами на Петьку – каратиста и забияку, физическую опору класса.
– Темная ты, Натка, как лес, куда мы собрались, – добродушно пробасил в ответ Петька. – Нужна им наша компания… Им подавай метро, стадионы, вокзалы.
– А хулиганы? – не отставала Натка.
– Так мы ж каратисты, верно, Димка? – подмигнул Диме Петька и, подпрыгнув, лягнул невидимого противника согнутой в колене ногой.
«Здорово! – восхитился Дима. – Надо бы и мне научиться».
– Ну, тогда я спокойна, – засмеялась Наташа, с обожанием глядя на Петьку.
Весь класс знал, что она в него влюблена. Весь, кроме Петьки.
– Но баллончики с газом, у кого они есть, возьмите, – оживился не очень-то смелый Мишка.
– А у кого их нет в наше время? – философски протянула красивая Света.
– Например, у меня, – призналась Таня, и ее глаза, обежав всех по очереди, остановились на Диме. – Если что, защитишь?
– Естественно.
Дима небрежно пожал плечами, стараясь не смотреть в эти синие, как небо, глаза, подавить внезапно вспыхнувшее смятение.
Теперь Таня сидела рядом, тесно прижавшись к Диме, на круглом длинном бревне, то и дело подставляя стакан – «плесни-ка, Дим-Димыч, еще», – вытянув ноги, положив белокурую головку ему на плечо – «ой, я, кажется, захмелела». От ее волос пахло горьковатым дымом и первыми ландышами, собранными в лесу, и это странно волновало, притягивало.
– На чем они держатся?
– Кто?
– Не кто, а что. Ландыши. У тебя в волосах. Таня довольно улыбнулась, коснулась цветов кончиками пальцев.
– Это моя женская тайна. Пахнет?
Она потянулась к Диме. Ее темные при свете костра глаза казались таинственными и огромными, душистые волосы коснулись его щеки.
– Да, очень, – сказал Дима и встал, отстраняясь от пугающей, опасной близости Тани. Но и она тоже встала.
– Пойдем в палатку? – шепнула со смешком в самое ухо. – Пока там нет никого.
Растерянный, он не нашел что ответить.
Высоко в небо взлетал, завораживая, костер, перебирал струны Серега, покачивались, возникая в ярком пламени, знакомые лица. Как незаметно и здорово он надрался, даже ноги стали тяжелыми, и ничего он уже толком не понимал.
Мягкая, обольстительная рука сжала его руку и увела прочь от костра, песен, гитары в другую жизнь – манящую, пугающую, взрослую. С восторгом и страхом, с ужасом побежденного Дима чувствовал, что готов к этой жизни и все у него получится – с маленькой, белокурой и смелой девушкой, влекущей его к себе. И не важно, что зовут ее Таня. Нестерпимая жажда мучила, изводила, но девушка – там, в темном чреве палатки – освободит его и спасет. И когда произошел долгожданный, благословенный, спасительный взрыв, когда могучая сила, распирающая истомившуюся, изнемогающую плоть, вырвалась на свободу и Дима застонал от сладостной муки освобождения, надеясь краем сознания, что звон гитары заглушит его стон, он закрыл глаза и откинулся на сооруженное наспех изголовье, чувствуя всеми клетками своего существа, что отныне без этого он жить не сможет…
– Вернемся к ребятам? – как ни в чем не бывало спросила Таня. В темноте он не видел ее лица, но голос был свеж и весел. А он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Лежать бы так вечно, вдыхая запах ландышей и костра.
– Подожди немного…
Дима подложил руку Тане под голову, и она уютно примостилась на его плече.
– Ты меня любишь? – выдохнула она.
– Да.
Он ответил, не думая, инстинктивно, подчиняясь нетленным правилам, выработанным давным-давно, в эпоху рыцарского отношения к женщине. Да и можно ли было ответить иначе?
– А как же Лена?
Он не успел сообразить, что сказать: чьи-то руки уже развязывали полог палатки.
– Ой, кто здесь? – послышался голос Светы. Она и в самом деле, кажется, испугалась.
– Террористы, – хихикнула Таня.
– Танька, ты? А это… – Света запнулась. – Я за кофтой, – словно извиняясь, пояснила она. – Костер догорает, холодно…
Пошарив рукой в темноте, она выудила из своего рюкзака кофту и, пригнувшись, вынырнула из палатки.
– Я пойду, – шевельнулся Дима. – Кажется, уже заливают костер.
– Ага, шипит, – прислушалась Таня. – Так как же Лена? – снова спросила она.
– Мы с ней друзья, – чувствуя, как больно, по-настоящему щемит его сердце предателя, сдавленно ответил Дима.
Зачем позвонила Света, они ведь никогда не дружили? Только за этим – чтобы открыть глаза.
– Я еще у костра заметила, как она к нему прижималась, – с непривычной для нее живостью торопилась высказаться она. – А потом они вдруг исчезли, и когда я пошла за кофтой в палатку…
Помертвев, слушала Светин рассказ Лена, и трубка была такой невозможно тяжелой, что пришлось сесть на стул и поставить на стол локоть.
– А ландыши уже есть? – придумала она, что сказать, чтобы остановить Свету.
– Ты о чем? – удивилась Света. – Какие ландыши? Ну есть, есть. Танька воткнула себе в волосы целый букет.
Опять «Танька»… Лена стиснула зубы.
– А ночью вы не замерзли? – гнула она свое. Пришлось отвечать.
– Так были спальные мешки, – с досадой сказала Света. – А утром мальчишки преподнесли нам березовый сок: надрезали кору с вечера, прикрепили к березам кружки…
– Варвары, – четко припечатала Лена. – Далось вам портить березы! Да и ландыши сто лет уже занесены в Красную книгу… Ладно, пока, бегу на маршрутку.
– Пока, – разочарованно протянула Света и повесила трубку. – Вот зануда так зануда, – сказала она.
– О ком ты? – спросила вошедшая в комнату мать.
– Да о Ленке, – скривилась Света.
Мать стояла и любовалась дочкой.
– О вашей отличнице? – вспомнила она прошлогодние разговоры. – Той, что перешла в колледж?
– Да, о ней, – недовольно буркнула Света.
– А кем же ей быть? – успокаивающе заметила мать. – Они все такие, отличницы.
И обе засмеялись.
А Лена никуда не поехала, ни на какую-такую маршрутку не побежала. Положив на рычаг тяжелую трубку, так и сидела на краешке стула, невидяще глядя в окно. В их далеком от центра районе пахло весной. Пели птицы, зеленели вдали деревья, по-летнему палило солнце, и Лена встала и задернула шторы: ей не хотелось света. Ну вот все и кончилось, грубо и неожиданно. А ведь он звал ее с собой, Димка, и, если бы она поехала, не было бы никакой Тани. А что было бы? Сидели бы у костра, смотрели вдвоем на огонь, чувствовали друг друга, свою всегдашнюю душевную близость.
– Что вы смотрите на нас одинаковыми глазами? – спросила однажды Настя.
– Как это? – не понял Дима.
Да и Лена не поняла.
– Совершенно одинаковым взглядом, – пояснила Настя. – Верно, Костик?
– Точно! – с удовольствием подтвердил Костя. – Глаза, правда, разные, но взгляд один к одному.
У них и был одинаковый взгляд – на все.
– Наша с тобой похожесть – случай довольно редкий. Ты и вправду мое «второе я».
Когда он это сказал? Недавно. Но теперь его слова казались далеким прошлым, все было как будто не с ней. Никто больше не поцелует ее, а за окном такая весна! Не с кем ей теперь говорить обо всем на свете, разве что с Настей, но это совсем другое. «Помнишь, как мы ходили с тобой по Москве и ты читал мне свои стихи? Помнишь, как зашли в кафе и я зачем-то решила стрельнуть сигарету у заросшего до бровей угрюмого парня, а ты меня отговаривал – «Ленка, ты ведь не куришь!» – помнишь нашу беспомощность перед таинственным суфле с чем-то совершенно неведомым?»
Лена сидела и терзала себя. Неужели все кончено? Неужели он ей даже не позвонит? Но такого не может быть! А если позвонит, что скажет? И что скажет ему она? Надо было, наверное, не прощать – тогда, после новогоднего вечера в школе. «Предавший раз – предаст тебя снова…» Кто это сказал? Никто. Это она сама сейчас поняла. «Когда ум приговаривает и казнит, сердце еще только прощается…» Да, книжная она девочка. А книжные девочки никому не нужны – во всяком случае, не нужны мужчинам.
Солнце упрямо врывалось в комнату, и Лена снова заставила себя встать и задернула вторые, тяжелые шторы. Так, в полумраке, просидела она до вечера, смутно ожидая звонка – он развеет мрак и спасет, – но никто ей не позвонил.
Очнулась от двойного поворота ключа – это пришла мама – и вдруг поняла, что сидит в кресле, пристально смотрит на серый экран невключенного телевизора и тихо плачет.