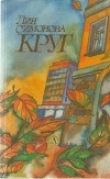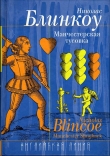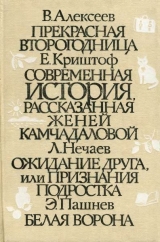
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Глава XV
Слухи по школе ползли уже давно. И как я понимаю теперь, дошли они и до бабушки. Так что в день «огородного» дождя и костерка разговоры о Марте Ильиничне и Андрюшке затеяны были бабушкой не так-то уж бесхитростно. Очень даже хитренько они затеялись, чтоб организовать общественное мнение, перебить то, что тянулось по школе: «Ах, ох, какой ужас, слышали? Этот из девятого «Б» шьет штаны за большие деньги? Пятнадцать рэ берет».
«Правда ли? Правда ли? Правда ли?» – спрашивали друг друга мамы, бабушки, учителя и ученики старших классов. Мы не спрашивали, мы знали: шьет. Не такие фирмовые, как на Поливанове и Эльвире, но шьет.
«Охан, поставь на очередь», – просила я, просила Вика, как будто шутя, но в то же время совершенно серьезно.
А вот как мы станем передавать ему из рук в руки десятки, этого мы не представляли, новое все-таки было дело. «Ничего, – решила Вика, – билетами откупимся. Когда театры приедут. Или филармония». – «Нужна Охану филармония…» – «Ну, ничего: диски достанем. Их на что хочешь обменять можно. Разберемся».
Разбираться не пришлось, потому что мама достала белые фирменные брюки мне и Вике через Эльвирину маму. Одни (мои) предназначались Эльвире, да оказались малы, другие кто-то тоже привез своей дочери из загранки, а она за время рейса, как это часто случается, подросла на два размера. Здорово!
Штаны стоили само собой не двадцать рэ, не тридцать и даже не сорок.
– Ну, – сказала мама, – каких теперь еще бананов и кокосов нашей дочери не хватает? – и посмотрела на меня так, что я поняла: нисколько она не злится на расход, сама рада – брюки мне идут.
Однако настроение мне чуть не испортила Марта Ильинична, когда подошла и спросила:
– Неужели тоже – Оханов? – Застенчиво, как тургеневская девушка, она бросила взгляд на мои туго обтянутые ляжки.
– Нет, – сказала я. – Бельгия. Там сзади написано.
Хорошо, что не добавила: «Читать надо».
– А у Вики?
– Та же фирма.
Я даже фыркнула, до того наивно Марта Ильинична недооценивала наши возможности и переоценивала возможности Андрея. Но потом ко мне подошла с тем же вопросом сама Лариса Борисовна. Правда, и тут я подумала: «Достать не может, хочет попросить Охана сшить». Но ползли слухи: «…и своим одноклассникам и девчонкам из ПТУ!», «Матери правы, конечно: такие деньги!», «А почему не научить девчонок обслуживать себя?», «Да, да. Но он ведь ребенок, ученик!»
Ай, ай, ай! Какой поднялся шум! Лариса Борисовна ходила озабоченная, за столом вертела карандашик, как будто собиралась, да не решалась о чем-то спросить. Даже лоб ее не казался уже таким ясным и гладким. Я ее понимала: неприятности с Оханом – это были неприятности с классом. А неприятности с классом перерастали в неприятности ее личной жизни…
И наконец наша Дама решилась. Оставила класс после уроков, посмотрела на нас огорченно и сказала:
– За один день до последнего звонка не стоило бы об этом, но с меня требуют, поймите меня правильно. Вы догадываетесь, о чем будет разговор. Нет? Да.
Мы догадывались. Но легкая зыбь, пробежавшая по классу, была всего-навсего зыбью любопытства: а как дела пойдут дальше? Только сестры Чижовы зябко придвинулись друг к другу, срослись плечами.
– Я надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезно. Да? Нет, нет, вы переоцениваете свое положение в школе. Положение ведущего класса. Или недооцениваете? – Лариса Борисовна приставила карандаш к носу и посмотрела на нас в полной задумчивости.
И тут выскочил, возник Гром, стал как будто даже выше ростом. Я давно уже не слыхала, чтоб с таким удовольствием прокатывал он по классу свой прокурорский бас:
– Нельзя же так, честное слово, лишь бы флажки не задеть. Это же не слалом, чтоб шарахаться: слева – опасность, справа – ЧП! Что происходит? Может мне кто-нибудь объяснить, что особенного происходит?
Тут он замолчал, оглядываясь, будто и вправду ждал объяснений. И замер, скрестив руки на груди, откинув голову. Большое лицо его плыло над классом, уголок верхней губы твердо лежал на нижней.
Лариса Борисовна как-то нерешительно смотрела теперь уже на него одного. А потом спросила негромко и доверительно, поверив, наверное, что Громову известна истина в последней инстанции:
– Ты считаешь, ничего особенного и этично, когда ученик за деньги шьет брюки своему товарищу?
– Мне, положим, он сшил безо всяких грошей, – поморщился Володька. – Я ему весной огород помогал перекопать. Так что не будем делать из мухи слона. Обузил он кому-нибудь? Не той ниткой прострочил? Взял больше, чем в ателье?
– В ателье те же пятнадцать, правда, правда! – Вика смотрела на Ларису успокаивающими глазами. – Только очередь в месяц и, честное слово, хуже, Лариса Борисовна.
– Да? Нет! – Лариса все-таки хлопнула рукой по столу. – Нет. С толку вы меня не собьете. Давайте думать, что тут не так и почему нас обвиняют? Думайте, думайте, я прошу. А?
Она потерла себе виски, тоже напрягаясь; у нее было два выхода. Первый – отфутболить вопрос, ответить: «Меры приняты». Второй – вызвать нас всех на откровенный разговор. Стало бы ясно: никто к Охану не относится хуже, а тем более с осуждением после известия о брюках. Почему? Может, потому, что никогда наш маленький жилистый Охан и без того не ходил в романтических героях. А может, еще и потому, что Пельмень, например, давал за трешник списывать на пленку шлягеры, о чем, слава богу, учителям ничего не было известно.
– Нет, – говорила между тем Лариса, стараясь вывести нас на свою дорожку. – Я вас поймаю на слове: существует еще бескорыстие и в наши дни. Вон за какие копейки вы работаете на раскопках. А?
– Так то по привычке, еще с пятого класса втянулись, а с рабочими – напряженка, – подпрыгнула Шунечка Денисенко.
– А ты, Громов, а ты? – Лариса так уперлась в него голосом, глазами, что Володька встал. – Вот ты ответь: почему ты не соглашался на бригадирство в совхозе, когда я тебя уговаривала? Хотя там можно заработать прилично при твоем умении… Нет?
– Потому что мне, как уже было сказано, интересны черепки. А в брюках какой интерес? Требуется материальная компенсация.
И тут я увидела, как в скуластом темном лице Охана что-то напряглось, но потом он встряхнул головой и снова глядел спокойно, как всегда.
– Мне брюки – интересно, – сказал Охан. – Мне – да.
– Да? – Лариса посмотрела на Андрея с недоумением, как будто это вообще не его было дело: открывать рот, вступать в объяснения. – Нет, должен же быть какой-то другой интерес в работе? Не один прагматизм?
– Должен! – хором крикнули мы, совершенно не сговариваясь, просто зная, чего от нас ждут. – Должны быть светлые идеалы добра и справедливости, а не одни бананы и кокосы…
– Помолчи, Камчадалова! Да, должен, вон твой отец в столице мог бы, а он…
– Ищет золото, – страшным шепотом подхватила я, приставив ладошки ко рту.
Неужели наша Классная не понимала: мы хотим перевести все на шутку и удрать из класса, мы просто не в состоянии сегодня серьезно разбирать эту проблему, которая для нас вовсе не проблема и, уж во всяком случае, не новость? Ну шьет и шьет. Но тут я оглянулась на Охана и поняла: вот еще человек, совсем не расположенный шутить вместе с нами. Лицо Охана только казалось спокойным, но губы все время начинали, да так и не выговаривали ни одного слова.
– Не хочешь же ты сказать, – обратилась к нему Лариса, – что определился на всю жизнь и будешь шить?
– Хочу.
– Нет? Ты же можешь в институт? Да?
– Нет. В институт меня не манит.
Лариса смотрела на него, как на только что встреченного, – с опаской. А класс забавлялся считалочкой или скакалочкой, какая у них получилась: «Да?», «Нет?», «Нет?», «Да!». Но в какой-то момент стало тихо и тяжело. Возможно, потому, что обида Охана вполне ощутимо плавала в воздухе, резвиться нам вдруг расхотелось.
– Интересно, – завела неожиданно Шуня Денисенко, – интересно, когда он берет за работу пятнадцать рэ, считается – безнравственно. А когда нам родители покупают за сотню – очень даже нравственно. Все рады и поздравляют. Ярлык, что ли, действует?
– Бедный Денискин! Тебе ярлык не грозит, – отмахнулась Элька, – твои и к выпускному не раскошелятся.
– Уже! – засмеялась Шунечка и шейку вытянула, чтоб все видели ее радость. – Купили, финские. Прямо по госцене.
– По госцене? – полюбопытствовал Пельмень. – Теперь как по госцене: ты мне брюки, я тебе диски, а чтоб за спасибо…
Тут Мишка закрутил головой с сомнением и произнес свое любимое:
– Лучше маленький трояк, чем большое спасибо, в наше время многие так считают.
Умненько работал Пельмень! И лозунг свой выдвинул и вроде отодвинул его от себя: классный час все же шел, не посиделки под Откосом. К тому же отстраненно истина эта выглядела как-то объективней, что ли. Но Лариса-Бориса и в такой форме восприняла ее чуть ли не с ужасом. Нет, все-таки она была очень молодая, наша Классная Дама. Она была почти такая же, как мы, и тоже не знала многих ответов. И тоже, я подозреваю, ей хотелось легких.
И тут вступила Оля Чижова:
– Хорошо рассуждать тем, у кого отец приносит двести пятьдесят да мать двести. А если вся семья на сто сорок?
– На сто сорок не бывает, – залопотал Генка. – Как на сто сорок?
– Помолчи, выставка! – Оля замахнулась на него хуже, чем на муху. – Конечно, не бывает. Тогда появляются дополнительные доходы: кто брюки шьет, кто две смены берет, а кто как…
Чем-то таким взрослым запахло в классе. Чем-то таким, что не должно было бы ни омрачать, ни озадачивать наше беззаботное детство. Позвольте, а разве оно все еще продолжалось?
У кого-то не хватает денег? Улетает в Нижневартовск отец? Болеет мать? И четверо теснятся на двадцати метрах? Ерунда: поставь-ка этот диск, длинный-длинный, красивый-красивый Геночка! Современные ритмы и не таким, как ты, забьют мозги.
– А если кто почувствовал, что может не тянуть с матери… – опять вступила Денисенко, которая, как известно, не умела остановиться вовремя. – Нет, правда? Ну, чего вы смеетесь? Почему самому шить – плохо, а выплакивать у матери – хорошо? И мы ведь не знаем, куда у него эти деньги пошли? На какие цацки? Ты скажи, Охан. Как зарабатывает человек, мы поняли. Теперь надо узнать, как тратит. Получается социологическая характеристика.
– Балдеж! – завопил Пельмень со своей парты. – Денисенко станет нас по графам расставлять!
– Не стану, – успокоила Шуня ласковым голоском, в котором, однако, по-моему, была большая порция сильно действующего яда. – Тем более твоя графа, Хозяин Жизни, мне известна. А вот Андрей пусть скажет.
– Как же! Он скажет, – опять заскрипела Ольга.
Она так редко говорила о чем-нибудь, что было дальше заданной страницы. Казалось: сам голос ее не может приспособиться к нужному тону, когда речь идет о постороннем.
– Он не скажет, потому что деньги на простое – стыдно. На роскошь, здесь Шура говорила, не стыдно. Я говорю – на роскошь похвастать даже можно, вон какой – беру и швыряю на «тачку» или что там… А матери отдать для Нинки и Зинки на ботинки – стыдно!
Оля замолчала, да и я на минутку отвлеклась, глядя на Генку. К суровой действительности меня вернул голос Денисенко Александры. Как звук набатного колокола над классом неслось: «Мама сказала! Мама сказала! Мама сказала!» Очень жаль, что я пропустила начало, но и так было ясно: Шунечкина мама считала – ничем хорошим не кончится то, что дети не знают, что такое добывать хлеб. И добывать рубль.
Шунечка, цитируя маму, рукой рубила воздух, а кроме того, она излучала токи высокой частоты! От нее отходили магнитные силовые линии и сыпались синие искры.
Все смотрели на Шунечку, а она росла над партой и все говорила, говорила, говорила…
– Марат! – крикнула Вика в полном восторге от Шунечкиного рвения. – Нет, Робеспьер! Нет, конечно, конечно же, друг народа – Марат. Нет? Да!
– Бедный Денискин! – удивилась Эльвира. – Твоя мама считает, голод, что ли, должен быть? Чтоб ты еще похудела до посинения или как?
– Или как! – рявкнул за Шунечку Громов и повертел пальцем, намекая на Эльвирины способности.
– А как? – не унималась Эльвира. – Как? Все будет искусственно, папа говорит. Раз есть благосостояние, он говорит, детство будет длинное. У тебя, например, до пенсии, Денискин…
Хорошо, что она ввернула эту пенсию, хорошо, что у нас тут появилась вполне законная возможность грохнуть на всю школу.
Ничего такого особого Эльвира, конечно, не сообщила. Родители попрекают нас пенсией, по-моему, класса с пятого. Смешным казался контраст между Шунечкиным кипением и Эльвириной рукой, спокойно, как в замедленной съемке, раскладывающей по плечам черно-лаковые, знакомые с химией кудри.
И тут Вика совсем нечаянно повернула спор.
– Нет, я не понимаю, зачем нужна была реклама: фирма Охан и К° берет заказы на дом? Не мог ты, Андрюшка, без рекламы, чтоб теперь всему классу не краснеть?
– Вика, Вика, что ты говоришь?
– Хватит, он осознал, мы идем на Откос…
– Лучше бы те краснели, у кого золото прилипает к рукам, а они строят из себя.
Это сказал, конечно, Пельмень, и вопрос его лучше всего было бы пропустить мимо ушей. Но…
– У кого золото прилипает к рукам? – растерянно переспросила Лариса и сделала ошибку.
– Те, которые им обвешаны. А также некоторые кандидаты в медалисты, которые долго еще собираются…
Вика теперь сидела, независимо наматывая на руку свои цепочки и, кажется, немного покраснев, меня же вообще не было – за секунду осталась точка. А в ней скрестились взгляды всего класса. Да что там класса – весь мир готовился пустить мне такое у-лю-лю!
– …которые долго еще собираются играть в песочек, – договорил Пельмень.
– В какой песочек? – совсем растерялась Лариса Борисовна.
– В котором некоторые находят разные цацки. Знаете, в таком золотом-золотом песочке у Больших Камней много цацок.
Он говорил свое почти радостно, и для пущей наглости даже подмигнул неизвестно кому, но лицо его при этом надувалось и мрачнело все больше.
– Нет, на что же ты намекаешь? – понеслась на него Лариса. – Нет, ты понимаешь, что говоришь? Зачем тебе это? А?
Она хотела подобрать выскользнувшие из прически волосы, руки у нее были заняты, и оттого она казалась незащищенной.
– Ты знаешь, что за клевету тебя могут привлечь? – спрашивала Лариса дальше, уж не знаю, за кого заступаясь: за моего отца или за честь класса?
– Вот дает! – подскочил между тем совершенно неожиданно Генка. – Ну, Мишка, ну зачем на Полезных Ископаемых бочку катить? А Женьку я лично не дам…
– Может, выйдем, – еще раз подмигнул Пельмень, теперь уже Генке. – Там посмотрим, кто кому даст.
– Конечно, выйдем. – Это Громов ответил, прокатил по классу свой бас. – Я тебе еще за прошлое недовесил, сейчас получишь.
– Сядь, Громов, – попросила Лариса. – Садко после классного часа со мной будет разговаривать, не с тобой. И ты, Геннадий, садись. В создавшейся ситуации не хватает только драки.
Ну, она была святая простота, если думала, что разговор с Пельменем может к чему-нибудь привести. Взгляд он, что ли, должен свой изменить и поверить, например, в честность моего отца?
Но может, он и так не верил в то, о чем говорил? Может, ему захотелось просто сделать больно? А мне было очень больно. Я вся сжалась даже, и одна мысль была: как бы не разреветься.
А почему у меня не появилась мысль встать и сказать что-нибудь в защиту собственного отца? Наверное, потому, что за это сразу взялся Громов.
– У Алексея Васильевича есть идеалы, – сказал он, стоя почти спиной к Пельменю. – А у тебя – только зависть. И злость, если гидрия окажется пустой, без золота. Но тебе зачем золото? Чтоб уже не ты завидовал, а тебе завидовали. Алексей Васильевич не золото ищет. Он ищет красоту, восстанавливает древнюю жизнь. Лучшее, от нее. Только тебе этого не понять. Ты как бы хотел? Все, что к вам во двор не вместится, вообще уничтожить… Чтоб уж точно – никому, если не тебе.
Громов прекрасно говорил свою прекрасную речь, лицо Мишки Пельменя все больше становилось похожим на кусок сырого, сероватого теста, а я все сидела у окна, удивляясь собственному оцепенелому молчанию.
Глава XVI
Мы вышли из школы и увидели: со стороны моря все небо быстро затягивают низкие грозовые тучи. Они надвигались одна на другую, и Коса уже была во мгле, а над курганами сверкали и заваливались за край земли беззвучные молнии. Но все равно я решила ехать к бабушке. В пустой дом мне не хотелось, а мама оставалась сегодня на дежурство.
По школьному двору мы шли все отдельно друг от друга и нахохлившись, а рядом с нами и обгоняя нас злобно, тоже как поссорившийся со всеми на свете, шнырял ветер. Он поднимал бумажки и сметал мелкие камешки, а также бело-розово-желтые лепестки каштанов.
«Как странно, – подумала я, – уже отцвели…»
– Ну, ты зеленая, Женька, ну, зеленая, – сказал Генка, догоняя меня и заглядывая в лицо. – Я думал, тебя из класса выносить будут.
– Вперед ногами? – спросила я не так чтоб ласково.
– Давай я тебя провожу. Ты к Евгении Ивановне? – Не спрашивая согласия, он схватил меня за локоть и пошел, загораживая меня от ветра.
Ничего из этого, конечно, не получилось. Ветер бил по ногам злыми струями, смешанными с песком, рвал платье и волосы. На другой стороне улицы пятилась спиною Шура Денисенко, и ветер поднял, поставил над головой веером все ее прямые, тяжёлые, блестящие волосы. Шура размахивала руками, все еще пытаясь, наверное, с помощью Грома вывести формулу справедливости.
А Гром молча, нагнув голову, продирался сквозь ветер, как сквозь заросли, в руках у него было два портфеля. И он тоже шел с наветренной стороны.
Они помахали нам с Генкой и скрылись за углом, и на душе у меня осталась тяжесть: я вроде бы ждала большего от Громова. Чего же? Может быть, я хотела, чтоб он подрался с Пельменем не только на словах? Или пошел с Ларисой, объясняя, в чем она не права? Понемножку мне хотелось и того, и другого, и третьего. Я ждала от Грома решений. Но он скрылся за углом, и к автобусной остановке мы поплелись вдвоем с Генкой.
…Оказывается, никакого дождя на Косе еще не было, но ветер дул так, что по улице валялись оторванные от деревьев довольно большие ветки. А сами деревья, не успевая выпрямиться, стояли, покорно подставив согнутые спины. Как только мы попали в поток ветра, дующего с холмов вдоль улицы, нас почти понесло. Наша цель и задача теперь была: долететь до бабушкиной калитки, не влипнув в чей-нибудь чужой забор.
Возможно, в другое время мне бы это даже понравилось – пустая, начисто подметенная улица, и мы с Генкой то перебегаем на цыпочках, то спинами ложимся на тугую волну, и она почти не прогибается, держит, подталкивает.
– Я этот циклон назову в твою честь – Евгения! – кричал мне Генка, отплевываясь от ветра.
– А именем Вики не подходит?
– А именем Вики не подходит!
Мне показалось, Генка крепче прижал меня к своему боку. В голосе его не слышалось абсолютно никакой печали.
Я подняла глаза. И в лице Генкином, впервые за две недели, печали тоже не наблюдалось. Оно было сосредоточенно, и только.
Мы вошли в дом, когда бабушка забивала молотком последний шпингалет большого окна на веранде. Но стекла все равно звенели и даже выгибались; рамы ерзали, готовые рвануться наружу; вообще весь дом был напряжен и терял силы.
А у него было не очень-то много сил, у бабушкиного дома.
На веранде сидела Марта Ильинична и, как мы скоро поняли, ждала нас.
– Ну как, высекли моего Андрюшу? – спросила она довольно неприветливо. – Отвели душу?
Секунда, вторая, третья, а может, десятая прошла, прежде чем мы с Генкой разом зашевелились, соображая, в чем дело. Всю дорогу мы молчали, но думали оба одинаково о Мишке Садко, по прозвищу Пельмень, и о моем отце. А сейчас даже не могли сказать, а чем, собственно, кончилось обсуждение охановских доблестей?
– Кто-нибудь за него заступился? Нашелся хоть один?
– Я тебе, Марта, два часа говорю: надо было ехать самой, формировать общественное мнение.
– Если бы я не была три года у них классным руководителем, поехала бы. Это я тебе тоже два часа повторяю. А не поехала, потому что уж больно они ревнивые – молодые Классные Дамы, – сказала Марта Ильинична, глядя на бабушку с усмешкой. – Ты же сама должна помнить.
Бабушка ничего не ответила, только побарабанила пальцами по столу, как она всегда делала, когда не одобряла собеседника.
Марта Ильинична на это не обратила внимания и добавила:
– А потом, класс так хотел самостоятельности. У них там в совхозе на меня выработалось что-то вроде идеосинкразии.
– Вздор какой! – Бабушка надулась сердито. – Вздор.
Но Марта смотрела на нас с Генкой в упор, и мы-то все трое понимали: совсем не вздор.
– С Оханом ничего страшного не произошло, – утешила я наконец Марту Ильиничну и шлепнулась на диван, чувствуя, что силы из меня ушли начисто. Может быть, в борьбе с ветром? – С Оханом, кроме сотрясения воздуха, – ничего. А вот на отца Мишка такую бочку покатил…
– На своего? – спросила бабушка, недоверчиво поднимая брови.
– На моего.
– Это еще что за штучки? – В голосе бабушки явно проступили нотки недавнего и свирепого классного руководителя.
– Штучки не новые – насчет золота, будто его нашли у Больших Камней. Будто отец нашел.
– Сплетни! – крикнула Марта Ильинична, и лицо ее отвердело еще больше.
– Разумеется, сплетни. Но в какой мере эти дурацкие сплетни должны волновать порядочного человека? – вздохнула бабушка.
– Я знаю только, в какой – дочь порядочного человека.
– Женька была вся зеленая и дрожала, – сообщил Генка, глядя на бабушку с неодобрением.
Он смирненько сидел в углу, и колени его были выдвинуты чуть ли не на середину комнаты: Генкины размеры не соответствовали бабушкиному «скворешнику». Возможно, именно поэтому бабушка тоже смотрела на Генку с неодобрением и озадаченно. А может, она злилась на то, что разрешила себе перебранку при чужих людях?

– Она и сейчас дрожит, – уточнил Генка, дотрагиваясь до меня тыльной стороной ладони. Как дотрагиваются матери, проверяя, а нет ли температуры у их единственных дочерей. – Она дрожит, ей нужно чаю.
Бабушка подняла брови еще выше, оглядывая Генку. Генка, проявляющий такую настойчивость, – это и для нее было неожиданно.
– Хорошо. Будет нам всем чай, без чая не отпущу. Но вы об Андрее расскажите.
– Андрея забыли на полдороге, – буркнула я, чувствуя какую-то свою вину перед ним. – А до того Денисенко произнесла такую речь – заслушаться! И Чижова тоже выступила на тему: джинсы за деньги родителей – безнравственно. А зарабатывать для семьи любым способом – нравственно.
– Любым способом, достойным порядочного человека, – поправила меня Марта Ильинична и посмотрела, как в классе: усвоила ли я до конца.
– Ну да, что-то вроде. А Пельмень говорит, пусть ответят те, у чьих родителей золото прилипает…
Я споткнулась об остерегающий бабушкин взгляд и замолчала.
А дальше все они, включая Генку, принялись суетиться, накрывать на стол, греть борщ, готовиться к обеду. Генка таскал из кухни тарелку за тарелкой. Марта Ильинична резала хлеб, терла чеснок для сметанного соуса, а я сидела на диване, завалясь в угол, и все мне было безразлично. Борща совершенно не хотелось, любимый запах чеснока вдруг показался противным, Генка – неуклюжим, бабушка – эгоисткой. И вообще, дождь уже давно мог бы полить, как ему и положено. А то гонялись одна за другой эти тревожные и бесшумные дальние молнии…
Вдруг я вспомнила. Седьмой класс, Марта Ильинична (тогда и между собой мы, кажется, еще не звали ее Марточкой) принесла толстенький синий томик с «Капитанской дочкой», держит его в руках, а выражение лица у нее обещающее и в то же время как бы заранее тревожное. Ну еще бы! Ей очень хорошо известно, как прекрасен Пушкин и как мало мы его достойны.
…Марта Ильинична прижимает синий томик к синему платью и говорит:
– Сейчас мы начнем читать вслух и будем читать долго. Но одно я вам скажу от себя: Пушкин в Гриневе хотел показать нам порядочного человека. Просто порядочного человека, сохраняющего порядочность в любых обстоятельствах…
Дальше она еще что-то говорила. И настоящая, живая Марточка, уже присевшая прямо передо мной за большой круглый обеденный стол, тоже что-то говорила. Я не слышала. За девять лет школьной практики я отлично научилась отключаться от того, что делается вокруг. На уроке, например, или на классном часе. Преданно глядя на шевелящиеся губы, я умела уноситься как угодно далеко во времени и пространстве. На раскопки, например, к причалу, от которого шли, улыбаясь и чуть-чуть раскачиваясь, мой отец, Поливанов и Гром…
Я вернулась на веранду от слов:
– Андрюша маленький тихий был, – говорила Марточка почти в умилении. – Да он и сейчас тихий, только желваками пугает. И благодарный он: каждую осень все дрова переколет, сложит аккуратненько…
– Без денег? – спросила я не из ехидства, а просто само вырвалось.
– А ты что же, Женя, и на самом деле не представляешь отношений сердечных? – Марта Ильинична посмотрела на меня с сожалением. – Ты меня морочишь? Или вправду думаешь – все на уровне купли-продажи? Андрюша – абсолютно порядочный человек.
Действительно, я не помню, чтоб за девять лет учебы Андрей Охан сделал бы что-нибудь, на наш взгляд, вопиющее. И все-таки не слишком ли Марточка расширяла круг людей, о которых с таким придыханием можно было говорить: абсолютно порядочный человек?
– И главное, нашли к чему придраться! К труду. – Марточка выпрямилась на своем стуле, оглядывая нас с Генкой. – Многим ли из вас приходится трудиться, как Андрюше?
– Кулак – он тоже какой работяга! – Эта фраза выскочила из меня как бы не в ответ Марточке, а сама по себе. И не того, исторического, я имела в виду, а, например, папашу Мишки. – Кулак хоть носом будет рыть, хоть зубами хватать без спасиба.
Не знаю, как поняли меня Марта Ильинична и бабушка. Они сидели по разные стороны стола, симметрично выложив на клеенку тяжелые руки, и выражение лиц у них было общее – неодобрительное.
И Генка, вставая, посмотрел на меня с сожалением:
– Ладно, Женя, ты Охана с Мишкой не путай. Охан спасибо действительно понимает.
Он еще постоял минуту, поглядывая в быстро темнеющее окно и переминаясь, как он переминался в любом доме перед уходом. Почему-то трудный для него это оказывался момент. До того трудный, что вот и сейчас не без удивления я рассмотрела: на Генкином лбу, поближе к русым густым и красиво растущим волосам, выступили ровненькие капельки.
Генка под моим взглядом покраснел еще больше и поднял руку:
– Чао!
– Будь здоров!
Не прошла и минута после Генкиного ухода, как по окнам хлестнул дождь.
И молнии играли теперь не где-то там, за курганами, они, казалось, вскакивали прямо к нам в огород. Они, как на ходулях, носились по улицам поселка. И невозможно было на все это смотреть сквозь закрытые окна, я вышла на крыльцо.
– Что мы сделали с мальчиком? Нет, что мы сделали с мальчиком? – квохтала у меня за спиной бабушка. – Где он переждет дождь?
– Ну, вернется! – крикнула я ей с крыльца. – Ну, на остановке постоит, не размокнет. Вы же сами вечно мечтаете о трудностях…
И Марточка тоже вздыхала, и очень меня интересовал вопрос: если бы под дождь попал Охан? Или Громов? А ведь ни один из них не посещает и половины из тех секций, в которые родители все суют и суют Генку.
А по двору, перекатываясь через улицу, уже мчались рыжие глинистые потоки, и ясно было: бабушкиным грядкам и цветам придется плохо, куда хуже, чем Генке. О них бы и думали…
Трах-тах-тах! Мне показалось – прямо в углу двора, рядом с алычой выросла ее огромная светлая проекция. Тоже дерево, но из огня и движения. Кто-то мгновенно начертил его и стер, чтоб вслед за блеском во дворе стало почти темно. В этой темноте тихо хлопнула калитка, раздались голоса, и под навес ко мне впрыгнули отец и Генка, с туфлями в руках и не то чтобы мокрые, а как бы составляющие одно целое со струями дождя.
– Весело? – спросил отец, показывая на небо и понимая, почему я стою на крыльце.
– Еще как! – крикнула я среди шума падающей и текущей воды, сдвинутых камней, затухающего, сделавшего свое дело ветра и шороха туч. – Еще как!
Но я почти сразу пошла за ними на веранду. Они стояли, объясняя, как встретились, почему вернулся Генка. Выясняя также, во что переодеться. И были похожи на мокрых кур. Вот именно – даже не на петухов.
Перехватив мой взгляд, Марточка сказала:
– Мужчинами надо восторгаться, Женя. Тогда они расправляют крылья.
Ну что ж, она была совершенно права, хотя можно было бы обойтись и без романтики. Она была права и вроде бы обвиняла кого-то…
– А мужчинам в свою очередь не плохо бы поступать и выглядеть так, чтобы вызывать восторг.
Только я вытерла пол, они явились переодетые. Генка в клетчатой рубахе, в отцовских спортивных штанах, подвернутых до колен, как-то даже странно изменившийся. Вроде рыбака с дальнего мыса он был. Вроде того рыбака, который знал, как управлять лодкой, ставить парус, сыпать и выбирать сети, даже если идет Тремонтан…
Очень интересно. Я смотрела на нового Генку из своего угла и видела: не одна одежда его изменила. Он взглядывал на меня, не ища больше опоры, а сам мне советуя: «Ну, расслабься. Ну что ты, в самом деле, как среди чужих?»
Отец подошел к телефону:
– А теперь мы позвоним твоим, Гена, чтоб не волновались.
– Они и так не станут, – буркнул Генка, но отец уже набирал номер.
– У вас мальчик не потерялся? – спросил он, поздоровавшись и самым своим веселым голосом. – Говорите – нет? Значит, ошибка, а у нас сидит тут один, очень похожий на вашего. Ах, ваш? Ну, хорошо, отправим, отправим, как только немного природа успокоится.
В трубке забулькало благодарно и благодушно. Сначала с большим напором и разгоном, но быстро иссякая. Отец положил трубку.
– А маме?
Он почесал висок, как бы примериваясь. Но в это время телефон зазвонил сам каким-то неестественным, просто-таки паническим звонком. И мамин голос, слышный на всю веранду, просил:
– Женя там? Будь добр, дай ей сейчас же трубку!
– Тебя! – сказал отец не без досады, подумав, наверное, о том же, о чем подумала я: мама вовсе не одобряла моих слишком частых поездок к бабушке.