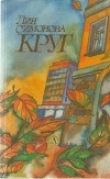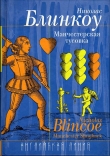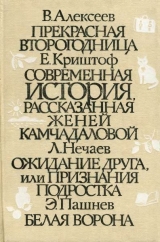
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Елена Георгиевна Криштоф
Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой

Глава I
История эта началась в первую пятницу прекрасного месяца мая. Ничто не могло омрачить его голубое и зеленое сияние, даже последние контрольные. Хотя к последним контрольным полагается готовиться: они, как известно, влияют на аттестат.
Но цвела сирень; цвели вишни на пустыре между школой и нашим домом; у бабушки в саду тяжелые, как волейбольные мячи, скоро распустятся пионы. Пионы – праздничные цветы – преподносят учителям в торжественных случаях, например по поводу последнего звонка.
Однако пока до последнего было далеко.
Наши мальчики внизу, на спортплощадке, переводили ни на что урок физкультуры, девочки выполняли в зале зачетные упражнения, а я стояла у окна на втором этаже.
Пахло травой и всеми на свете надеждами. Так пахнет, только если в конце апреля выпадут теплые, медленные дожди. Огородные дожди, как говорит моя бабушка. Они тянут вверх ботву и дикие травы.
Листья были длинны в этом году, и сирень по утрам долго не высыхала. Мальчишки рвали ее просто так, потому что у них руки чесались, и раздвоенные мохнатые ветки скоро гибли, как бы покрывались ржавчиной на учительских столиках, в кабинете биологии и физики, в вестибюле. А чаще всего и где-нибудь под забором – мальчишки красоту не берегли.
И сейчас Мишка Садко и Громов, стоя на бревне и пытаясь столкнуть друг друга с этого бревна плечом, держали в руках по веточке: Садко – махровую персидскую с красноватым отливом, Громов – белую. Условие, что ли, у них было такое: проигрывает не только тот, кого столкнут, но и тот, чья веточка при попытке удержаться будет брошена на землю. Или вместо рыцарских перьев была у них пушистая сирень?
Я смотрела на мальчишек посмеиваясь: они были все те же мальчишки! Мы учились вместе с первого класса, привыкли друг к другу, но в чем-то они были все-таки новые. Например Мишка, когда успел нагулять такую шею? Зимой в тренировочном костюме прыгал-бегал, как все. А теперь в маечке-безрукавке было видно: шире всех стал Мишка. Громов наскакивал на него легко, Мишка подставлял плечо и вроде бы не двигался. Но пока я стояла у окна, Громов каким-то непонятным образом прижимал его все ближе к краю.

А на земле, рядом со своей спортивной фирмовой сумкой, сидел Длинный Генка, худой-худой, красивый-красивый, и не видно было, чтоб ему очень хотелось на бревно.
Интересно, подумала я, с кем ему предстоит биться? С Мишкой? С Громом? Только с кем бы ни пришлось, он обязательно вылетит, а ведь смешно: в какие только секции не определяют его родители! Каждый раз радость: наконец отгадали, нашли нужную. Но Генка в очередной секции вскидывает руки от удивления, что опять дал себя обставить, недотепа, то в бокс, то в футбол, то еще как-то.
Так я думала о Генке, но это не имело никакого значения, потому что над всеми тремя, а еще над другими мальчишками нашего девятого «Б» класса небо было как бы позолочено солнцем, и всем им одинаково хотелось оказаться не на школьном дворе, а на дороге к морю…
Мне тоже хотелось к морю. Но меня послали в учительскую за планшеткой физрука Мустафы Алиевича, в которой были не то плакаты, не то диаграммы роста спортивных секций.
Только их нам не хватало в такой-то день!
– …Crocodile, which lived in the river… – донеслось из какого-то начального класса. Девочка читала таким тоненьким, таким старательным голоском. И я подумала: «Они еще не понимают весны».
В самом деле, разве это понимание – снять надоевшее пальто, вываляться в траве до зеленых пятен, забыть где-нибудь в углу школьного двора не только куртку, шапку, шарф, но и портфель со всеми «крокодайлами»?
– …Which lived, which lived… – топтался голосок, потерявший ниточку.
А может быть, весну понимают все с пеленок?
Дверь в английский захлопнулась, в коридор снова процеживался только общий гул уроков, от которого почему-то становилось грустно. Я опять взглянула в окно.
Теперь на бревне стояли Мишка Садко и Генка. Генка старательно прижимал локти и выставлял защиту, как его учили в секции. Круглая голова Мишки с вызывающе подбритым затылком напоминала ядро, и если Мишка столкнул с бревна Грома, то не Генке было против него подниматься! Действительно, минуты не прошло, как Длинный летел с бревна, взмахивая руками. Лицо Генки изображало, как всегда в таких случаях, недоумение и некоторую грусть перед могуществом Мишки Садко по прозвищу Пельмень.
Я засмеялась и постучала в стекло так, на всякий случай. Вряд ли мальчишки могли услышать мой стук, но мне хотелось, чтоб они помахали мне или крикнули что-нибудь. А может быть, стоило открыть окно и крикнуть первой? Например: «Гену жалко! Жалко Гену крокодильчика!»
Я долго стояла так и смотрела вниз на наших, раздумывая, не открыть ли окно. Мне было хорошо. Весна входила в меня не только запахом травы и солнца, но еще и предчувствием: мне все казалось, что по дороге в школу или обратно со мной непременно случится что-то хорошее.
Я уже протянула руку к шпингалету, чтобы открыть окно. И тут вдруг услышала голос нашей Прекрасной Дамы, вернее, нашей Классной Дамы, Ларисы Борисовны, в просторечии Ларисы-Борисы (произносится быстро, через крохотную черточку – дефис).
– Нет, мне это нужно. Поймите меня правильно, одним – да, другим – нет, а мне необходимо. Вам, конечно, – нет? Да? А мне – очень, – торопилась Лариса, как всегда, но что-то слишком нервно звучал ее голос. – Мне – да, а Камчадалова не потянет.
– Почему не потянет? – спросила Ларису наша литераторша Марта Ильинична. – Что не потянет?
Камчадалова в школе была одна я. Интересно, по какому поводу в учительской обсуждали мою кандидатуру? Что я могла не потянуть? Какое-нибудь общественное поручение?
Я дергала шпингалет, старалась повернуть и так и этак, но окно не открывалось. Я все настойчивее возилась с ним: мне вдруг немедленно захотелось напомнить мальчишкам о своем существовании. Я не подслушивала у дверей учительской, но услышала:
– Честное слово, Марта Ильинична, будто вы не знаете, как они меняются в таких ситуациях! Это уже не прежнее море по колено, а сплошная рефлексия. Прямо усеченный конус какой-то, поверьте мне.
Я возилась со шпингалетом, дергала раму; на бревне друг против друга в одинаковых позах стояли теперь Мишка Пельмень и жилистый, но щуплый против него наш Андрюша Охан; Генка сидел на земле возле своей сумки; а в стекле кривился зеленый школьный двор – весь в цветущих одуванчиках.
– Кто же, если не Камчадалова? – спросила Марта Ильинична, и в голосе ее была некоторая растерянность. – В классе только Камчадалова ровно шла…
В чем-то я шла ровно, шла-шла, да споткнулась. И теперь нечто предстоит за меня сделать другому, а мне предстоит открыть окно и понять, что за особая ситуация…
– Ровно? Не потому ли, что мы слишком старались, за ручку вели? Нет? Камчадалова медаль должна получить! И в институт должна! И в аспирантуру!
– А почему бы ей и в самом деле не поступить!
Удивительным было не только непонятное раздражение, но и то, как нерешительно пыталась защитить меня Марточка. Хотя сейчас, когда пишутся эти записки, я не знаю, что она должна была сделать. Что? Ну, хотя бы выяснить, почему Лариса Борисовна утверждала, будто меня вели за руку?
Но она ничего не выясняла, просто молчала.
– Мне нужна другая кандидатура в медалисты, поймите меня правильно. По вашему предмету вы могли бы кого-нибудь рекомендовать? Да? Нет? Ну, например, Денисенко Александру?
– Денисенко Александру? – переспросила Марточка, как бы оттягивая время и перебирая в памяти весь наш журнальный список от Громова до сестер Чижовых…
Длинный был список, в учительской наступило молчание.
– Денисенко Александра ничуть не хуже Камчадаловой, но какая нужда спешить? Год впереди, не будем ломать копья, – сказала наконец Марта Ильинична. И я, кажется, услышала, как устало стукнули о стол зажатые в руке очки.
– Поймите меня правильно: я не могу ставить на одного человека. Когда отец бросает семью, какие уж тут успехи? Весь год Камчадалова станет бороться со своими комплексами…
– Но почему же? – слабо выдохнула Марта Ильинична. – Почему же? Тем более он не к другой ушел, к своей матери переехал.
Так вот в чем, оказывается, дело: я шла-шла ровно, пока отец, как всякий отец, жил с нами. А теперь я споткнулась и не потяну на медаль? А там, в учительской, двое взрослых спорят обо мне, как о предмете неодушевленном, ищут, кем бы заменить в списке претендентов. Это было ужасно до холода в спине. Ужасно и стыдно. И, боясь повернуться к дверям учительской, я все дергала и дергала шпингалет.
Окно я раскрыла наконец, чуть не разбив; во всяком случае, на мгновение стекло свело восьмеркой, оно даже ойкнуло жалобно, но ничего – выдержало.

Мурашки по-прежнему ползли у меня по спине, и, стоя у открытого окна, я думала только об одном: а есть ли кто-нибудь, кроме них, в учительской? Кто еще слышит эти совсем не подходящие нам с мамой слова? «Бросил, бросал, бросит». Надо же дожить до такого!
В подобных случаях, я полагаю, человек или падает или хочет себя успокоить. Я захотела успокоить, для чего надо было ответить на вопрос: «Что же, собственно, случилось? Что изменилось по сравнению со вчерашним? С позавчерашним? С тем, что было месяц назад?» По крайней мере, так учила одна книжка по психологии, которую я очень внимательно читала последнее время.
Отец ушел из дома в марте, и никто по этому поводу не собирался рыдать и рвать на себе волосы. Тем более, кто сказал, что он ушел навсегда? Просто мама «перегнула палку», как она сама считает.
Так откуда же этот холод в спине, этот страх? Почему я крадусь по коридору на цыпочках? Почему у меня голова сама нырнула в плечи, как у нашкодившей?
А оттуда, что изменения все-таки произошли. Я узнала: в школе о нас говорят, нас жалеют, на нас не ставят. Приходилось ли вам когда-нибудь оказаться в таком положении? Мне не приходилось. И хоть никто не мог видеть меня в пустом коридоре, я почувствовала на себе десятки взглядов.
А потом прозвенел звонок, но я его не услышала. Я очнулась только тогда, когда меня чуть не сбили с ног, оттерли от перил, поволокли по лестнице, точно щепку в горной речке. Младшие классы вырвались на простор, в пампасы. Они роняли, волочили, подбрасывали ранцы. Они кричали, урчали, визжали. Они ровным счетом еще ничего не знали о предательстве, так же как о надеждах и медалях.
С ними мне стало легче. Я шла, сонно поглаживая круглые птенцовые головы, пощелкивая вертящиеся макушки. Мне не хотелось выходить во двор, не хотелось ни с кем встречаться. Не хотелось объяснять, почему передумала идти к морю.
Злость наконец явилась, наполнила меня, ускорила мой шаг, но, надо сказать, с большим опозданием – только в вестибюле, у самых дверей, где на меня налетели девчонки из нашего класса.
– Мустафа Алиевич сказал – уже не надо! – кричали они, а я никак не могла вспомнить, что ходила за диаграммами роста. – И зачет у тебя будет завтра. У нас еще пять человек не сдали…
Лица их прыгали у меня перед глазами, а я старалась представить, о чем они еще думают, кроме зачетов. Скорее всего ни о чем, касающемся меня, моей мамы и моего отца. Возможно, они не думали даже о моей медали. А если думали? А если это вообще была правда? Если меня действительно вели, даже тянули за руку, потому что так положено: в каждом выпуске должен быть свой медалист?
И еще вопрос: неужели мама догадывалась, знала, что меня ведут? Почему же тогда она требовала от отца немедленного переезда в Москву? Неужели моя умная-разумная мама предчувствовала что-то вроде сегодняшнего разговора в учительской?
Я додумывала насчет мамы уже во дворе. Пока девчонки бегали за сумками, была задача: затеряться, задержаться, идти по пустым улицам, совсем не к морю, а прямо домой. Потому что я – брошенная.
А раз так, то теперь будут тянуть Денисенко Александру, но при случае могут бросить, как меня, на полдороге? Заменить с той же легкостью? И она будет стоять одна в углу школьного двора, прикидывая, чего стоит честное, веселое лицо молодой учительницы по прозванию «Классная Дама».
Произносится это, между прочим, так, чтоб сразу стало ясно: Классная, оно и значит – классная. Настолько классная, что ни у кого другого подобной нет. Золотые волосы над выпуклым, загорелым лбом, и золотой блеск в глазах…
Я стояла у самого забора, заросшего сиренью, и приходила в себя. В конце концов, самое умное, что можно было сделать, – это ничего не делать. Выглядеть и поступать так, будто ничего не случилось. Не было ни сегодняшнего разговора, ни меня возле высокого окна в коридоре.
Только вот задача: как пересечь двор, чтоб тебя не окликнули? Как не столкнуться, например, с сестрами Чижовыми, которые все крутятся возле ворот? Я уже закинула голову, примерялась к шагу, каким прорежу школьный двор, как на крыльцо вышла наша литераторша, – румяные на всю жизнь щеки, слегка растрепавшийся «узел» на затылке и вечная стопка тетрадей в сумке. Очки – в правой руке, сирень – где-то под локтем, стоит, оглядывает школьный двор, щурится. Ищет кого-то, что ли?
Я поспешно отвела глаза от уважаемой Марты Ильиничны, чтоб не встретиться взглядом, не выдать себя. Как, бывало, выдавала в шестом и даже седьмом. «Опять с Викторией в ссоре?» И рука тянется потрогать лоб, как будто у меня от ссор с Викой могла подняться температура.
Итак, наша Литера оглядывала двор, и, возможно, двор нуждался в какой-то «доработке», как всегда нуждались в ней наши сочинения. Но она только выше подняла узкий подбородок, стала спускаться с крыльца. Лицо у нее тоже, как всегда, было совсем не злое, просто не в меру озабоченное.
И вот с этим озабоченным лицом Марта Ильинична нырнула в водоворот, а на крыльцо выскочила моя лучшая подружка Вика Шполянская. Она была подстрижена коротко (мама говорит – как гривка у жеребенка), а лицо сияло, улыбалось мне так, что я забыла на мгновение, почему топчусь в углу.
– Вика!
Вика спрыгнула с верхней ступеньки сразу двумя ногами, как прыгают малыши. Сунула мне в руки портфель:
– Подержи, тут пришли, билеты принесли, я – сейчас…
Не знаю, как получилось, но я швырнула в нее портфелем. Положим, портфель Вику почти не ударил, шлепнулся на серую затоптанную землю, и она на него даже не оглянулась: на школьном дворе портфель не затеряется. Девять лет возвращался к ней прямо в руки и сейчас вернется. Но ведь и на меня она почти не оглянулась, крутанула у виска пальцем, поправила спадающее плечико фартука, и только вихрик завивался, вставая и опадая там, где она раздвигала плечом, или улыбкой, или выставленной вперед рукой общее движение.
– Я сейчас! Подожди!
Ждать я не стала.
Глава II
На кого я злилась больше – на мать или отца, когда во вторник, на следующей неделе подходила к нашему дому? С папочкой было ясно: он ушел и оставил нас на общее обозрение и обсуждение. И мы теперь красовались вроде тех рож, выставленных возле автобусных остановок: гражданка такая-то, попалась на том-то, да сбежала, а гражданин такой-то – подумать только! – крупный аферист.
Одна подобная витринка попалась мне на пути, и я чуть не стукнула сумкой по стеклу. Хорошо было бы также сорвать фотографию скрывающейся гражданки, у которой была прическа, похожая на «сессон» моей мамы, и вся из себя она была очень даже ничего.
…Но мама! Как она, моя умная-благоразумная мама, посмела сделать так, что от нее ушли? Как она посмела сделать так, что нас выставили на осмеяние?
Я обернулась: возле витринки никто не толпился, никто не тыкал в стекло пальцем. Спиной к ней стояли два парня; один высокий, красивый, похожий на белого негра. Брюки его облипали – вельветовые в мелкий рубчик, и голубая рубашка была хороша. Второй рядом с ним смотрелся простаком из местной футбольной команды. Квадратом.

Никакого дела ни до фотографии гражданки, ни до меня им не было. И тетка в светлом плаще, тащившая в обеих руках по клетчатой сумке, смотрела себе под ноги. И маленькая девочка шла сама по себе. Она еле передвигала ноги, угорев от уроков, и ей еще ничего не было известно о том, как бросают.
В одно мгновение мне захотелось снова стать такой девочкой из третьего класса, и чтоб отец приходил, подтыкал со всех сторон одеяло и спрашивал: «Что в воскресенье будем делать, директор?»
Давно он не называл меня директором… Зато к матери несколько раз обращался так: госпожа министерша. Я уже поднималась по лестнице медленно, как только можно, когда вспомнила это: госпожа министерша.
Я открыла дверь своим ключом и сразу же поняла, что пришла домой слишком рано. Моя умная-разумная родительница была не одна. Ирина Викторовна Шполянская-старшая, мать моей лучшей подруги, сидела у нас на кухне и в сотый раз выслушивала мамины вопросы, на которые нет ответа.
– Женя, ты? – крикнула мама, как будто могла спутать мою возню в прихожей с тем шелестом, каким сопровождалось появление отца.
– А кто ж еще? – спросила я, швыряя портфель под вешалку.
– Одна или мое чадо с тобою?
– Одна.
– А где Вика?
В самом деле, где была Вика? Наверное, там, где цвела сирень, и они шли все вместе, смеясь и рассуждая о том, что только очень жестокий человек мог придумать сдавать экзамены весной.
– Опять пожар по общественной линии? Об уроках она думает?
– Думает. Вика всегда думает. – Я уже переоделась у себя в комнате и боялась только одного, как бы кто-нибудь из них не появился в дверях и не спросил, что собственно происходит, почему у меня такое лицо и вообще.
– Вика и в этом году отвечает за факелы? – спрашивала между тем Шполянская-старшая.
И хотя Вика за факелы и в прошлом году не отвечала, я сказала:
– А как же? Кто же, если не она?
– Ну, могли поручить Громову, например. Мужское, в конце концов, дело.
– Кто же теперь доверяет мужские дела мужчинам? – спросила я, поздно спохватившись, что на такие слова, да еще произнесенные таким голосом, в дверях может появиться мама. Пока этого не произошло, надо было проскользнуть в ванную, что я и сделала, включила душ и отгородилась его шумом от всего мира.
А где была Вика? Наверное, они все свернули к морю и шли по направлению к Косе…
…Наш город приник к морю, как птица с двумя мощными распростертыми крыльями. Правое крыло были поселки Комбината и сам Комбинат, а дальше – Коса, на которую когда-то, невообразимой осенью тысяча девятьсот сорок третьего года, высаживался десант. Вся в лунных кратерах отработанной породы, там голубела суровая полынная степь. Немного таинственная из-за отдаленности… В одном из поселков справа жила моя бабушка.
А слева город был понятен насквозь: один завод, второй, третий. Небольшие, как раз по мерке городу. А между заводами – море. В одном месте занятое портом, в другом – верфями, в третьем – маленьким причалом местного значения.
К Косе без автобуса мы редко когда добирались, но по дороге было наше любимое местечко под названием Откос. Мы сваливались под этот Откос, а дальше шла та жизнь, в которой мы превращались в стаю щенков, катающихся по песку, пробующих на вкус прекрасную, как сладкая кость, свободу пополам с безмятежностью.
Здесь можно было лежать в промоинках, закинув руки за голову, и смотреть в небо. Можно было рассказывать байки из взрослой жизни; можно было вслух мечтать и строить планы. Можно было танцевать на песке. Целоваться, меняться дисками, слушать шлягеры.
Нельзя было: говорить об уроках, жаловаться на жизнь, приводить посторонних, хотя бы и из нашей школы.
Сегодня наши отправлялись на Откос после длительного перерыва, а я, надо же быть такой дурой, поплелась домой, и вот теперь ничего не остается, как сидеть в кухне за столом, есть борщ и слушать маму.
– …Ты же не скажешь, чтоб был хуже людей? И я не скажу. Отчего же желание такое дикое – плестись в хвосте? Если есть возможность перебраться в столицу? Мои родители помогут. Не хочет. Почему? Гордость? Ты мне можешь объяснить, что за странное проявление? Скромность? А я что, уговариваю его чужое место занять? Красть? Плохо работать? Втирать очки?
Мама сыпала своими вопросами, и руки ее двигались над столом на третьей скорости. У моей мамы большие, красивые руки хирурга, и вся она большая.
– И что преступного в том, что я хочу жить с моими стариками? Ты мне можешь объяснить? И почему нельзя приезжать сюда в экспедиции, хоть на все лето, – пожалуйста! Никто держать не станет!
Шполянская-старшая не отвечала, только в знак внимания то опускала, то поднимала над большими сонными глазами большие сонные веки. Это стиль у нее был такой: нога на ногу, папироска в нервно откинутой руке и ресницы опускаются значительно: «Я понимаю тебя. Да и кто из нас, женщин, не поймет». Или: «Ты совершенно права: этой глупости названия не придумаешь – отказываться от столицы!» И все без слов, сонно, медленно, со значением.

У Вики совсем другой стиль. И лицо у нее все ходит, как у маленькой: смеется ли она, плачет, передразнивает, кокетничает, радуется ли, подставляя себя весеннему солнцу, Генкиным взглядам или ветерку с моря.
Сейчас Вика и все остальные пошли к Откосу, куда мы ходим с детства с самой ранней весны до поздней осени. Рыжая глина крошится, горкой съезжает под ногами, ты цепляешься за кусты тамариска, прямо за розовые ветки. А дальше – берег в камнях и вода чмокает в них, разговаривает.
Может, поэтому первые минуты на Откосе нам разговаривать не хочется? Каждый выбирает себе ямку, промоинку, поросшую травой, лежит, замерев. Солнце осторожно трогает лицо, и ясно: тот, кто выдумал экзамены весной, никогда не лежал так на глинистом Откосе под длинными, ровно покрытыми цветами ветками тамариска…
А дальше за Откосом, за Косой, если на катере, час ходу, – ведет раскопки мой отец. Мой отец археолог, главный специалист здешних мест по античным и скифским находкам. Хотя какие там особые находки!
– …Золото! – говорит мама как раз в это время и смеется. – Ну, Ариша, через твои руки, скажем прямо, раз уж ты протезист, прошло и в сотни раз больше! Скифское золото! Кто его видел за последние сто лет? Два браслета, три монеты, остальное – черепки. На западном побережье какую-то Венеру откопали, когда пансионат строили. А здесь не строят – не находят, только мой ковыряется…
– Черепки тоже можно в золото перевести, – тянет Ирина осторожненько, бережно так отгоняет от меня дым, – написать докторскую – и будет капать…
– Пусть докторская, пусть без докторской – проживем, но Женька должна учиться в Москве.
– А Вика? – это я спросила. И сидела над борщом, улыбалась безмятежно.
Если бы мы с нею были одни в квартире, мама сказала бы: «Что – Вика? Вика до восьмого на твоих подсказках жила. И вообще из всего класса ты одна на медаль тянешь». На что я бы ей ответила: «Оказывается, не я тяну, а меня тянут. Но больше не будут – бесперспективно. Будут – Шунечку». – «Что ты мелешь, Евгения?» – удивилась бы мама. «И это благодаря тебе!»
После этих слов, может быть, слезы хлынули бы у меня из глаз сами по себе, хотя это со мной не часто случается. А сейчас я сидела и смотрела на них сухими, даже как будто пересохшими глазами, – на них, очень много говоривших о том, что надо и что не надо их дочерям. Хотя – я знала – каждая была озабочена тем, что надо или не надо ей самой.
– Ты будешь наконец есть? Мы отправляемся на просмотр.
Вечно они куда-то отправлялись, когда были вместе. Вечно уходили, шли, торопились…
А Вика и все наши примостились себе сейчас в своих промоинках, смотрели на море, весеннее, серое по краям и расплавленное посередине, и Генкина рука осторожно по влажной, только что отросшей траве подбиралась к Вике. Интересно, поженятся ли они? И еще интереснее: кто кого первый бросит? Ну, хорошо: кто от кого уйдет к какой-то неведомой, невидимой из сегодня цели?
– Вика не говорила, когда ее ждать домой? – И на мой отрицательный кивок: – В девятом могли бы все-таки избавить ее от нагрузок…
Они ушли, а я сидела и думала о разном. Например, о том, что Вика славно устроилась: Шполянская-старшая уверена, что после уроков дочь тратит время на всякие там стенгазеты, малышовские сборы, организацию культпоходов. Впрочем, возможно, наши вылазки на Откос как раз и можно считать такими походами? И еще я вспомнила о том, что Громов что-то давно к Откосу не ходит. Не вздумал ли он взяться за ум и стать тем самым кандидатом на медаль, каким до сих пор была я?
По правде говоря, меня больше устраивало, чтоб меня обогнал Володька Громов, у которого, как все говорили, была светлая голова. Голова-то светлая, но алгебру он запустил сразу с шестого, и очень часто мы с Шунечкой после общего решения заканчивали задачу за него, вот только вопрос: стоило ли это делать? Стоило ли поджидать отстающего, если все мы, как оказалось, были бегунами на гаревой дорожке?
Вот о чем я думала, сидя одна дома и глядя на далекое море, по которому, расталкивая локотками волны, спешил катер, с единственным в мире названием: «Красная Армия». По крайней мере, так утверждал мой отец.
И еще я думала о том, вдруг отец ни с того ни с сего найдет наконец что-нибудь сравнимое с тем, что нашли в Толстой Могиле? Какое-нибудь ожерелье, гривну с львиными головами, гребень, по краю которого один за одним, один за одним примостились упавшие олени. Или чашу вроде той, что совсем недавно стояла в почетной нише музея имени Пушкина в Москве?
Я даже подняла руку, рассматривая, как выглядела бы такая чаша.
Чаша выглядела хорошо. И можно было представить, как изменится жизнь отца, если он ее найдет.
А как изменится?
Вот что интересно: он не станет ни умней, ни моложе, ни заговорит басом, а в очереди по-прежнему его будут нахально оттирать локтями, но все-таки он станет другим человеком. Человеком, которому подала руку сама Госпожа Удача. На глазах у всех. Это очень важно – на глазах у всех!
Но этого не случилось до сих пор, не случится и дальше.
За удачей надо гнаться, а мой отец говорит, что он ведет раскопки, чтоб создать картину. Чтоб создать общую картину того, как жили люди за две тысячи лет до нас, когда на территории нашего города и района размещалось несколько государств сразу. Поиск деталей для этой общей картины меня не привлекает. Это Денисенко Александра и Громов пропадают на раскопках целое лето, а потом хвастают какими-то фундаментами да ваннами для засолки рыбы…
Я тоже езжу на раскопки, но никогда еще с такой силой мне не хотелось, чтоб отец мой нашел ту чашу или тот гребень. Почему мне этого так хочется? Почему? Просто потому, что во всех случаях жизни хорошо иметь знаменитого отца?
Мать у меня тоже не знаменита, но она известна. Она известна, как лучший врач-хирург, делающий челюстно-лицевые операции.