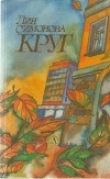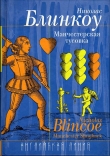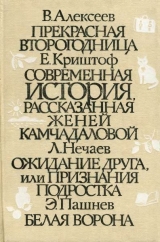
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
– Мало тебя учили, Пельмень. Еще меньшему выучили!
А почему я не боюсь, что он просто-напросто даст мне по шее? Может быть, потому, что я испугалась другого: сейчас о Вике услышит Генка. Вот от кого только, кроме меня, он мог это сегодня услышать? Но я не собиралась молчать, красть какие-то несчастные свидания, если он ее до сих пор любит…
Я плелась к больнице, что называется, нога за ногу. Все мне вдруг стало противно. А противнее всего была я себе сама. Не сумевшая как следует обрадоваться Викиному возвращению. Не верящая Генке. И еще хуже – не верящая в себя.
И с этим чувством я прошла еще полгорода и оказалась все-таки на пустыре возле забора. Было еще совсем светло, и небо только чуть зазеленело, отделилось от земли розовой полоской. Но почему-то ни на самом пустыре (теперь он мне не казался будущим парком), ни во дворе больницы Генки не было.
Я стояла в нерешительности, то ли собираясь вообще удрать, то ли, как все эти дни делала, проникнуть к Генке в палату – навестить. Ветер мертво, тоскливо посвистывал в кустах, часы показывали только полседьмого – время больничного ужина. Что делать?
И тут раздвинулись самые дальние кусты и я увидела: ко мне идет Генка. Он шел не очень скоро, но глаза его бежали впереди него и, добежав до моих, успокоились. Потом опять в них метнулся какой-то вопрос, тревога, даже злость, и Генка ускорил шаг.
Мы встретились как раз посередине парка и даже ударились друг о друга. Мы просто влипли друг в друга, без малейшего зазора. Мы не обнимались, мы кинулись в объятия.
Грудь у Генки была широкая, и там гулко, как-то крупно билось сердце.

– У вас же ужин сейчас. Как же ты? – сказала я ему некоторое время спустя. – И моя родительница дежурит.
– Все правильно! – Генка поднял бровь насмешливо-снисходительно, как будто я была недомерок, не сразу все понимавший. – Все правильно. И причем учти: она знает, с кем я тут целуюсь. И не одобряет.
– Поцелуев?
– Зачем? Меня. Что в девятом целуются, это Наталье Николаевне и без нас известно.
– Чудеса! – сказала я. – Наталью Николаевну даже я боюсь…
Генкины руки прикрыли мне спину, как будто защищая от взглядов, которые могли обратиться на меня со стороны больницы. У Генки были очень твердые, сильные руки.
– Генка! – позвала я, помолчав минуту. – Вика возвращается.
Я почувствовала, как Генкины руки вздрогнули у меня на спине.
Мы долго стояли, прислушиваясь друг к другу и к себе самим.
Ничего плохого или даже тревожного для себя я не услышала. Генка все больше брал меня под защиту. Он успокаивал меня, он отгонял мои страхи, он даже баюкал меня, как когда-то баюкал меня мой отец. Он был моей поддержкой и опорой.
– Генка, – опять позвала я, потому что мне еще необходимы были какие-то слова. – Генка, что ты молчишь?
– Я не молчу: Вика – то была Вика, а тебя я люблю на всю жизнь.
Глава XXI
И тут наконец я должна возвратиться в тому утру, когда мама сказала: «Характер твоему отцу нужен и хоть какое-нибудь честолюбие».
Итак, мы ждали тогда какого-то приличного времени, чтоб начать обзванивать друзей и знакомых, а также милицию, следователя, прокурора. Как вдруг явился отец. Он сел на стул и сказал, вытирая платком с утра усталое, да еще небритое лицо:
– Что же теперь делать? Вика опередила меня, удрала из дома в час, полвторого. Безусловно, она предупредила Поливанова. И безусловно, он сейчас уродует все, что оказалось у него в руках.
– Женя, ты хоть случайно, хоть приблизительно не знаешь адреса Поливанова?
Я замотала головой.
– И что? Ты бы пошел к нему? – привстала на кровати мама, запахивая халатик у ворота. – Не говори глупостей, они же звереют от одного вида этого металла. У меня в палате старик с пробитым черепом, так, представь, даже бредил какой-то девяносто шестой пробой и козой…
Мама остановилась, открыв рот и все туже стягивая отвороты веселого, голубого халатика.
– Постой, Алеша, я, кажется, знаю, кто и где нашел это золото.
Моя умная, моя самая благоразумная мама сидела неподвижно, то хмуря, то разглаживая лоб, не больше минуты. Потом она подвинула к себе телефон и стала набирать какой-то номер, который был все время занят.
– А, черт! – сказала мама, ломая спичку и стискивая папиросу недобрыми губами. – Куда они могут звонить в такую рань?
Я поняла, что мама звонит к себе в отделение. А папа ничего не понимал, но смотрел на маму с надеждой. А я не просто смотрела, я любовалась. Мама сидела на кровати, словно на троне: вся розово-голубая, широкосборчатая, готовая повелевать, принимать решения, отдавать команды. «Победительная женщина», – как говорит моя бабушка. «Госпожа министерша», – как совсем без одобрения говорил в предпоследнее время отец.
Я понимала, зачем мама звонит в больницу.
– Да, – сказала мама наконец в трубку. – Да. Камчадалова. Сейчас же найдите карточку Горбенко. Ну, того старика из шестой. И сейчас же продиктуйте его домашний адрес. Все. Я не кладу трубку.
Когда с той стороны провода опять зажурчал голос дежурной сестры, мама повторила вслух:
– Поселок Западный, Тенистая, 8. Фамилия его Горбенко. Ну?
«Ну?» – относилось уже к одному отцу.
– Я побежал, – сказал отец. – В эту самую минуту он, вполне возможно, бьет по нему молотком.
– Меня гораздо больше интересует, что он в эту минуту делает с девочкой. А тебя – нет?
Мама смотрела на отца с упреком. Мама хотела сказать взглядом: «Ты до того закопался в своей древней жизни, что не обращаешь внимания на сегодняшнюю, с ее насущными трудностями, даже трагедиями». Такое мама, бывало, говорила и словами.
– А тебя – нет?
Мама еще раз попыталась закурить гаснущую папиросу. Руки у нее были большие, белые, уверенные. И сильная, загорелая нога раскачивала красную домашнюю туфельку без задника.
– Ну? – еще так спросила мама. – В милицию звонить не будем? Опять станем действовать не как все люди?
– Вопрос насчет как все или не все мы решим с тобой позже, если не возражаешь. – Отец, как в замедленной съемке, отклеился от стула и направился к двери. – Большое спасибо за адрес. Ты меня очень выручила.
– Ты же все равно ничего не добьешься своим упрямством, Алексей! – Мама несколько раз качнула туфелькой и засмеялась.
– Почему? – спросил отец.
– Потому что милиция будет там раньше тебя: я позвоню.
Странно смотрел на нас с мамой отец.
И к двери он шел странно – пятился.
– Да, – сказала мама, – да. Смелости в нашем Алеше кот наплакал. Или лучше кошка? Наша кошка Маргошка. Ты не находишь?
Нет, я не находила. Я искала свои джинсы и маечку, я одевалась, я спешила. И все пыталась сообразить: почему то, что отец пятился к двери, свидетельствовало о трусости? А то, что он один побежал на Тенистую, – только об упрямстве и безрассудстве?
Взгляд человека прям по своей сути. Он – луч, соединяющий две точки. Он не может завернуть за угол, завязаться восьмеркой. Он должен видеть то, что видит. Но как часто он видит то, что хочет видеть! И обегает то, что мешает смотрящему наслаждаться своей правотой.
Так думала я, летя к остановке автобуса, на ходу пальцами разгребая волосы, чтобы они приняли хоть какой-то приличный вид.
– Давно ушел? – спросила я у толпившихся на остановке.
– Только что, а ходят редко, – сказала мне женщина в светлом плаще с большой клетчатой сумкой в левой руке, правой она держала за воротник маленького, все пытающегося сесть на мокрый асфальт мальчика. – Ходит редко, мы с Мишкой на работу опаздываем.
– Ааботу, – повторил мальчик, подгибая мягкие ножки. И ручки у него тоже болтались мягко: он еще не вынырнул из сна» но приходилось начинать день, тащиться в садик.
Вид у меня, наверное, был не совсем обычный: женщина несколько раз взглядывала на мои патлы, на маечку, криво засунутую в джинсы. Один раз даже губы у нее шевельнулись. Я думаю, она хотела спросить: нельзя ли помочь? Случилось что-то?
Может быть, следовало не торчать на остановке, куда с минуты на минуту могла примчаться мама? Может быть, следовало бежать по улице, да еще не по той, по которой ходит двенадцатый номер «Город-пляж», а по параллельной? Путая следы? Но возможно, мама решила, что я отправилась к Вике (она ведь могла и вернуться), к Генке, к Громову?
Не знаю, сколько бы я еще топталась со своими вопросами, но тут подошел автобус, и я стала вталкивать в переднюю дверцу Мишу, клетчатую сумку и молодую, почти как моя мама, бабушку. Потом кинулась к задней, боднула парня в вельветках, парень повернул ко мне круглое заспанное лицо с баками чуть не до плечей, и автобус, заскрежетав, тронулся.
Как я молила автобус двигаться побыстрей! Но все было напрасно. А люди дремали в нем стоя. И я ввернулась в их доверчивое тепло, прислонилась, подключилась к общему ритму. Сказать по правде, в какой-то момент мне уже расхотелось наружу. Мне было сладко существовать ничего не решающей частицей. Но я вовремя одернула себя и пробилась к дверям.
На горке я впервые заметила: а день-то совсем не теплый, ветреный. Я стояла под этим ветром. А поселок лежал передо мной весь в густой, темной, синеватой, колышущейся под ветром зелени, и ничего невозможно было разглядеть. Кроме того, я не знала, в какой стороне эта самая Тенистая, а спросить было не у кого. Я стояла совершенно одна, у меня за спиной, только перешагни канаву, залитую водой, была степь, далеко впереди и справа желтела Коса, вон там была бабушкина улица и, что я знала точно, никаких Тенистых рядом. Значит, бежать надо было под горку и влево.
В конце концов я побежала.
И представьте себе, вылетела прямо на двухэтажный розовый особняк с табличкой: «Тенистая, 12».
И тут я задохнулась. От волнения, разумеется. Может быть, даже от страха. Я подумала: «А откуда известно, что мой отец здесь? Что я буду делать, долетев до дома номер восемь? И дозвонилась ли мама уже в милицию?» Даже так подумала я. И не лучше ли в самом деле переложить все заботы на плечи профессионалов, а не заниматься самодеятельностью?
Но вот странно: мысли бежали в таком направлении, а ноги – совершенно четко в направлении дома номер восемь. Еще не добежав, не рассмотрев, что там впереди, я столкнулась с какой-то волной тревоги. А потом увидела отца, закричавшего мне непонятное: «К автомату, Женечка, к автомату!»
Отца держал, что называется, за грудки какой-то старик и, рыча, перегибал его через перила крыльца. Он рычал приблизительно следующее: «За своим, что ли, пришел? Я его у тебя брал? Я его из своей земли выкопал! Чекист нашелся, очкарик трухлявый!»
«Но он никогда не носил очков», – глупо подумала я, и как раз в этот момент отец увидел меня и закричал насчет автоматов. То есть чтоб я позвонила, набирая 02, 03 или что там еще найду нужным… А я увидела Генку на траве и кровь, которая из него хлестала.
Потом оказалось, что на Тенистую, 8 Громов с Генкой прибежали гораздо раньше моего отца, но позже того момента, как за Викой и Поливановым захлопнулась калитка. В доме оказался только старик, недавний мамин пациент, и его жена. Дядька и тетка Макса.
Ни в какую драку ни со стариком, ни со старухой Громов не собирался вступать. Только спросил, куда девалась Вика и отдают ли они себе отчет, что она несовершеннолетняя. И за одно только похищение ее из дому можно получить срок?
«Которая это? – спросила старуха. – Чернявая, какая ночью прибегала? Какая его с места сорвала? А тебе она кто?»
«Сестра, – ответил Громов, не моргнув. – Отец уже в милицию позвонил, там разберутся».
Чьего отца он имел в виду? Викиного? Своего? Моего? И почему они с Генкой ночью оказались на Тенистой? Дело в том, что адреса Поливанова, как ни странно, Вика не знала. Никто не знал, кроме Грома. Тогда ночью Вика вызвала Володьку и сказала: «Пусть они все в окна попрыгают, а я буду с ним». Вид у нее при этом был взрослый, самоуверенный, а в руках та самая планшетка, где лежала теперь уже почти бесполезная косметичка и две толстых тетради, неизвестно почему такой уж тайный дневник (когда только она успела сделать те записи?).
Громов стал уговаривать Вику дождаться утра, но Вика так притопнула – Володька понял: действительно ей необходимо увидеть Поливанова сейчас же. К тому же у Громова были одни подозрения и никакой уверенности. А у Вики одна уверенность.
В конце концов он довел ее до дома на Тенистой, а сам, подождав немного, побежал к Генке и снова, с ним, вернулся. Но было поздно.
Когда он вел свои разговоры со стариком и старухой, в доме не было уже не только Вики с Поливановым, но и золота. А в соседнем, через забор, Квадрат тоже собирался в путь. И считал, что времени у него по крайней мере до восьми – десяти утра.
Он собирался в своем доме, рядом, а старуха Горбенко маялась оттого, что хотела его предупредить, поторопить как-то. Может, она думала: удерет Квадрат, унесет свою долю, а с них, стариков, какой спрос?
Во всяком случае, за спиной Громова она сигналила и сигналила глазами своему старику, чтоб он все-таки как-то изловчился, предупредил соседей, с которыми столько лет и дружили и переругивались через забор, выясняя, с чьей крыши больше течет на участок или чья коза сжевала молодую капусту. Соседей, с которыми, месяца не прошло, как копали канаву, вели воду в дом, нашли какие-то непонятные цацки; с них все и началось.

В конце концов до старика Горбенко дошли сигналы, и он кинулся к дверям, потом к соседнему дому, не зная, что там сторожит Генка.
Генка бросился к старику. Старик отскочил от Генки, испуганный его прытью и размерами, тут из-за угла выскочил мой отец, а из дома Квадрат все в своей красной водолазке и блайзере. Он совсем был готов к отплытию. Вместе с Квадратом на крыльцо шагнул его отец, тот, что совсем недавно пробил голову своему дружку, а потом сам доставил его в больницу прямо в руки хирургу Камчадаловой. Да еще жену возле него усадил, не то правда облегчить страдания, не то следить, чтоб не проговорился…
Конечно, такие подробности дошли до меня значительно позже.
Я не видела даже того, как родитель Квадрата спрыгнул с крыльца, схватил лопату и ринулся на Генку. Он ударил его, но не остановился, схватился с отцом. Или это отец с ним схватился?
В эту минуту подбежала я, а Громов повис на Квадрате, наверное, так, как виснет собака лайка на медведе. Во всяком случае, соотношение сил было то же.
И вот теперь Володька старался задержать Квадрата, отца душил старик, а Генка обливался кровью… И все это кинулось мне в глаза и застыло.
Вернее, застыла я. Деревья, наоборот, слоисто шевелили темной, почти зловещей листвой. Квадрат дотащил Володьку до ворот и бил при этом своими огромными ножищами. А с крыльца отец кричал мне:
– Скорее, Женечка! К автомату!
Наконец я отклеила от земли пудовые ноги, вот только бросилась не к автомату – кто его знает, где он еще был на этой улице! Я бросилась к отцу. Я обхватила старика сзади, я колотила его по спине, такой же широкой, как у Квадрата. А в сердце все время было одно: Генку уже убили!
И тут на крыльцо поднялся старик Горбенко и стал отдирать руки своего дружка от моего отца.
– Ты это нам всем какой беды хочешь? Мне голову пробил – обошлось, так за других схватился? – Он хрипел так, вытягивая и вытягивая шею, а сил у него было совсем мало, но все-таки вдвоем с отцом они должны были справиться. Я кинулась к Генке…
Но в этот момент издали-издали, так, что, возможно, никто еще и не понял, что это, раздалось тревожное завывание «синеглазки». Потом к нему, почти недосягаемо для слуха, подключился еще такой же тоненький, свербящий звук «скорой».
Наверняка они, эти звуки, хорошо здесь были знакомы по прошлой жизни. Они приближались, сливаясь, неслись на нас, словно выталкивая со всего узкого пространства зеленой слободской улицы обыкновенный воздух, заменяя его духом тревоги. Потом к механическим звукам присоединилось мелькание синего, злого света в вертушке, суета белых халатов, мелькание милицейских погон, красной, вырвавшейся в последний момент водолазки. И наконец я увидела свою маму.
Вид у нее в кабине «скорой» был верховой. Не знаю, как объяснить лучше, но мама моя и после того, как выпрыгнула из кабины, оставалась всадником. И даже когда стояла перед поверженным Генкой на коленях, она отдавала команды, как будто с коня. Кроме того, она сама перевязывала, загружала носилками свой фургончик. (Отца тоже всунули в его жуткую коробку на носилках. Как потом оказалось, у него был поврежден позвоночник.)
А мама подошла ко мне и спросила:
– Ну?
Это надо было понимать так: допрыгались? Убедились в моей правоте?
– Ну?
Мама стояла передо мною в халате, забрызганном кровью, широкая, победившая. Однако все мысли о том, что хотела она сказать своим «Ну?», пришли мне в голову позже. А в тот момент я могла только спросить:
– Живой? Генка живой?
– А куда он денется? При нынешнем-то состоянии медицины? – ответила мама, рассматривая меня сумрачно и неодобрительно. – И отец родной – тоже…
Повернувшись на каблуках, она направилась к машине.
Что отец жив – это было легко рассмотреть, а вот Генка…
Глава XXII
– Ты бы позвала к нам Вику. И чем раньше – тем лучше. – Мама уже стояла в коридоре перед зеркалом, стараясь пустить справа налево лихой зачес из своих слабо вьющихся негустых волос. – Ты меня слышишь? Вкусненьким вас накормлю…
Зачес не получался, и мама, положив щетку и безо всякой досады, отвернулась от зеркала:
– Цыпленок с чесноком – идет?
Однако и тут я не кивнула, и мама ушла, рывком закинув на плечо маленькую сумочку на длинном ремешке. Деловая, современная женщина, которую ждет насущная работа.
Я смотрела вслед маме, недоумевая, как она не понимает: Вику звать к нам сейчас нельзя. Ну о чем мы станем говорить, собравшись втроем или – еще хуже – вчетвером на кухне? О том, как нечувствительно дались нам экзамены, и как Вика тоже могла бы?.. Или о том, как мама ловко догадалась, где живет Поливанов? «Все разговоры о козе, о козе, представляешь? А тут как осенило: золото в бреду он тоже вспоминал». – «Золотая козочка, значит, тетя Ната? Золотую козочку, говорите, нашли?» – «И тут я говорю: Алеша, так и так… Звони в милицию». По маминым понятиям, очевидно, Вика в этот момент должна была всплеснуть ручками: «Ну вы и даете, тетя Ната! Прям лучше «знатоков!» – «Служим трудовому народу!» – ответила бы мама, подкладывая Вике в тарелку и улыбаясь, как она улыбалась месяц, полгода, год назад.
А то можно было взяться вдвоем, попробовать в красках нарисовать специально для Викули картинку, которую она в жизни пропустила, дурочка! «Нет, ты представляешь! – кричала бы я, перебивая маму. – Он, как лев, кинулся!» – «Кто? – кричала бы мама, перебивая меня. – Кого ты имеешь в виду, Женя?» И обе мы смеялись бы, потому что львов в тот день на Тенистой улице насчитывалось целых три: Гром, Генка и отец…
Ужас!
Ужас, до чего взрослые не умеют иногда увидеть ситуацию, понять чужое страдание…
Нет, нам надо было встретиться с Викой по-другому. И сразу после маминого ухода я подошла к телефону. Палец несколько раз соскакивал, и диск вертелся не так, как надо, пока я набирала Викин номер.
– Викуль, – сказала я просящим голосом, – Вика, давай встретимся?
– Давай.
– Ты ко мне? Или я к тебе?
– А на Откос? – Голос у Вики звучал очень обыкновенно. Немного устало, что ли. – Сбегаем на Откос, как тебе?
– Нормально. Жди у тополя через десять минут.
Мне и не терпелось увидеть Вику, и было страшновато. Совсем не из-за Генки, разумеется. А просто что-то взрослое, тайное, чего еще никогда не было, прошло между нами и остановилось, поджидая за углом. Одним словом, я бежала к Вике с таким чувством, как будто за эти десять дней у нее мог вырасти нос картошкой или третья рука.
Вика стояла у тополя в джинсах и замшевом пиджачке, и в первую минуту меня охватило ощущение: мы расстались вчера и Вика притихла перед какой-нибудь нашей с ней общей проделкой. Когда мы удирали с уроков или отправлялись на взрослый сеанс в кино или на Откос, объяснив дома, что будем у Чижовых… Вот сейчас я подойду к ней, обниму: «Би! Поехали!» – «Поехали, Женя!» Я подхожу, обнимаю тополь, а к Вике только протягиваю руку и нажимаю ее маленький, хорошенький носик:
– Би-и! Поехали?
– Идем.
Вика точно тем же жестом, что и моя мама, закинула на плечо сумочку на длинном ремешке. И вот что мне показалось: какая-то не то сухость, не то деловитость появилась в моей подружке, до сих пор отличавшейся скорее смешливостью и проказливостью.
А на Откосе нельзя было сидеть. Оставалось только лежать в соседних промоинках, переговариваться чуть ли не криком, такой дул ветер. Было холодно, как часто у нас бывает и в середине июня после дождей. И весь день казался беспощадно, немилосердно чистым. Угнетающе, я бы сказала, промытым.
Какой-то странный день с оголенными и разъединенными предметами. Даже листья на деревьях выделялись по одному. Даже галька на берегу белела или желтела отдельно каждым камешком.
Как неудачно, что мы с Викой попали на Откос именно в такой день, подумала я. И еще я подумала, что слова и наедине с Викой не идут у меня с языка.
Кроме жалости, у меня было другое чувство. Чувство какого-то стыда перед Викой. Все мы что-то получили от этой весны. Что-то, что, вполне возможно, останется с нами на всю жизнь. А Вика? Ее как будто ограбили. И ощущение, что ограбили, не пожалели, провели, тоже, наверное, долго будет за нею тянуться.
И тут, сама не знаю как, по аналогии, я ляпнула:
– А Лариса-Бориса от нас уходит. Может, уже ушла.
– Уже, – сказала Вика, не поворачиваясь, глядя прямо в небо. – Неуправляемые мы оказались, бесперспективные. Зачем ей. А такая была – классная…
В голосе Вики звучало сожаление, рука болтнулась слабо и застыла на полдороге…
– Наверное, снова Марточка вернется? – сказала я, не зная, стоит ли так уж радоваться. Марточка вернется, а все остальное? – Или Мустафу Алиевича нам сосватают? «Направо равняйсь!» – закричала я дурным голосом и осеклась, вспомнив, что правофланговым у нас стоит Генка. Но Вика слушала меня издалека-издалека. Нужны ей были и Мустафа Алиевич, и Генка, и все наши школьные новости впридачу. Но мне-то куда легче говорилось о них, чем о том, о чем надо было говорить.
Я просто забалтывала нашими школьными новостями необходимость повернуться лицом к настоящему. А Вика лежала как будто не в промоинке, а в своем горе, накрытая им с головой, как прозрачной пленкой, под которой не хватает воздуха…
«В жизни должно быть очарование», – вспомнила я прошлогодние Марточкины слова. И ее голос, как бы не уверенный в том, что мы ее поймем сегодня, сейчас, сию минуту. «В жизни должно быть…»
Я не успела второй раз внутри себя прокрутить эту фразу, Вика спросила меня из своей промоинки:
– Ты сама слышала, что кричал Квадрат?
– Сама.
– И что же?
Она лежала, повернув ко мне лицо, в той промоинке, которую больше других любила. А я в той, где чаще всего оказывался Генка. И все это было так рядом, что я могла разглядеть голубые тени в Викиных черных глазах. Тени эти тревожно, выжидающе ходили в глубине. А зрачки смотрели упорно и как у человека, который хочет закричать от боли, но крепится. И будет крепиться, режьте ему хоть руку, хоть ногу.

– Вика, какого черта! Если тебе поспешили сообщить, что он кричал, то наверняка и что…
– Поспешили. Но я Пельменю не так чтоб очень верю. А мне надо один к одному – не вольный пересказ.
Я молчала.
– Ну? – повторила Вика. – Мне надо точно: один к одному.
– Один к одному я не стану.
– Станешь, Женечка, станешь. А иначе видишь меня в последний раз.
– Вижу тебя в последний раз, – выбрала я довольно уныло. – А зачем тебе один к одному?
– Интересно все-таки знать, в какую лужу шлепнулась.
«В вонючую», – могла бы сказать я, вспомнив крики Квадрата.
А я их, конечно, вспомнила. Вспомнила я и то, как к Квадрату, на ходу выпрыгивая из машины, бросился капитан милиции. «Где девочка? Девчонку куда девали? – закричал он, встряхивая Квадрата. – Ты мне за девчонку ответишь, Савельев!»
И тут заодно вспомнила я, какое страшное лицо стало у Квадрата с появлением капитана. Верхняя, плоская губа со шрамом растеклась чуть не по всему лицу, а глаза забегали с придурью. Ничего не осталось от тугого, похожего на футболиста, явившегося к нам на темно-вишневой «Яве» вместе с Викой.
Тогда, на раскопках, он казался таким, как мы. Чуть-чуть даже похожим на Охана. Старше нас, опытнее, молчаливее, не в больших чинах на своем корабле и при блистательном Максе – ну и что же? Все равно он был, как все. Даже в драке с Громовым он крутился чужим, опасным, но еще не таким, каким стал с этой растекшейся губой, с воровскими, ищущими выход глазками.
«Сколько лет все наше отделение и тебя, и всю семейку пасет. А недоглядели», – сказал капитан, спускаясь с крыльца и слегка подталкивая все пытавшегося оглянуться Квадрата.
«Под статью попадет: девочка – несовершеннолетняя», – сказал капитан моей маме. «Не боись, начальник, шестнадцать в том году стукнуло: гуляй, расписывайсь. Если кто, конечно, захочет после Макса».
И две дочки, и жена, и сам Макс, давно уволившийся с рефрижератора, – это все тоже выпрыгнуло, как из другой жизни. Где возможны те слова, какие кричал Квадрат, и совершенно ни к чему все, что случалось с нами в школе и в наших семьях, все, чем жил и гордился Город.
…А Вика лежала в промоинке, твердо прижав руки к бокам, глядя в пустое, синее, неприветливое небо. Она казалась совсем маленькой теперь, когда не подпрыгивала, не смеялась, не лучилась. Плоти в ней и всегда-то была горстка, а все остальное добавляло сверкающее облачко. Но облачка не стало…
– Я его неделю ждала: он мою цепочку пошел продавать. То золото – опасно было.
– Цепочку? – Я чуть не спросила, надолго ли им хватило бы десятки, да на ходу поняла: все три цепочки на Вике были не «под золото», а настоящие…
Они были настоящие, но Шполянская-старшая не хотела привлекать к ним внимание. Мне стало грустно. Мне стало опять больно, как от укола длинной, застрявшей в груди иголки. Потому что где-то в отдалении, где-то в тех взрослых пределах, куда нас не пускали, жизнь Шполянской-старшей взяла и почти беззвучно чокнулась с жизнью Поливанова.
– Вика, а ты знала?
– Что? Что у него жена?
– Нет, – заторопилась я, отгоняя Вику от ее главной мысли. – Что у тебя цепочка золотая?
– А как ты думала? – фыркнула Вика утвердительно.
– А что он с собой золото прихватил, удирая?
Вика повернулась в мою сторону всем телом быстро и механически. Возможно, это как раз она рассматривала меня и всю мою жизнь как что-то другое, протекавшее скучно по ту сторону.
Я уже знала от мамы, что в тех двух тетрадях, которые никогда не были Викиными дневниками, Макс вырезал круглую полость (так сказала мама) и туда вставил «кусок». Но чем был «кусок» до того, как стал «куском», слитком, золотом? Вот вопрос. Мама не знала. Возможно, Вика тоже не знала. Собственно говоря, и Макс не знал. Узнать мог бы мой отец, но Поливанов его опередил: сплющил, скатал, уничтожил форму и изображение.
А вдруг в канаве, которую рыли два соседа, чтоб положить водопроводные трубы, нашелся как раз тот фиал или тот гребень? И сочиненная мною козочка действительно лежала в золотом овале, аккуратно поджав ножки, ждала двадцать веков?
А Вика все рассматривала меня, и две маленькие, как бы не имеющие никакого отношения к делу слезинки бежали из ее глаз. Она любила этого Макса и даже если знала, делала вид перед самой собой, что «не может быть». Просто потому, что такого никогда не может быть. И потом, ожидая его с деньгами за цепочку, с билетами в Ригу, где все устроится, тоже думала: «Не может быть».
Он не возвращался один день, второй, третий. Она лежала в маленькой комнате с низким потолком и одутловатыми, шелушащимися стенами и повторяла: «Не может быть».
Даже чужая женщина, сдавшая им на ночь комнату, тоже думала: «Не может быть». Не верила, что Макс просто-напросто сбежал, и ходила узнавать, не случилось ли по городу несчастного случая. Но не случилось. Тогда Вика, боясь саму себя, открыла планшетку и увидела ее пустоту…
«В жизни должно быть очарование…» Вслух я не произнесла ни слова. И не было у меня никаких подходящих слов, только злая и тонкая иголка колола и колола меня, выжимая слезы…
Ах, как они шли тогда втроем по старым мосткам, а потом к нам по светлому песку в синих ракушках: мой отец, Громов и Макс! Какие у них были лица, освещенные одним, одинаковым ощущением счастья…
«Не может быть!» – хотелось закричать и мне. Не может быть, чтоб один из них оказался чудовищем, понимающим удачу, людскую судьбу, любовь совсем не так… Не может быть!
«Но как хорошо, что мы не можем поверить в чудовищное предательство с первого раза», – еще так подумала я. А может быть, это была вовсе не моя мысль, а просто согласное повторение бабушкиных слов? Или Марточкиных?
Голо, пусто, плохо было на Откосе. И никакого утешения, пригодного для Вики, я не могла найти. Я чувствовала себя виноватой, а по светлому песку, по голубым ракушкам шел навстречу мне мой отец…