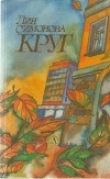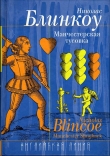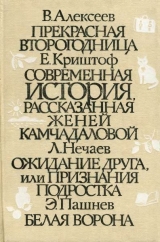
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Глава XIX
И вот мы сидели на экзаменах, и два места за нашими партами были пусты. Именно из-за этих двух мест экзамен казался нам легким происшествием, даже детским. Как будто между нами, какими были мы в восьмом, и нынешними прошел не один год, а несколько. Приблизительно – пять.
Не знаю, может, так чувствовала только я, но на мою парту, где не было Вики, где я сидела одна, – все оглядывались. И Генка, как у нас говорится, отсутствовал, но с ним хоть все казалось понятным. Генку можно даже было ставить в пример.
– Геннадий как? – подбежала ко мне Лариса Борисовна, когда я появилась сегодня на школьном дворе и стала под каштаном. – И отец?
– Генку из реанимации перевели, мама говорит, ему и не надо было в реанимацию. Подстраховывались.
А об отце я распространяться не стала: хватит с нее и того, что вчера вечером она узнала по телефону от мамы.
Был самый конец долгого месяца мая, цвела белая акация, которой стараниями моей бабушки когда-то обсадили весь школьный двор по периметру, и зря. Неосмотрительно. Без учета того, что акации пахнут просто и сладко – неотвратимо, я бы сказала. Не в ритм современной музыке, а в ритм чему-то совсем другому. Любви, наверное.
– Ну а все-таки? Совсем не опасно? Нет? На будущее? – проявляла сочувствие Лариса по поводу Генки.
– Что вы! После удара у него как раз все шарики и винтики стали на место. Выпишется – будет человеком.
– А что мама все-таки говорит? – Однако не повторять же было, что мама назвала ее плохим классным руководителем, создавшим обстановку разболтанности, из-за которой Громов взял на себя слишком много. А в результате пострадал Генка. Тем более что это была неправда. И в утверждении мамы, что Вика сбежала из дому под влиянием свободолюбивого духа, пущенного в классе Ларисой, – тоже не было справедливости. Даже Марта Ильинична не удержала бы Вику, встреться на ее пути Поливанов. Если уж Шполянская-старшая не сумела…
– Так что все-таки мама говорит? Ты меня слышишь, Камчадалова?
– Мама говорит: полный о’кэй!
– Ну, что ты скоморошничаешь, Камчадалова? Ты не видишь, я места себе не нахожу с вашими приключениями. Нет? Да?
– Да, – сказала я. – Не находите.
Но мне казалось, не из жалости к Вике или Генке она не находила. А из-за того, что все случившееся лишало ее душевного комфорта, вторгалось в ее личную жизнь.
– И все Громов, – сказала Лариса-Бориса, напрашиваясь на продолжение разговора. – Как с ним? Он-то хоть явится? Да?
Мы вместе обвели взглядом довольно пустынный школьный двор. Не было сейчас кипения, наполнявшего его в будни. Вообще только особо нервные тянулись в школу, пострадать, похрустеть пальцами, показать всем, что их смертельно волнует исход экзаменов.
– Лариса Борисовна, – сказала я голосом, который изо всех сил хотел казаться мягким, рассудительным, что называется, объективным. – Громов действительно инициативный. Помните, вы еще на кораблике его за это сманивали в совхоз? А инициатива – она требует действий, а действия не всегда можно согласовать. В общем, все должны понять, он хотел как лучше.
– Интересно, как бы ты рассуждала, если бы погиб твой отец? Так же? А? Нет?
– Теоретически – да, – глупо ответила я. И сейчас же испугалась. Вдруг судьба посмеется, и мой, не очень-то тяжело раненный отец погибнет совсем не теоретически? Мало ли как оборачивается, когда человек уже попал в больницу, когда у него слабое сердце и солидный возраст: сорок с лишним лет. Но какое-то странное упрямство заставило меня повторить: – Теоретически – да. И потом, вы уверены, что это не мой отец научил Громова действовать так?
– Не наговаривай на своего отца. Его и так ждут неприятности, ничуть не меньшие, чем меня.
Мы стояли с нею одни с краю большого заасфальтированного школьного двора. Стояли одни, потому что было раннее утро – наши еще не подошли. Но ей, вероятно, казалось: мы объединены общим ожиданием неприятностей. И ох как неуютно чувствовала она себя в одной графе с неудачливыми Камчадаловыми!
Возможно, я все придумала, но тогда я просто физически ощущала: ей не по себе. Не умеет наша Лариса-Бориса спокойно перенести переход из лучших классных руководителей в худшие. Может быть, даже представляется ей такая картинка: вот сейчас, сию минуту явится некто, например, из гороно и спросит: «У вас, уважаемая, как я понимаю, с классом опять не слава богу? Надо же, за один месяц и брюками спекулировали, и в драку ввязались! И теперь – трое не явились на экзамены. Ну кто бы мог подумать!» – «Да, в самом деле – кто? – должна будет ответить Лариса. – Такие незапланированные неприятности». – «Построже надо было, хотя бы с Громовым – зачинщиком. А вы пустили на самотек, что опасно».
Пока я придумывала этот диалог, мы стояли под каштаном, а двор все оставался почти пустым. Двор с кустами сирени, жасмина и химанантуса, которые тоже посадила моя бабушка. Двор, куда девять лет назад меня за руку привел отец. И я спросила его после первого в моей жизни звонка: «А ты со мной? Может быть, пустят? Я учительницу спрошу».
Не защита тогда мне была нужна, мне хотелось, чтоб отец вошел в мою новую школьную жизнь, что за последующие девять лет удалось блестяще. Так удалось, что сделало его прямо-таки опекуном Шунечки, другом Грома, уложило на больничную койку рядом с Генкой, и неизвестно, чем все это кончится с точки зрения служебной ответственности, как говорит моя мама.
Все ждут – чем. И наверное, поэтому, появляясь на школьном дворе, Марта Ильинична еще от ворот поднимает руку и кричит нам с Ларисой-Борисой:
– Все в порядке, девочки. Я только что из больницы: все в порядке!
– Что же там может быть в порядке? – надменно удивляется Лариса.
– Оба в удовлетворительном состоянии, у обоих следователь был. Сказал: один фиал удалось спасти! Громов выхватил!
Несмотря на возраст, темперамент бурлил и переливался в нашей Марточке. Узкий подбородок ее дрожал от волнения, глаза сияли. Она бы и на весь город возвестила. А так всего на весь двор: следователь был! Фиал один спасли! Какая радость!
Однако надо признаться, информация ее была свежее моей. О фиале я еще ничего не знала. Я и не думала ни о каких фиалах, когда стояла час назад под окнами больницы. Хотя ни увидеть, ни услышать ни Генку, ни отца я не могла. Но мне не обязательно было увидеть. Мне хотелось, мне необходимо было оказаться поближе, придвинуться к ним. И потом, не оставаться же было дома одной: мать не возвращалась и не собиралась возвращаться с дежурства.
…Я смотрела на Марту Ильиничну сначала просто с неодобрением, потом зло я на нее стала смотреть, потому что в пределах слышимости и видимости появился Мишка Пельмень и двигался на нас. А ему-то уж совсем ни к чему было включаться в наш разговор о фиалах и следователях.
Мишка шел по двору широким шагом человека, которому хорошо.
– Громом интересуетесь? – спросил он, бодренько выставляя ногу. – Громов явится, вплоть до особого распоряжения поступит в ваше распоряжение.
Он хохотнул довольно. Потом отдельно и ободряюще и с важностью улыбнулся Ларисе-Борисе; Марте Ильиничне отвесил что-то вроде поклона, уронив свою круглую голову, вполне дружественно кивнул мне. И снова прищурил на Ларису глаза, поглядел пристальнее.
– Я говорю: и угораздило влезть во все это перед самыми экзаменами? – Грудка у него была откормленная, сытенькая. И весь он переливался довольством.
– Можно подумать, жизнь прикидывает, когда у нас экзамены, а когда каникулы, – отмахнулась я.
– Нет, почему же? – Пельмень вплотную надвинулся на меня, и я вдруг увидела, какой у него маленький рот, как у ящерки, подковкой. – Почему не сообразить так называемым девочкам, что некоторыми вещами можно заниматься после получения аттестата? Почему?
Он, разумеется, метил в Вику. А заодно и меня прихватывал.
– Да, почему? – эхом повторила Лариса. – Хотя откуда мы знаем…
– Ну, хорошо. – Мишка поднял ладонь, останавливая и как будто собираясь успокоить Ларису. – Ну, хорошо, чувство их меня, допустим, не колышет. Но кто нам объяснит, зачем Громов таскал на раскопки Поливанова?
– Громов и объяснит, – сказала я.
– Не скоро. Он там, у следователя, подписку дает.
– Подписку? – жалобно вскрикнула Лариса, поднося руки к щекам. – О чем подписку?
– О неразглашении государственной тайны, – улыбнулся Пельмень, как будто намекая: ни государственного, ни особо таинственного ничего, разумеется, нет.
– Следователь – что? – Лариса-Бориса смотрела на Пельменя с надеждой и опасением. – Следователь считает, Громов все-таки имел отношение?
– А это придется выяснить у самого следователя. Я – пас! – Тут Пельмень вскинул уже обе ладони, как стенку перед вопросами Ларисы-Борисы.
– А ты откуда знаешь, что Громов у следователя?
На Ларису жалко было смотреть.
– Я знаю только – дыма без огня не бывает. Громову предстоит объяснить, каким образом Поливанов оказался на катере, а Камчадалову – почему золото пряталось в его доме.
– Нет? – спросила саму себя Лариса и, подняв руки, не донесла их к вискам. Потому что я ударила Пельменя. Я ударила его сильно, так что руке стало больно. Я ударила его, ощущая податливую мягкость щек, губ, носа. Я била растопыренной ладошкой и не один раз. Бешенство, вселившееся в меня, бушевало напропалую, застилая глаза.
Но кое-что я все-таки видела.
Лариса продолжала стоять со своими застывшими руками. Марта Ильинична, схватив меня за плечи, оттаскивала в сторону. Пельмень, как это ни странно, не двигался. А во двор дружно и разом вваливалась добрая половина нашего класса, и впереди, конечно, Гром.
Потом Марточка, одной рукой держа меня за шиворот, другой смывала с моего лица слезы и сопли. Ладошка у нее оказалась такая же настойчивая, как у бабушки, и мне заботы ее были скорее приятны. Как вдруг, все еще всхлипывая и слабо выворачивая лицо из-под Марточкиных пальцев, я вспомнила:
Эх, яблочко, переспелое,
Отойди от нас, мамаша, сами сделаем…
Неужели там, в совхозе, она хоть раз, да слышала эти слова, показавшиеся сегодня мне просто ужасными? Мы, надо сказать, их проборматывали вполголоса, не то что остальные «дразнилки», но – вдруг?
Мне не захотелось поднимать голову из-под крана, смотреть Марточке в глаза. Показалось, она думает о том же, о чем я. Мои мысли ей передались. Но лицо у нее оставалось обыкновенным, озабоченным и только побледневшим.
…И вот мы сидим на экзаменах, остывшие, отпоенные валерьянкой, великодушно если не прощенные, то на некоторое время оставленные в покое (как раз на время экзаменов, результаты которых, как известно, влияют на лицо школы – о лице класса уже никто не думает).
Сидим и, вместо того чтоб думать о самом простом, о математике устной, думаем о жизни. Я, например, рассматриваю свою правую руку, думаю, что правильно ударила Пельменя. Если бы не я, его бы ударил Гром, а это было бы куда более чревато, как любит говорить Шполянская-старшая.
С меня что взять? Какой-нибудь незначительный штрих к портрету и без того «этого ужасного девятого «Б»? Который – подумать только! – так прекрасно начинал год, отличился и в совхозе, и потом буквально во всех мероприятиях, а теперь как с цепи сорвался! Это было выражение моей бабушки, очень подходящее к случаю и наверняка прозвучавшее в учительской.
Однако что там делалось в учительской, я могла только предполагать. И представлять, как Марточка все еще бросается от одного к другому и почти кричит: «Интересно, а как бы вы реагировали? Это же почти то же самое, что назвать человека вором. Он назвал абсолютно порядочного человека вором!»
Правда, мне больше хотелось, чтоб за меня и за моего отца заступались как-нибудь иначе. Мне хотелось, например, чтоб Мустафа Алиевич стукнул кулаком по столу: «Если не мы, то кто же защитит?» Там, во дворе, утром именно он первый схватил Мишку за плечи и, отрывая от земли, спросил всего одним словом:
– Зачем?
Хорошо же он отгадал характер Пельменя, если не поинтересовался: «Почему?», а сразу крикнул: «Зачем?».
Но больше всего, как ни трудно в этом признаваться, мне хотелось, чтоб Лариса-Бориса не молчала все это время, не двигалась как в тумане, предоставив другим расталкивать, растаскивать, поить валерьянкой и умывать наш ужасный девятый «Б».
Почему она не прикрикнула на Пельменя раньше, чем я размахнулась? Она, так ценившая быструю реакцию. Почему не заступилась за Вику, когда Пельмень говорил о ней гадости? Но подобные вопросы можно было задавать до бесконечности. И до бесконечности оглядываться на пустую половину парты, где должна была бы сидеть моя подружка, которую еще совсем недавно мама называла солнышком, а я сравнивала с лучиком.
Что толку? Вики не было…
А в остальном экзамены продвигались вперед, как им было положено, и вот уже Тоня Чижова со всем старанием выводила на доске вместо функции тангенса что-то несусветное, а Шура Денисенко пыталась оттянуть ее внимание на себя, шипя, кашляя и даже как бы в отчаянии размахивая руками. Обычная самоотверженность не покидала Шурочку, на этот раз, кажется, даже радуя глаз родных учителей.
Еще бы! После всего случившегося подсказка, должно быть, казалась им милым и неоспоримым признаком детства, безнадежно отвернувшегося от нас.
Между мной и Шурой Денисенко сидел Пельмень. Круглая голова его, неподвижно вбитая в неподвижные плечи, притягивала мой взгляд и мысли. Я думала: какой он, к черту, Хозяин? Надел для важности эту маску, тесемочки завязать не успел – болтаются. И роль не дается, хоть плачь. От таких картинок мне не становилось жаль Мишку. Я ему ничего не намерена была прощать, но той злости уже не было. Возможно, потому, что Марта Ильинична не только хорошо вымыла мне лицо, толкнув под кран, но еще за шиворот напустила холодной воды. Платье от этого липло к спине, и сидела я, кажется, тоже в луже.
Сидела в луже, смотрела в затылок Мишке Пельменю и вспоминала, в каком это классе Мишка стал отнимать у Генки монеты, выданные на мороженое? В третьем? В четвертом? Жалкие гривенники, зажатые в кулаке из последних сил, переходили в Мишкин карман. Однако прежде чем исчезнуть в кармане, монетка взлетала в воздух перед самым Генкиным носом, и Мишка наклонял к нему веселое от удачи лицо.
Мишка, конечно, был сластена. Но больше конфет и пирожных в школьном буфете ему нравилось ощущение власти над Генкой, над Оханом и другими. Однажды он сунулся и к Шунечке.
Надо признаться, Денисенко смерила его тогда отличным недоумевающим взглядом: «Жизнь тебе надоела, Садко? Тебя же Гром в белые тапочки обует!» И Мишка оставил ее в покое, как и многих других в классе. А Генка был толстым, смешным и писал почему-то поэму о бобрах. Не тогда ли родители стали направлять его то в одну спортивную секцию, то в другую, авось поможет?
Но Генке помогли не секции…
Глава XX
Такое длинное детство все еще было, очевидно, со мной, с Чижовыми, с Шурой Денисенко. А Вика до сих пор не находилась. Не поэтому ли мы опять так сжались, так объединились? Конечно, никто не представлял, что Вика исчезла навсегда. Что ее убили, например. Или что она сама каким-то образом умерла. Но ее не было среди нас. И ей, скорее всего, угрожала опасность.
И вот мы объединились не вокруг Вики, а вокруг больницы, но, я чувствовала, исчезновение ее сыграло главную роль.
Мы очутились наконец после экзаменов на свободе, и надо было этим пользоваться, тем более что в недалеком будущем маячила работа в совхозе, куда мы поедем все, и, очевидно, как раньше – с Марточкой, но пока – свободны. Однако никто не ходит на Откос, все собираются возле больницы на пустыре, только недавно засаженном тонкими деревцами-акселератами.
Трава вокруг стоит еще свежая, с длинными листьями, после последних майских дождей. Цветут маки, в полной красе стоит лисохвост, овсюг, овсяница. Мы лежим в траве, и – будь это месяц назад – я бы сказала: балдеем. Балдение – пребывание в некой безмятежной полудреме, без мыслей в голове. Когда весь ты отдан минуте, растворен до конца в солнечном свете, в музыке шлягера, в небесной синеве, кому что нравится, но при одном условии: мыслей нет!
У нас же у всех – мысли.
О девчонке, нашей ровеснице, которая однажды ночью тихонько открыла дверь родной квартиры и исчезла. А все мы читали, между прочим, детективы. И всем нам, включая мальчишек, вот уже около десяти дней матери говорят: убедились, что значит сделать неверный шаг? Викин первый неверный шаг, по их мнению, начался вечером восьмого мая вниз по голубому спуску…
Что ни говори, вина за этот шаг на Громове все-таки лежала. Во всяком случае, он ее чувствовал. Однажды он отвел меня к больничному забору, сложенному из беленого ракушечника, и сказал:
– Я тогда только познакомил их. Макс попросил. Я думал – она ему на самом деле понравилась…
– Как на самом деле? – переспросила я с удивлением. – А разве не на самом деле?
– Ты что, не слыхала, что кричал Квадрат?
Что кричал арестованный Квадрат, я слыхала. И постараюсь рассказать, как оно все было. Что случилось дальше тем утром, когда отец исчез из дому, а мама сказала: «Характера твоему отцу не хватает. И честолюбия». Но расскажу чуть попозже, хотя, если идти за событиями по порядку, как я шла до сих пор, с этого надо было бы начать предыдущую главу. Но я не люблю рассказывать о тяжелом. Я не то чтобы закрываю на него глаза, но я отодвигаю тяжелое, безрадостное – тут я пошла не в маму. И поэтому никакого хирурга из меня не получится, напрасные старания.
Бабушка об этой моей особенности говорит: «Привычка поколения», – и смотрит на меня с сожалением. Отец пытается в сотый раз, как в первый, довести до моего сведения: «Из маленьких радостей не сошьешь большого счастья». А я все отодвигаю, отодвигаю… И сейчас хочу еще побыть на пустыре, где теперь совершенно неожиданно для себя мы стали собираться. Итак, Громов спрашивает меня:
– Ты что? Не слышала, что кричал Квадрат?
– Но ведь он мог и со зла?
– Мог, конечно. Но там на девяносто процентов правда.
Гром говорит так серьезно и так печально, что я понимаю: у следователя при очной ставке (или как это называется?) он еще кое-что узнал о намерениях и действиях Поливанова. Например, то, что Поливанов отправился с нами к Камням совсем не ради наших распрекрасных раскопок. Нужны они ему были, как же! Золото или электрон (пока никто не знает точно – что) уже было найдено совершенно случайно и совершенно в другом месте. И оставалось только уточнить: какая ему цена, если оно фиал, и какая, если смято. Так что мы с отцом действительно в какой-то мере просвещали Макса Поливанова.
Володька, наверное, тоже нужен был ему как просветитель. Ведь с первых дней знакомства Поливанов и Квадрат осторожненько расспрашивали и его. А там, у школьного сарая, когда мы возились с факелами, Поливанов после двух-трех ничего не значащих фраз спросил главное: «Которая Шполянская? Познакомь, будь другом».
– Почему же ты не сказал ей? – вскрикиваю я, представив тот денек, с которого все пошло в другую сторону… – Почему ты не сказал ей? – кричу я Володьке и сейчас же задаю вопрос сама себе: «А она бы поверила?» Ведь я сама никак не могу поверить до конца. То есть я понимаю, что Поливанов мошенник или даже грабитель, но память снова и снова рисует мне картинку: по шатким мосткам идут мой отец, Володька и Поливанов. За плечами у них рюкзаки, в руках скатки. А лица такие, будто они вернулись с дальних берегов. С рассказами об опасностях, которые преодолели. – Вику все-таки ты должен был хоть о чем-то проинформировать, – говорю я дурацкую фразу дурацким голосом.
– Кое-что говорил. Но она ему все сразу, как на блюдечке, выкладывала, все передавала – это надо учесть. Что она его любит, я понимал не хуже других…
– Тогда надо было…
– …сказать взрослым?
Все для нас, в наши неполные семнадцать, кончается на этом: сказать взрослым. И пусть они принимают решения, берут на себя ответственность, заявляют в милицию и так далее.
– …сказать взрослым надо было, по-твоему? – Лицо Грома принимает надменное выражение. И в то же время он как будто к чему-то прислушивается, к каким-то далеким голосам. Или к тихому посвисту ветра, который шарит по берегу, наклоняет шелковую, послушную траву? К дальнему крику чаек?
Мы оба стоим некоторое время молча. Пахнет степью. Но в том самом месте, где мы стоим, этот запах сшибается с запахом моря, и какое-то время они летят вместе, кружат над нами, над Городом, зовут дальше.
– Пойдем к нашим? – Гром кивает в сторону Шунечки, Чижовых и мальчишек.
– Пойдем.
…И вот мы опять вместе и опять говорим все о том же: о нашей Классной.
– Нет, Лариску все-таки жалко. Помните, как она: «Отстающих медведь съест»? Теперь, значит, ее. С нас что? С нас как с гуся вода, а ей все палки в колеса. Она в методкабинет хотела на будущий год.
– Как это?
– Ну, чтоб руководить и без тетрадок.
– Без каких? – Мы смотрим на Грома, поднявшись из травы и разом сбрасывая сонную одурь. – Без каких тетрадок?
– Без ваших, без наших! – кричит Гром. – Думаете, легко каждый день сотнями проверять?
– Марточка же проверяет…
– У Марты жизнь в этом, а Лариса… – Гром не доканчивает, опять валится в траву, и все мы валимся. И жуем травинки, и смотрим в небо, и, наверное, очень по-разному думаем о нашей Классной Даме, которая, вполне возможно, не теряя своей дамской классности, уже не имеет к нам такого прямого отношения. А возможно, и вовсе никакого… Потому что именно в эту минуту и в этот час сидит на палубе большого корабля и плывет по синему Средиземному морю не затем, чтоб проведать двух очень старых людей, которые ее ждут. Она плывет посмотреть Европу. Что ей мы?
– А бабушка говорит – мы сами ее выдумали и наделили всем, чем не лень было, а теперь сами же злимся, что не соответствует, – говорю я, и чувство, похожее на тоску, охватывает меня. Потому что в этих словах заключается правда.
– А что? В этом есть… – Гром смотрит на меня, я смотрю на Грома, и разом мы взглядываем в сторону моря.
Сами себе мы не признаемся, но всем нам хочется одного. Чтоб зашуршали камешки со стороны спуска к морю, чтоб было слышно: кто-то поднимается к нам, цепляясь за кусты лоха и раздвигая ветки. И вот в траве по колено, может быть, еще не видя нас, идет к нам наша Лариса. И солнце запуталось в ее золотых волосах, и маленький лучик играет на пуговичке, которой пристегнут погончик.
Я точно знаю: все мы, пусть не с такими подробностями, ждем появления Ларисы-Борисы. Иначе к чему бы Тоне Чижовой вкладывать столько грусти в очень простые слова?
– А все-таки хорошо, когда классный руководитель молодой… – говорит Тоня.
– Хорошо, когда молодой и любит нас, а так – чем хорошо? – Шура лежит в новых джинсах, закинув ногу за ногу, с длинным суставчатым стебельком в длинных детских пальцах. – Ты можешь объяснить – чем?
– С молодым есть надежда, – объясняет за сестру Ольга, – вдруг и я тоже стану такая? Ну, не в этом году, в будущем…
Заявление оригинальное, если учесть Олины очки и носы пуговками у обеих сестер.
– Какая – такая? – не унимается Шура.
– Ну, такая… – Ольге лень встать. А может, она понимает – вставай не вставай, похоже не получится, поэтому она неопределенно чертит рукой в воздухе. – Ну, такая…
– Красивая? – уточняет Денисенко и переворачивается в траве, становится на коленки, так ей лучше видны Чижовы.
– Женщина, с которой ничего не может случиться плохого, – бормочу я и вспоминаю, как по-глупому мы ждали удачи…
– Веселая? – это наш Охан спрашивает. – «Да? Нет? Я не права?»
– Ты не прав, Андрюша, – говорит Денисенко без смеха. – Все вы, девушки, не правы: человек должен быть надежным…
– Это нам еще в пятом объясняли… – Охан машет рукой, а остальные молчат.
Я тоже молчу и понимаю: несмотря ни на что, мне хочется, чтоб со стороны моря раздались шаги и над травами, над кустами появилось лицо, которое однажды показалось мне до удивления похожим на лицо нашей известной десантницы Галины Поповой.
Вот в чем еще вопрос: показалось или действительно было похоже?
Плывут облака, и ветер толкает в плечо, как живой, как будто хочет заставить действовать, принимать решения, бежать. Но мы лежим. Мы лежим и молчим, мы утонули. Только Шунина коленка высоко задрана вверх. И даже по этому колену видно, что сейчас она опять ринется в спор.
Я так и не знаю, ринулась ли? И о чем заспорили? Я поднимаюсь и иду к автобусной остановке, потому что у меня сегодня первое в жизни настоящее свидание. А до него еще пять часов свободного времени. В котором я хочу побыть одна.
Но первое, что я увидела, входя в дом, была африканская маска, висевшая на стене в прихожей. Не базарная, алебастровая, а настоящая, вырезанная из черного дерева, и я сразу поняла, откуда она взялась.
Мама сидела на балконе в кресле-качалке, аккуратными колечками пуская дым на лежащий у подножья нашего дома Город. И мне ничего не оставалось, как спросить у нее, перевешиваясь через перила:
– Все-таки отправляются? Генкины предки отправляются?
Ничего не отвечая, мама еще раз выпустила дым и еще раз. Потом подняла голову:
– Рефрижератор не может уйти без второго механика и без медсестры тоже. Так что все твои претензии – это несерьезно, Женечка… Что же касается Геннадия – я за ним пригляжу…
– Но почему? – еще пыталась пробиться я.
Мама смотрела на меня, и выражение лица у нее было такое, будто она не знала, сколько медицинских сестер рвется в Атлантику так, что без Генкиной матери флотилия обошлась бы.
– Не по-человечески все это как-то, – сказала я и села на порожек, натягивая юбку на колени и представляя Генку совершенно одного в большой, на шесть человек палате.
– Почему? – мама опять затянулась и опять выпустила светлую струю дыма. – Почему? Наоборот, одно из свойств активной человеческой натуры хотеть взять от жизни все. Вырастешь – поймешь.
– Пельмень как раз так же рассуждает, – буркнула я, поднимаясь с порога. – А в жизни должно быть очарованье…
– Должно… – согласилась со мной мама неожиданно. – Но не во вред самой жизни.
– Как это? – спросила я.
– Реально надо смотреть на вещи, Женечка. Реально.
Я не видела маминого лица, но знала, что прозрачные глаза ее сощурены на Город весело и прицельно.
Вдвоем с Маргошкой мы поплелись ко мне в комнату. А там я заплакала по-настоящему. Я плакала, главным образом потому, что представляла себе Генкину обритую, как у солдатика, и перевязанную почти сплошь голову на тощей казенной подушке. Даже штамп на наволочке со словами «первое хирургическое» подбавлял мне жалости. Даже нетронутая банка с компотом от Чижовых. Даже то, что на больничной койке в первые дни Генка лежал абсолютно плоско, только ступни стояли торчком, как у мертвых. И еще я плакала, потому что сквозь слезы мне легче было говорить Генке разные слова, какие я бы никогда не сказала в нормальном состоянии.
Слезы свои я стараюсь скрывать от взрослых. Мама не одобряет слез ни по какому поводу, но бабушке я вчера вдруг взяла и рассказала. Сидела у нее в доме на веранде, и само вырвалось:
– Часто теперь реву. Лежу с Маргошкой в обнимку и реву…
Бабушка посмотрела на меня искоса, чуть-чуть пригнув к плечу голову. Потом накрыла своей рукой мою, лежавшую на клеенке:
– Гену жалко?
– Гену, конечно, жалко. И отца.
– Нет, Женечка, они что! Они теперь в безопасности, – сказала бабушка, глядя мне в глаза и еще сквозь мои глаза в какую-то далекую даль. – Не их жаль, ты с детством своим прощаешься, Женечка!.. – И она сжала мою руку, успокаивая.
– С детством? А что, ты считаешь – оно все тянется? Такое длинное?
…И вот наконец я выхожу из дому. Я выхожу слишком рано, и волна теплого воздуха несет меня по Городу. Я почти не касаюсь ногами тротуара, я плыву, и все на меня оглядываются, завидуя.
Ну, ладно, пускай не завидуя, просто так, но оглядываются. Еще бы им не оглядываться: я знаю, какое у меня лицо. Губы мои раздвигает улыбка, а глаза блестят так, что я сама как будто вижу их блеск. А почему бы и не видеть, если он ложится на всех людей, на все предметы, которые попадаются мне навстречу. И наша до» вольно обшарпанная балюстрада кажется мне роскошно сияющей, а собака, остановившаяся возле зеленой скамейки, определенно улыбается мне. Скамейка также хороша, и даже урна возле нее прекрасна.
Я иду, а внутри меня все гудит и бьется. Натянуто, как барабан, начищено, как медный оркестр, и поднимает меня над землей мое ликование…
Я иду к Генке на свидание опять на больничный пустырь, через весь город. Я понимаю: немного странно волноваться перед свиданием с тем самым Генкой, который у школьных ворот бросался ко мне под защиту: «Женя, что я у тебя спрошу». Но я все равно волнуюсь, будто спешу к таинственному и малознакомому.
Я вышла из дому очень рано и нарочно обхожу особенно любимые места нашего Города. На Гору, правда, не поднимаюсь, но долго смотрю на Обелиск, на совершенно невидимое, но горящее у подножья его пламя Вечного огня. Потом пересекаю спуск, выхожу к розовому, сто лет знакомому зданию третьей школы, приближаясь к морю. Оно уже угадывается, запах его тихонечко веселит и печалит сердце.
Я уже дохожу почти до того места, где когда-то, после факельного шествия, стояла с отцом, прислушиваясь, как волна с тихим шуршанием укладывает лесок поплотнее. Я уже вижу такую волну, но одновременно вижу Пельменя. Он выходит из здания со множеством казенных вывесок, говорящих о том, что в этом доме ученые занимаются рыбой. Вид у Пельменя довольный, а заметив меня, он вообще расцветает:
– Привет, Евгения! Привет, милая! Был у товарища Сабурова Г. И. Поймал новость!
Его новость вот сейчас, сию минуту окажется неприятностью для меня. Иначе какой смысл сообщать о ней с таким торжеством? И вообще, при нынешних наших отношениях какой смысл обращаться ко мне, если нечем меня огорчить? Но при чем тут Элькин отец?
Я стою внизу, на тротуаре, Пельмень – на самой верхней ступени лестницы, подрагивая выставленной вперед мускулистой ногой. Коленка вогнута, белый мокасин на литом каблучке прихлопывает по бетону. У Пельменя удобная позиция для взгляда сверху вниз, он ею и пользуется. Компенсация ему нужна – это я понимаю, хоть какая-нибудь компенсация за те мои пощечины. Но какая?
Но он не думает спешить со своей новостью. Зачем? Она ведь может оказаться совсем пустячной и не такой уж новой. Зато мое волнение для него чего-нибудь да стоит.
– Ты слыхала? Или с тобой по нынешним временам уже не делятся?
– Слыхала, – отвечаю я достаточно спокойно. – Почему же не делятся, если с тобой поделились?
– Да я случайно – зашел к Сабурову на работу. Он говорит: наша-то нашлась. Мать за ней поехала. Вот-вот доставят.
– Под конвоем, что ли? – цепляюсь я к последнему слову, понимая, что речь идет о Вике.
– А ты думала? Свобода для вас чревата!