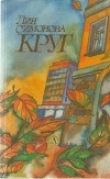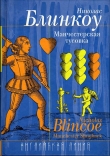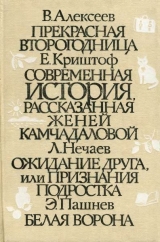
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
А пока я обо всем этом думала, мы сидели в ожидании катера, уже сложив все свое имущество и как бы немного разъединенные тем, что наша разведка окончилась.
День подходил к концу. Розовело и поднималось небо. У самой воды нежно цвел желтый, особый, морской мак. И, глядя на этот тихий мак, на прикорнувшую возле обрыва «Яву», все молчали: наслаждались солнцем, морем, предчувствием лета.
Но среди этого всеобщего оцепенения перед лицом, как говорится, природы не увидела я ни Поливанова, ни Квадрата. «Интересно, куда это они завалились? – подумала я сонно. – Были, были и вдруг их не стало…»
Однако не успела я так подумать, как они вышли из-за Больших Камней, чем-то недовольные, даже как будто поссорившиеся. Правда, Поливанов при этом тихонечко так посвистывал и голова у него была закинута высоко, а Квадрат шел угрюмо, топтал землю.
И с этим видом человека, которому ни к чему все детские игрушки, археологические раскопки и школьные компании, Квадрат подошел к мотоциклу, наступая на ползущие по мелкой гальке листья мака.
– Ну, кто со мной? – крикнул он слишком громко. – Кому в город с ветерком?
Я была уверена, что на его призыв никто не отзовется. Но поднялся Пельмень, подошел к мотоциклу вразвалочку и, взявшись за руль, слегка тряхнул его, как будто проверяя на устойчивость.
– Поедем, что ли? – Он смотрел на Эльвиру прищурясь, и, странное дело, она послушно встала и пошла. Они даже никакими словами не попрощались с нами, только руки подняли совершенно одинаково: «Чао, мол, чао!» – привет и наилучшие пожелания тем, кто не умеет спешить.
Пыль завилась и опала за «Явой», а в остальном все продолжалось в том же духе, что и пять минут тому назад. Солнце висело низко над горизонтом, мы молчали, море тихонько переговаривалось с берегом.
Все продолжалось, но и все как бы стронулось, оказалось не самым прочным, что ли? Никто в классе Пельменя вроде не любил, но даже сестры Чижовы, Оля и Тоня, посмотрели вслед ему и Эльвире почти что с грустью.
Глава XI
Никогда бы не подумала, что меня так заденет отъезд Эльвиры и Мишки Пельменя. Мне, как Генке, на этот раз почему-то было категорически необходимо, чтоб все вместе. Между тем Пельмень и Эльвира не жалкий час какой-то выгадывали, а отделялись. Почему? Мы приезжали на разведку посмотреть, целы ли наши фундаменты, орнаменты, лопаты и закаты, а также маки и мифы. А они? Они тоже явились разведать и увидели сразу: даже по сравнению с совхозом археологический лагерь – не фонтан. От бураков и подсолнухов следовало избавляться (если уж избавляться) другим способом…
Или все заключалось в том, что больше чем за сутки Пельменю так ни разу и не удалось стать в позу Хозяина Жизни? Да еще при этом приходилось терпеть Грома?
Не обидно ли?
Я повела глазами вдоль борта, прислушалась: не вспоминает ли кто-нибудь о тех двоих вслух? Но каждый прокручивал свое.
– Нет, – говорил отец, к моему удивлению, совсем не назидательно, скорее задумчиво. – Нет, Лариса Борисовна, у каждого человека должен быть свой берег…
– Но ведь и поплавать хочется? – У Макса Поливанова был легкий голос. И слова, произнесенные им, держались в воздухе как бы дольше других. – Берег для тех, кто хочет на прикол, а если все впереди?
– А это немного печально, когда у человека все только впереди. Вы не находите? – спросил отец, и я снова подумала: он против Поливанова. – Не находите – должно и за спиной что-то оставаться?
– Ну… – протянула Лариса, как бы удивляясь отцу и одновременно защищая Поливанова, – как весело: за спиной! Оглядываться еще и в вашем возрасте рано, Алексей Васильевич. Я не права? Да? Нет?
– Нет, – сказал отец. – Как не оглядываться, если не хочешь стать сплошным мотоциклистом?..
– А чем так уж плохо – на скоростях?
Поливанов стоял теперь плечом к плечу с Ларисой, и какая-то договоренность почудилась мне между этими двумя любителями скоростей, какое-то тесное взаимопонимание… И еще мне казалось: та грусть, какую мы, в придачу к рюкзакам и спальникам, прихватили, отплывая от Больших Камней, к ним не имела никакого отношения.
А они? Что же они? Поливанов, во всяком случае, сообразил, что ни к чему бросать ему камешки в сторону моего отца.
– А правда, что дочку вы назвали в честь той Ифигении? За которую богиня любимой лани не пожалела? – спросил вдруг Макс совсем другим голосом. – Так по-вашему выходит?
– Ифигении? Назвать дочь в честь жертвы? – удивился отец. – Разумеется, нет. Что за мысль?
Отец ответом своим изо всей силы сдувал с меня романтическую пыльцу, но мне это уже было безразлично. После того что увидела я возле Больших Камней, никакие мысли о Максе, не связанные с Викой, не могли появиться в моей голове. А Макс вообще обо мне не думал. И скорее всего, увязался с нами на раскопки, чтоб подразнить Шполянскую-младшую. Чтоб «Ежик» убрал свои колючки.
Я точно знала теперь, что моя лучшая подружка по-настоящему любит Макса и что любовь приносит ей не только счастье и радость.
А теперь она стояла почти на самом носу катерка, решительно подставляя ветру лицо, будто требовалось остудить щеки перед важным решением. Еще и планшетка на боку у нее была – такой современный плоский портфельчик, удивительно боевой. И брови Вика свела по-серьезному, всех отстраняя этой своей серьезностью…
А может, никто и не собирался к ней подходить?
Сестры Чижовы, например, времени зря не теряли, Денисенко Александра тут же на палубе пыталась начертить для них какие-то острые внешние углы, а они смотрели ей в рот преданными глазами хорошисток.
Громов разговаривал с Оханом, и я услышала обрывок не лишенной интереса фразы:
– …Тем более, говорю, Лариса Борисовна, сейчас. Он идеалист, а к лагерю действительно могут придираться из-за этого несчастного золота, которое «ходит». Только кто докажет, что его нашли у нас, возле Больших Камней?
– А она?
– Говорит – пока цацки эти не на столе у следователя, не доказать, что в другом месте. А Камчадалову ты только вредишь своим упрямством. Пора понять: работа – важнее археологии…
– А ты? – торопил Охан, заглядывая Грому в лицо. – А она?
…А она стояла между Поливановым и моим отцом, вся легкая, красивая, и как ни в чем не бывало, стряхивая со лба веселую золотистую прядку, спрашивала:
– Как же так? Прямо на той лестнице? Которая на Гору? И не могли спасти, нет?
– Реанимации тогда не было, Лариса Борисовна, – объяснял отец, и я поняла: он только что рассказал о смерти Стемпковского, который умер от сердечного приступа, увидев гидрию, злобно и мстительно разбитую копателями за то, что в ней не обнаружилось золота.
– Но возможно, ее удалось бы восстановить, эту гидрию? Вы же склеиваете свои из черепков? Разве нет?
– Больше, чем гидрию, ему было жаль человечество, поверьте мне, Лариса Борисовна.
– Фанат, – утвердил Поливанов.
– Фанатизм некоторый, конечно, в нашем деле нужен, – согласился отец без особого воодушевления. – Но, я полагаю, дело не в фанатизме, а в обиде очень порядочного человека, который понимал: мир сам себя обкрадывает, меняя красоту на звонкую монету.
– А на монету снова стремясь купить красоту? Нет? Я не то сказала?
Не то она сказала, конечно, и у отца появился непосредственный предлог вспомнить наши джинсы, наши батники и тем более вчерашнюю зажигалку.
– На красоту? – хмыкнул он. – Уж не на то ли, что я вчера вышвырнул в море?
Ах, какая детская мелочь заключалась в любезных разговорах отца с Максом и Ларисой! Между тем, если судить по репликам Грома и Охана, ничего особо веселого впереди отца не ждало. С «гуляющим» золотом, как видно, не все еще было ясно. И не из-за него ли кто-то собирался вмешаться в нашу лагерную жизнь, испортить ее или вовсе отменить?
Но чего хотела Лариса от Грома?
Еще неизвестно, до чего бы я дошла в своих предположениях, если бы продолжение их разговора не состоялось в моем присутствии тут же, на катере.
На палубе мы все переместились, смешались группами. Вдруг Вика подошла ко мне с просьбой приютить у нас в доме боевую свою планшетку, потому что по вполне понятным причинам Шполянская-старшая начала охоту за ее дневниками. «С чего это Вика взялась за дневники?» – успела подумать я, принимая из рук в руки плоский портфельчик. Но тут же мысли мои побежали в другую сторону: прямо на нас, громко переговариваясь, шли наша Классная, Володька и Охан. Но сестры Чижовы попались им на пути, Лариса остановилась, приобняв за плечи Тоню и Олю. Стояла так, поглядывая трогательно, как девочка.
– Пойми меня правильно, Громов: мы так боролись за первое место, так неужели в самом конце позволим, чтоб нас затерли? А ведь работа в совхозе чуть не главный показатель, это надо учитывать. Разве я не права? Нет?
– Я пять лет уже здесь, – Гром кивнул в сторону Больших Камней, – а у вас еще сколько кандидатов в бригадиры: вон Андрюша, инициативный человек, Мишка не откажется в совхоз выехать, если начальством. Да и сами справитесь…
Она уронила голову, рассматривая исподлобья черствого Громова. И тут удивительно кстати сестры Чижовы выгнули детские свои коленки, вытянули шейки, и Оля выпалила:
– А раньше Марта Ильинична всегда с нами ездила, даже когда… – она не докончила, залилась краской – очки вспотели.
– Даже? – переспросила Лариса. – Что «даже когда»? А? Девочки?
– Даже в прошлом году на яблоки, – ответил вместо девочек могучий бесстыдник Володька Громов, и так прямо, так ясно смотрел на Ларису. – Когда вы уже были нашей классной.
– Чем же было плохо в прошлом году? – удивилась Лариса Борисовна. – Я так поняла: ты недоволен? Нет? Да?
– Нет, – ответил Громов. – Я доволен. Но в это лето остаюсь при своей лопате и черепках. Я их люблю потому что.
На мой взгляд, он мог бы сказать и так: «Потому что люблю Алексея Васильевича». Однако он сказал о черепках и отвернулся от нас и от спора, стал смотреть на воду…
– «Черепки, черепки»! – передразнила его Лариса. – Любил бы лучше целое. И будущее. Из настоящего надо любить будущее: свое, родителей, класса, общее. Нет? Нет – скажешь? Да!
– Нет! – Громов бросил это, не оборачиваясь, что уже окончательно напоминало вызов. Даже я бы сказала так: призыв к ссоре.
– А не кажется ли вам, любителям старины, – вы нашли удобную форму ухода от общества и его нужд? Нет? Да! И обстоятельства видите только свои? А?
– Я, Лариса Борисовна, вижу его обстоятельства. – Володька уже снова стоял перед ней, скрестив руки на груди и откинув лицо с видом человека, который может разбить все доводы.
– Какие – его? Что лежало две тысячи лет…
Может быть, она забыла, что рядом стою я. Как-никак его дочь?
Что пролежало две тысячи лет, действительно могло подождать и еще год. Хотя не стоит забывать: человечество безумно жаждет находок! Прямо ногами переступает от нетерпения человечество, в руки засматривает.
Гром все стоял напротив Ларисы, глаза его по-прежнему светились серым твердым блеском.
– Пойми меня правильно… – Лариса прижала руки к груди.
Но беда заключалась в том, что любую фразу, которая начинается этими словами, нельзя не только правильно понять, но даже услышать.
– Пойми меня правильно, обстоятельства бывают сильнее нас и требуют…
– А вы напрягитесь, напрягитесь. – Володька показал плечами, как надо напрячься. – Напрягитесь и победите свои обстоятельства.
– Или Марту Ильиничну попросите, – произнес наконец разумное Охан. – Пусть она с нами, если вы не хотите.
– Не могу, Андрюша, – поправила Лариса-Бориса с нажимом.
Мы, конечно, все понимали – «не могу» относится не к совету обратиться за помощью к Марточке. Но все-таки сделать и это наша Классная как будто тоже не соглашалась. И только один Гром, получалось так, мог ее выручить, взяв на себя бригадирство в совхозе.
Грому, однако, нисколько не льстило это доверие.
– Каждого где-то кто-то с чем-то ждет. Каждый силен в свое упираться, а другие – гори синим огнем, – так еще сказал Гром. – А? Нет? Я не прав, Шполянская?
Теперь мне уже казалось: Грому все равно с кем, лишь бы ссориться. Но меня удивило, что Вика как будто растерялась под Володькиным взглядом. Однако не больше мгновения это длилось.
– Где же? Кто? Синим? Огнем? – Вика уже смеялась, вскидывая коротко стриженную темную головку. – На что ты намекаешь, Вовочка? Объясни.
– Да. На что? – Мне показалось – Ларисе хочется рвануть Грома за плечо, повернуть к себе. Но ничего такого она, разумеется, не сделала, только изо всей силы ударила ладонью о поручни. – Если ты меня имеешь в виду, так я еду к очень старым и очень больным людям, Громов. И с твоей стороны…
Гром обернулся лениво, лениво посмотрел Ларисе-Борисе не в лицо, а куда-то выше, в одну точку пустив свой взгляд.
– А не назначить ли нам в бригадиры все-таки Мишку Садко? А? Нет? Ранее не судимого и проходившего под кличкой Пельмень? – спросил он уже совершенно по-хулигански. – Думайте, думайте, тем более ему в характеристике пригодится. А какой же деловой человек не беспокоится насчет характеристики? Дайте, Лариса Борисовна, ему на авторитет поработать…
Что-то излишнее было в выходке Володьки. Ужасное – так даже могли бы сказать моя бабушка или Марта Ильинична, окажись они на катерке рядом с нами. Но вот в чем фокус: ничего подобного при них никогда не происходило и произойти не могло.
Глава XII
О ссоре на катере я думала очень много. Из нее следовало, что Лариса Борисовна отправилась к Большим Камням тоже не просто так, ради ясного дня. Хотела убедиться в деловых качествах Володьки? А может быть, Пельменя? Действительно примеряла его на роль лидера?
Странно, неужели наша Классная не понимала: Пельмень – это не просто прозвище, это та цена, которую мы определили Мишке Садко, изо всех сил тянувшемуся на роль Хозяина Жизни? И еще, неужели Лариса не помнила (не хотела помнить?), при каких обстоятельствах Мишка кличку свою получил? А обстоятельства были такие. Мы тогда только что вернулись из совхоза, вывалились из автобуса посреди города вместе со своими чемоданами и рюкзаками. И были счастливы. Совхоз, где мы работали, назывался «Приморским», но моря мы там не видели. А сейчас оно плескалось рядом, перескочи через бордюрчик набережной и погладь ладонью. И всем хотелось это сделать.
– А я домой, – сказал Мишка. – «Тачку» поймаю и до хаты. Кого подбросить?
А как же! В совхозе не очень-то удавалось, а тут ему прямо в руки шло продемонстрировать свои возможности да еще попутно облагодетельствовать. А вообще-то в классе у нас на такси никто не ездил, даже Эльвира. Вот мы все во главе с нашей Классной Дамой стояли и смотрели, как он ловит «тачку», резко выбрасывая руку и вскрикивая:
– Шеф, до Второй Слободской? А, шеф?
Но пока что «шефы» мчались мимо. Возможно, их пугало наше стадо и рюкзаки.
– Я на угол перемещусь. Кто со мной? – спросил Мишка и посмотрел на Вику. Хотя именно на Вику смотреть ему и не стоило.
Вика стояла, легонечко притоптывая ногой, как будто не перехватила Мишкиного взгляда. И тут выдвинулась Тоня Чижова:
– Мы поедем. Можно, Лариса Борисовна? Можно, Миша?
Интересно, от чего больше взвился Мишка? От Викиного молчания? Или от того, что с вопросом своим Тоня обратилась не к нему в первую очередь?
Во всяком случае, он обернулся к Тоне, придвинулся к ней близко, надавив пальцем на дужку ее очков:
– Ну и похожа ты на лягушку-путешественницу, Чижова! Одно лицо. Из чего только такие лягушечки получаются?
Чижова стояла молчала, и мы стояли молчали, оцепенев от неожиданности. Но тут выступила вперед Вика:
– А из чего делаются пельмени? – спросила она так, что мы все увидели – никакой наш Мишка Садко не Хозяин, а Пельмень. Из слегка расползающегося теста.
Так он и остался Пельменем, уехав тогда на такси. А мы о нем и не вспоминали.
Мы были счастливы свиданием с Городом. Вернулись в Город, и все оказалось на своих местах. Так же стояла Гора, и небо над ней было чуть розоватым от Вечного огня. Так же белели опорные стены, кругами обходившие Гору. Так же светились направо от нас витрины магазинов на главных улицах, и ту же музыку крутили в ресторане, хотя, казалось, какое нам до нее дело? У некоторых были диски поновее. И вывеска ресторана была та же: «Бригантина», только каштаны начинали опадать, ржавые, сухие листья, скребясь, прибивались к бордюрчику тротуара.
Так же влево от Города паслись курганы, их еще предстояло один за другим (на сто лет хватит) раскапывать моему отцу. Так же далеко справа ухало и стонало на Комбинате. Там спекали в «пирог» нашу руду в цехе, где работал отец Громова. Звуки Комбината легко и даже красиво долетали к нам по воде…
Но мы после совхоза приехали в тот же Город другими. Вместе с яблоками мы привезли из совхоза заслуженное чувство победы. А что? Мы ведь и действительно отхватили первое место в соревновании. Но не в этом заключалось главное, а в том, что с нами, как некий залог везения, была наша совершенно Классная Дама.
…А нам и вправду везло. Везло, везло, да вдруг застопорилось. Так я не только о себе могла сказать: Гром всех злил, Генка был несчастлив, Вика – в тревоге. Чижовы с Шунечкой – в зубрежке…
Что же касается меня, то я, какой уж вечер подряд, лежу возле мамы на тахте с книжкой в руке. И, так же как мама, делаю вид, что читаю. А на самом деле думаю о том, что мы с мамой вдруг оказались никому не нужны. Раньше мы нужны были отцу и по совместительству – всем. А теперь – никому.
Даже Вика от меня как-то отделилась. Поливанова я не видела со дня поездки на раскопки, Громов дружил с Шунечкой, которой теперь не к кому было приходить в наш дом. Если кто и мог заглянуть к нам, так это Генка. В поисках утешения. Но как хотите, нечто унизительное заключалось в том, как мы – потерпевшие, оставленные – сбивались в кучу.
Я лежала на нашей широченной тахте, гладила кошку Маргошку, смотрела в дальний угол и думала вот о чем. Совсем недавно в одной полунаучной книге, ходившей по классу, я прочла, что вроде бы каждый человек играет роль. Берет на себя роль и играет. У одного она почти совпадает с сущностью. У другого образуются большие «ножницы» между тем, что человек из себя представляет и что он же представляет.
Эта фраза мне самой очень понравилась, как только сложилась в голове еще не произнесенная. А мысль требовала проверки, вот я и стала отгадывать роли (или, как в этой книге еще говорилось, маски) всех подряд. Какую роль взяла, например, на себя Вика? И приближается ли она к своей роли как к идеалу? Не может быть, чтоб широта, бесстрашие, размах моей мамы были признаками ее роли, а не сущности! Громов – кто он был для нас? Неформальный лидер? Впереди идущий или нигилист восьмидесятых – как сказала о нем бабушка?
А вот у Генки роли нет, он ее не придумал. Не надел хоть полумасочку, чтоб не выглядеть таким беззащитным дурачком в истории с Викой, да и вообще в любой истории, в которую попадал. Зачем, например, было признаваться, что родители любят его гораздо меньше шмоток?
– …Ма, – сказала я в десятый раз за вечер. – Ма, ну что тебе стоит?
– А ты липучка-приставучка, Евгения. Вот ты кто.
– Ма, ты пойми, тут не обязательно дискредитация. Вон бабушка говорила: эта Попова, ну, героиня из дедушкиного десанта, она взяла на себя роль человека…
– Ну, ну, я тебя слушаю, – с неожиданным интересом мама подтолкнула меня под бок. – Ну, Женя, продолжай. Почему ты замолчала?
Она приподнялась на локте, заглядывая мне в лицо, сдувая волосы со лба. А я молчала, потому что в вечерней домашней тишине, когда даже кошка не мурлычет и телевизор выключен, представила себе десантную ночь. Вернее, десантные ночи и дни, все сорок. И девушку, молодую женщину, которая больше месяца играла роль человека, который просто не знает, не понимает, что такое страх. Пока ее не убили.
– Ты знаешь, – сказала я маме, – когда выносили раненых на берег – вдруг с Большой земли придут байды, – она при обстреле ложилась между носилками. Чтоб им, беспомощным, не было так страшно: «Галка с нами – не пропадем!» Ты знаешь об этом?
– Конечно, знаю, глупыш. И ты думаешь, такое можно сыграть? Попробуй.
Я не стала возражать, мне надо было самой разобраться. В комнате по-прежнему было тихо, только наша трехцветная кошка Маргошка поднялась и замурчала вопросительно. Кошка была безмятежная, вальяжная, глупая…
– Но ведь если страшно, а играют в бесстрашие, это еще ценнее? – спросила я у мамы наконец.
– Ну, ты меня совсем заморочишь со своей манерой копаться, Евгения.
– Ма, а ты вправду смелая или как?
Мама опять приподнялась, заглядывая мне в лицо. Наверное, подумала, что я каким-то образом сравниваю ее профессиональное бесстрашие с бесстрашием Галины Поповой. Но я не сравнивала, по крайней мере, сейчас.
Я занималась совсем другим. Я накладывала черты лица, рисунок бровей, глаз, рта нашей Классной Дамы Ларисы Борисовны на расплывчатую фотографию в музее. Сходилось. Хотя фотография в музее была ужасно не точная. Видно, ничего, кроме карточки в солдатской книжке, от Галины Поповой не осталось…
И еще легенда осталась. «Хлопцы! Здесь нет мин! – будто крикнула она и даже ногой притопнула, чтоб убедить бегущих следом. – За мной, хлопцы!» Она крикнула по существу то же самое, что мой дед. И сделала то же самое. Ее лицо с сияющими, не вместившимися под шапкой волосами все еще смотрело на меня сквозь брызги волн. Брызги, как слезы, стекали по ее щекам. Женщина, с которой не может случиться ничего плохого – вот что она играла там под обстрелом на Огненной Косе! В нее поверили с первых шагов атаки, и она уже не могла отказаться…
А какую роль в этом десанте играл мой дед? И какую роль взяла на себя моя бабушка, оставшаяся двадцатилетней вдовой? Хотела казаться сильнее, устойчивее, чем была на самом деле? Хотела стать еще и для других опорой?
Я повернулась на тахте так, чтоб видеть мамино лицо. Ее спокойное, немного усталое лицо, с глазами, глядящими поверх книги, не в потолок, а примерно на правую верхнюю полку стенки, уставленную кофейным сервизом из ФРГ.
А не станет ли теперь мама играть роль женщины, которая не боится одиночества? Потому что вон за тем углом, а не за тем, так за следующим ее ожидает интересная жизнь, и ей это точно известно. И кроме того, вполне можно обойтись, имея такую работу, такую дочь, такую квартиру с чешской неполированной стенкой…
И дальше все мысли пошли в том же роде. Стыдные, тяжелые мысли, ими не поделишься ни с одним человеком на земле. Если собрать все их воедино и вывести среднее арифметическое, получится: «Все люди хотят выглядеть лучше». – «Но некоторые идут на смерть, утверждая свой идеал. Нет разве, девочка?» – возразил мне из темноты голос, которому я совсем недавно верила.
«А другие пытаются присвоить себе их черты, пользуясь чисто внешним сходством».
«Еще месяц назад было бы тебе неприятно, если бы ты сообразила, что у твоей Классной Дамы и Галины одно лицо? Ну, вот видишь, значит, ты не объективна». Приходилось соглашаться, хоть и безо всякого энтузиазма.
– …Мам, ну что тебе стоит?
– Только без бумажек. Устно.
– С бумажками интереснее. Гарантия есть.
– Три. Только трех определим и – спать.
Что ж, это, в конце концов, походило на игру. Есть такие игры. «Мнения» – например. Если бы в комнате стояла доска, я бы написала на ней: Лариса, Громов, Шполянская-младшая. А так я только произнесла эти имена, но широко, с росчерком и, вскочив с тахты, сунула в руки маме кусок бумаги и карандаш.
Сама я устроилась у письменного стола. Чего мне больше хотелось? Вычислить какую-то объективную истину? Высказать собственное мнение? Или отгадать, что напишет мама?
– Видишь ли, Женя, это все гораздо сложнее, чем ты представляешь, – сказала между тем мама, занося карандаш над бумагой, но все еще ни буквы не решаясь написать. – Жизнь не знает точных рамок и однозначных решений.
– Крой двузначными! – бодро разрешила я.
Мы с мамой обе долго сидели над чистыми листками, и обе разом принялись писать. А когда написали, можно было сравнить. По первому пункту у мамы стояло: «Деловая женщина. Суперменша». А у меня: «Со мной не может случиться ничего плохого». О Громе, вспоминая нашу поездку, я выдала: «Пройду первым!» У мамы шло по-другому: «Я доволен своим ростом». О Вике: «Солнышко» – это мама. А я: «Со мной весело». Я так написала, но в то же время могла дать честное слово: это не маска и не роль. Просто так Вика чувствует себя в жизни. Вика родилась для радости, как другой рождается для исторического подвига, а третий – для самоотверженности.
Объясню. Например, из долга, из патриотизма многие во время войны ходили по госпиталям. И там мыли полы, кормили с ложечки лежачих. И чувствовали себя нужными и даже важными людьми месяц, полгода, год. Но я уверена: залети на миг в любую тяжелую палату Вика, ее бы вспоминали дольше, чем моющих Чижовых.
«Как лучик», – говорили бы о ней. А что нам в трудный момент (им во всякий момент) нужно больше лучика?
И Генка влюбился в нее не зря. Он тоже понял, что Вика – солнышко. Но почему папа с бабушкой утверждают: «Изумительная эгоистка», «Умеет только брать»? Разве отдавать свои лучи – это мало? Скажете, лучи отдаются бессознательно и без ущерба для себя? То есть с одной стороны как бы отдаются, с другой – как бы все остаются при себе…
Ну что ж, считающим так я советую: попробуйте-ка стать лучезарными. Ну, как? Напрягитесь, еще напрягитесь! Улыбнитесь, излучайте. Не вышло? То-то!
Спросите лучше у Генки, каково оказаться в темноте…
– Мама, – стала я усиленно тереться лбом и носом о мамино плечо. – Ма, ты все равно не спишь, не читаешь, обсудим еще одного?
– Не хочу, – мама отмахнулась от меня даже с раздражением. – Хочу подумать о своей жизни.
– Твоя жизнь, моя жизнь – разве не одно целое?
– Ну и демагог же ты, Женечка. Кого же будем препарировать, упрямая дочь?
– Генку Длинного.
– Кого-кого? Неужели представляет интерес?
– Мы ж его не просто будем обсуждать, не как сплетницы. А с научной точки зрения. Какова взятая на себя роль и какова сущность субъекта, ставшего объектом нашего внимания, – сказала я, умильно заглядывая в лицо своей умной-благоразумной маме.
– Так уж и ставшего! – Мама сбросила мою руку, щекотавшую ей кончик длинной брови.
– Ставшего, ставшего, – подтвердила я, прижимая мамину голову к подушке.
– Но он же абсолютный сосуд, что нальешь, то и понесет, – засмеялась мама. – До чего же ты наивна, Женя. Всех тебе хочется дорисовывать до идеала.
– И плохое можно в Генку налить? – спросила я, представляя совершенно прозрачную вазу из какого-то особого стекла, вечно стоящую у бабушки на веранде.
– Давай спать, – сказала мама, пытаясь вытянуть из-под меня плед и вообще столкнуть меня с тахты.
– А бабушка любит, чтоб стебли и листья видны! – кричала я, сопротивляясь. – И ставит чаще всего траву.
– Что за бред? – Мама докатила меня до самого края, но остановилась, прислушиваясь к «бреду».
– Мы же договорились про роль или маску! – кричала я, сопротивляясь.
– Нет у него роли! – кричала мама. – Роль хвостика, тени. Слава богу, от Вики отклеился. Ирина рада, скажу я тебе, да и вообще – рано…
Я вспоминала, как сегодня утром увидела: когда Генка встретился взглядом с Викой, мелкие-мелкие капельки пота осели у него на лбу, ближе к волосам, и Генка принялся облизывать губы, будто сейчас, сию минуту ему начнут читать смертный приговор.
Но Вику я никак не собиралась винить: какое же могло быть сравнение – Генка и Поливанов! И вообще давно известно, еще с уроков Марты Ильиничны в восьмом: «Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона!» Заметьте, Пушкин говорит это не осуждая: стихия! Но Марта Ильинична, насколько я могу судить, имела другой взгляд. И всячески вбивала его нам в головы: долг, долг, долг. И материал для этого у нее тогда, надо сказать, был отличный: Маша Миронова, Татьяна Ларина – какие образцы!
Не знаю, захочется ли кому-нибудь из нас так уж следовать подобным образцам. Но одно я знаю точно: неудачу нечего выставлять напоказ! Хотя бы потому, что всегда найдется Пельмень, который растянет рот, хлопнет тебя по плечу, как хлопнул сегодня Генку: «Сам виноват! Таких девочек не за ручку водят. Таких девочек…» – Пельмень нагнулся к Генке, зашептал что-то деловито сочувствующее. Но у Генки лицо от его утешений стало как у больного.
– Мама! – окликнула я, тихонько принимаясь за прежнее. – Мамочка, моя умная-благоразумная, единственная! А какую бы роль ты выбрала для меня, если бы так уж нельзя было обойтись без роли? То есть без маски?