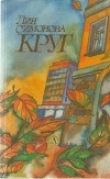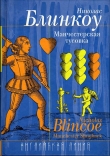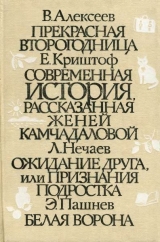
Текст книги "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Глава XIII
Когда тебе очень плохо и все валится из рук, есть один способ прогнать тоску: вспоминать хорошие денечки. Что я и делала очень охотно. Память все время выносила меня к яблочным временам. И надо сказать, до самого декабря в классе еще пахло теми яблоками. Время от времени кто-нибудь приносил парочку, и всем казалось: это уже последние. Но потом Громов, например, вспоминал, что у них на балконе в дальнем углу должны были сохраниться. А еще через неделю Шунечка приносила больше десятка.
Мы ели их, не деля на части, откусывали от общего куска!
Увидели б это наши родители! Тем более что по городу шастал очередной грипп. Но мы согласны были только так: от общего. Бывает «трубка мира», бывает, оказывается, «яблоко мира», хотя больше известно – «яблоко раздора».
И Лариса наша тоже приносила яблоки и тоже откусывала от общего. Правда, мы заставляли ее сделать это первой и потом уже пустить по кругу. К тому времени рубашечку свою с погончиками, в которой работала на яблоках, она сменила на черный бархатный костюм и была в нем такая красивая! А волосы ее в те дни поздней осени стали светиться еще ярче и были такие солнечные…
А между тем уже шел первый снег, и мы с Викой шлепали в школу по сахарной его корочке, под которой была вода. Шлепали глупые, радостные, ничего еще не зная ни о Поливанове, ни о «гуляющем» и таком опасном золоте, ни вообще о том, куда приведут страсти и события будущей весны.
Помню, я поймала тогда снежинку на рукав и поднесла к Викиному носу:
– Смотри, какая красивая!
Снежинка лежала спокойно и одиноко. Снег шел, я очень хорошо это помню, редкий и каждую минуту грозил совсем перестать.
– Ну, прелесть! – Вика еще раз потрогала пальцем крохотное пятнышко, оставшееся от снежинки. – Совсем нейлоновая. Только непрочная.
Вика засмеялась неизвестно чему. Может быть, собственному сравнению?
И мы шли по городу, подставляя снежинкам лица. Они щекотно скользили по щекам, таяли на губах. Вдруг Вика предложила:
– Слушай, давай на базар? Купим яблок, а завтра скажем – те. А?
На базаре яблоки лежали небольшими кучками, и мы пошли вдоль ряда, выбирая похожие. А я еще придумала спрашивать: из какого хозяйства? Встреться нам кто-нибудь из «Приморского», получилось бы здорово: мы принесли бы в класс что-то вроде привета от тех людей, которые хоть нас в глаза не видели, но оказались связанными с нами полуродственной веревочкой. Ведь можно и так сказать: из-за них мы всю осень были счастливы особым счастьем объединения.
– Ну, – сказала тетка в пальто с норкой, – или берете, или идете. Рассматривать меня нечего, из личного я хозяйства, из личного. Из какого еще?
Другая спросила:
– Ищете кого?
– Из «Приморского» знакомых, – сказала я. – Не встречали?
– Домой, что ли, яблок обещали завезти? Так это и мы можем. Только договориться.
– Нет, там сорт особый: «дружба народов» – не слыхали? – Вика столкнула к затылку ушанку и подставила теткам сразу все свое улыбающееся лицо.
И случилось то, что всегда случалось: тетки тоже заулыбались. Причем видно стало, как им надоело переругиваться, сводя губы, как рады они растянуть рты по-доброму.
– «Приморский», это который? Где Пименов, что ли?
– «Приморский» на выставки ездит, а мы – так. Но саженцы, между прочим, от них брали. «Джонатан» называется.
Мы взяли яблоки у тетки с «джонатаном», а когда ссыпали их в Викин портфель, стоящая сбоку старуха спросила:
– А почему у меня не взяли? У меня слаще будут и крупнее.
Но нам нужна была особая сладость, и мы ее получили сполна, когда принесли яблоки в класс и сказали, что это, видно, уже и в самом деле последние, но оттуда. Из «Приморского».
Утро было раннее, и в классе еще горел свет, разгоняя декабрьские сумерки. Мы все собрались тогда на первых партах, возле учительского столика, и хрустели молча. На каждую, густо заселенную парту приходилось по яблоку. Мы на этот раз объединились с Громовым и Шурой Денисенко, а Классной Даме выделили самое румяное.
– А где вы их храните? – спросила Лариса. – Неужели на балконе?
– На балконе. – Вика вгрызалась в яблоко и объясняла: – Знаете, берете на почте большой бумажный мешок или в магазине картонный ящик и от снега – клеенкой. И – забываете. А потом в один прекрасный день наоборот – вспоминаете. И тут прямо в нос, пардон, в душу вам бьет ни с чем не сравнимый аромат «дружбы народов».
– «Джонатана», – поправила Эльвира.
– «Дружба народов», – назидательно повторила Вика, оглядывая совсем обглоданный огрызок, который должен был перейти к Громову. – «Дружба народов», девушка, сорт, который вы потребляете вот уже третий месяц, не догадываясь об этом.
– Догадываясь, догадываясь, – перебил ее Пельмень и надвинулся грудью: – Почем брала?
– То есть? – Вика прищурила на него глаза.
– А то и есть, что я вашу романтику базарную сколько наблюдаю, никак не пойму: ну, Денису, Грому – ладно, а тебе зачем врать?
– Она ведь хотела, мы все хотели…
Пельмень даже не оглянулся на Денисенко, а я рот раскрыла: значит, не одни мы с Викой играли в эти дед-морозовские игры?
– Тебе зачем? – не унимался Пельмень, как будто и в самом деле хотел понять что-то важное.
– Для аромата, – ответила Вика и скучно вышла из круга.
– Нет, все-таки нельзя так прямо! Нельзя быть таким прагматистом, Садко. Нет!
Наша Классная оглядывала нас, ища поддержки. Но и Марта Ильинична тоже, между прочим, не нашлась, когда Пельмень к ней адресовался с вопросом о романтике.
– В жизни должно быть очарование, – начала она бодро, но споткнулась и как-то застеснялась. Потом еще сказала: – Даже у Пушкина есть: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Правда, сохранил ли он это убеждение до конца своих дней? Вот в чем вопрос.
– Но, Марта Ильинична! Нам до конца еще столько расти! – возопила Шунечка. – У нас же вообще еще ничего не было, кроме золотого детства! Зачем его отнимать?
– У тебя отнимешь!
Ничего особенно смешного не было в словах Мишки Садко, но мы грохнули.
Нам просто необходима была разрядка. И мы любили друг друга и этим смехом заявляли всем вокруг о своей любви. И еще я думаю: детство наше в декабре прошлого года действительно продолжалось. А теперь что ж? Юность сразу вот так и настала? Или взрослыми мы стали из-за того, что Вика полюбила Поливанова, от нас ушел отец, и, кроме того, я потеряла верные шансы на медаль?
…Все это в который раз я старалась понять, сидя в автобусе. Автобус же, не торопясь, трусил в дальние страны, то есть в поселок, где жила моя бабушка.
– Женя, где ты? – крикнула я, входя на пустую и темную веранду бабушкиного дома. – Женя, ау!
– Здесь я, в беседке, стою на лестнице, ввинчиваю лампочку.
Из сказанного ясно, что Женей, Евгенией, меня назвали действительно отнюдь не в честь несчастной мифической Ифигении, а в честь моей бабушки. И возможно, поэтому между нами была такая игра, будто мы в чем-то ровня. Будто я могу понять все, что бабушка. Будто бабушка может сделать все, что я. И наоборот.
В беседке, как я и предполагала, бабушка стояла на самом верху стремянки, там, где уже держаться не за что, и наверняка боялась… Ну, не случись меня, она бы как-нибудь уж слезла. Но старые – как малыши. Появилась я, и уже нужна рука помощи.
Я протянула руку, вскочив на стол и оттуда на первую ветку ореха.
Тут я рассмотрела, что на стремянку бабушка влезла в красном платье до полу. Платье это было мне хорошо известно и надевалось не обязательно по торжественным случаям (их было мало), чаще для поднятия настроения.
– Будем чай пить? – спросила бабушка, когда мы вернулись на веранду. «И кого-нибудь ждать?» – спросила я саму себя.

«Кто-нибудь» мог быть мой отец, могла Марта Ильинична. «Кем-нибудь» могла оказаться и я собственной персоной, потому что бабушка и мне любила показывать, как надо держаться и какой она молодец.
– Скажи, – спросила я, как только мы уселись за круглый, большой стол на веранде. – Скажи мне, ты когда-нибудь тайком читала мои записки?
– Никогда не читала.
– А мама?
– А ты не находишь – об этом тактичнее спросить ее?
– Нахожу. Спрошу в свое время. А соответствует ли это высоким нравственным принципам?
– А что, собственно, случилось в доме? – несколько уклонилась бабушка.
– Вика мне доверила свои дневники. У нее в доме – обыск.
Тут бабушка вздрогнула и уставилась на меня.
– Обыск? – Бабушка смотрела на меня, вытаращив глаза, не в силах перевести дыхания. – Обыск?
– Ну да! Викина мама все вверх дном перерыла – ищет. И дневники в опасности.
Бабушка швырнула в меня тряпкой, которой только что вытирала клеенку, сказала слабым голосом:
– А если бы я заикой осталась?
– Так можно я у тебя перепрячу Викины секреты? Есть гарантия?
– Гарантия есть. Но я думаю, ты зря не доверяешь: нужны твоей маме Викины тайны! Да и какие там они могут быть?
– Моей маме нужны мои секреты. Но ты, я считаю, не полезешь?
– Правильно считаешь, Женя. Правильно. А где они сейчас, эти ваши секреты? Куда ты их спрятала?
Ох, куда только я не перепрятывала Викину боевую планшетку, в которой, тесно прижавшись друг к другу, лежало две общих толстенных тетради, завернутых в целлофан. Я давно заметила: даже письмо в одну страничку спрятать не просто и при том, что имеешь собственную комнату. Только подойдешь к «стенке», только возьмешь книгу, как начинает казаться: а завтра, после тяжелого рабочего дня, эту же книгу захочется перечитать маме или отцу.
И опасность тебя вроде подстерегает, прямо за плечами стоит, даже морозит немножко. И сам ты вроде преступника – скрываешь, прячешь улики. А они вовсе не улики, но слова, предназначенные для тебя одной.
– Так куда ты их спрятала?
– Сначала мы их закинули на антресоли в стенном шкафу. Сразу, как вернулись с Больших Камней. Представляешь, Вика и на раскопки их с собой таскала, во дела! А теперь держу за шкафом в планшетке. Вика просила не вынимать.
– А ты просто поставь планшетку возле стола. Между столом и тахтой и скажи: Викина.
– Я к тебе лучше. Можно?
– Можно.
– Ну и прекрасно. О деле договорились, стало быть, приступим к главному: к разговорам о том, что у нас происходит в школе. И что с нами происходит не только в школе.
А что с нами происходило? Ничего особенного не происходило, но моя бабушка, тридцать лет проработавшая в школе, знавшая моих товарищей чуть не с пеленок, с интересом слушала и о самом обыкновенном. А тут все-таки не сплошь трудовые будни шли, кое-что перепадало интересное и не совсем понятное, что стоило обсудить с бабушкой. Например, она еще ничего не знала о том, как Лариса уговаривала Громова смотреть только вперед, побросав любимые черепки. И я принялась рассказывать.
– Черепки? – переспросила бабушка задумчиво. – Черепки… Ну что ж, Лариса совершенно права: вы поедете в совхоз все до одного человека, потому что есть дела насущные и есть терпящие…
– По-твоему, все, что делает отец… – начала я закипать, но вдруг остыла. Во-первых, бабушка знала о наших делах куда больше, чем я думала. А во-вторых, с кем спорить? Моя бабушка вела в школе ботанику, стало быть, для нее все, что росло, выкидывало колосья, давало плоды, было на первом месте… Остальное могло подождать, а листья, цветы, зерна не могли, они, послушать бабушку, чуть не кричали от нетерпения…
Сообразив, что спорить бесполезно, я принялась рассматривать потолок веранды: предстояла длинная лекция о чувстве долга. Между тем я ведь от совхоза и не отказывалась. Генкино «я люблю, чтоб все вместе» и во мне сидело.
Но бабушка молчала.
– Ба! – позвала я тогда хитрым и ласковым голосом. – Это с кем же Лариса своими трудностями делилась? С тобой или с Мартой Ильиничной?
– С твоим отцом, – ответила бабушка быстро и опять более хмуро, чем требовали обстоятельства.
– С отцом? – Я почувствовала: голос у меня глупый, взгляд – глупый, и вообще вся я выгляжу не лучше Тони Чижовой на уроке математики у доски.
События поворачивались по-новому, и как-то по-новому в этом свете выглядела наша Классная Дама. Однако мне все еще не хотелось сдаваться, и я спросила:
– Она что, не понимает – Гром не бросит отца в такую минуту?
– Какая минута? Какая минута? – Бабушка вскинулась, будто не она первая когда-то сказала о тучах, сгущающихся над головой отца. Однако взрослые часто бывают непоследовательны. – Минута самая обыкновенная, как раз осот из земли лезет. Так что Громову нечего было отбояриваться от общей работы.
– Во-первых, у тебя неточная информация: он не в совхоз не хочет, а хочет в лагерь…
– Лагеря не будет до вашего возвращения! И мое мнение – пусть Володька не изображает из себя единственного защитника. Найдутся у отца и другие, которые… – Бабушка не закончила фразы: лицо у нее стало как-то таинственно и хорошо меняться, будто бабушка прислушивалась к чему-то дальнему.
Мне потребовалось немного времени, чтоб сообразить: бабушка прислушивается всего-навсего к собачьему лаю, который долетал сначала только с конца поселка, но постепенно приближался к нам.
Кто-то шел по улице свой, здешний. В честь кого-то лаяли собаки, передавая друг другу радостное известие: идет человек, который с ними разговаривает.
Шел мой отец. Я была рада увидеть отца. Возможно, на этот раз я приехала к бабушке ради встречи с ним. Но сама не знаю почему, я вдруг встала и ушла с веранды в темную комнату.
Бабушка же вышла навстречу отцу и, раньше чем он вошел в дверь, спросила:
– Застал?
– Застал, застал. В любой момент готов был назад повернуть, ноги не несли, а застал.
– Сказал? – В бабушкином голосе было то же самое, что и в мамином, когда она говорила с отцом: желание до конца убедиться, что отец не свернул, как он иногда сворачивал в последнюю минуту.
– Сказал! – Отец стал умываться, шумно отфыркиваясь, пуская воду брызжущей струей. Наверное, так ему было легче. – Сказал! А что услышал? Что я должен был услышать, по-твоему?
Еще не выходя на веранду, я знала: бабушка стоит над ним с полотенцем в руках, точно так же, как много раз она стояла надо мной.
Все так и было. Послышались мои шаги, отец поднял к бабушке мокрое лицо, но не осекся, не замолчал. А как будто мое появление ничего не значило, спросил, вытираясь:
– Что она должна была мне ответить? Что визит мой и вопросы мои унизительны! Что она, слава богу, сама знает, как справиться в подобной ситуации.
Интересно, кто и по какому поводу разговаривал с моим отцом так? Кто?
– О, боже, старый дурак плетется объясняться! Да она меня за дверь едва не выставила! О каком взаимопонимании речь?
Да, о каком? Я оглянулась на бабушку: в этот момент, мне казалось, я отчетливо понимала, о чем идет разговор между бабушкой и отцом. Все-таки о лагере, о Ларисе-Борисе и Громе, думала я. Если бы я знала тогда, как я ошибалась от начала до конца!
Отец сидел, откинувшись на спинку стула, и лицо у него было маленькое и серое от усталости. Моему отцу очень не идет, когда у него усталое лицо.
– Женька в доме, – сказал отец, гладя себя по лицу моей ладошкой. – Маленький ребенок в доме, какая радость!
Глаз он так и не открывал, а снова и снова гладил себя по серым щекам, по серому лбу.
– Ребенок, длинный, глупый…
Тихо было на веранде, только в беседке сам себя подбадривал сверчок. Это был наш постоянный, очень старательный сверчок Жора.
– Женя, не рассказывала бабушке о наших чудесах? – спросил отец, тоже прислушиваясь к сверчку. – О наших находках и наших потерях?
– А какие, ты считаешь, были потери? – спросила я прокурорским голосом.
– О, совсем незначительные: лодыжка Громова! Зато находки – сплошные бананы и кокосы! – И опять в голосе отца прозвучала недоброжелательность. – Прекрасный ковбой, интригующий изысканное общество! Все, как в лучших домах Луизианы.
Отец фыркнул почти весело. А я съязвила:
– Тебе бы самому найти что-нибудь, хотя бы черепки от гидрии. А? Нет? Да! Громов вон на катере публично объяснялся в любви к черепкам. Ты не слышал?
– Представь, нет! – Отец опять опустил пепельные, какие-то даже больные веки и так, с закрытыми глазами, жевал. – Не удалось как-то, представь…
Многое же ему не удавалось в последнее время! Вдруг не удастся и наш лагерь отстоять, подумала я. И еще я думала: моей ладошкой он гладит себя по щеке, как бы утешаясь. А может быть, потому, что чувствует за собой вину?
Когда расходятся родители, будущее свое пытаешься представить по обрывкам фраз, по недомолвкам, по серой усталости или, наоборот, по злому оживлению их лиц.
Дорогие родители, вам кажется, вы ссоритесь между собой совершенно корректно, а вы гуляете, как сорвавшийся с прикола катер. Вас мотает, и вы разбиваете все, что попадается вам по пути. Причал? Давай в щепки причал! Байда? Давай байду! Живой человек? Налетай на живого человека! Правда, человек может нырнуть, спасаясь от острого бессмысленного носа…
Что я и делаю вот уже скоро полгода. Я то ныряю в свою школьную жизнь, то выныриваю в семейную. Где никто не пьет, никто никого не бьет, где просто перестало быть так, а сделалось эдак.
С такими мыслями я лежала в темноте и тишине, которую старательно перепиливал сверчок Жора. Лежала в своей комнате (отец переместился на веранду) и вспоминала… Я вспоминала, как мне всегда было хорошо в бабушкином доме, в котором раньше не водилось от меня тайн. А бабушкин немного шершавый, убеждающий голос вселял в меня ощущение безмятежного счастья. И еще того, что я защищена, защищена, защищена!
«Но как разом оборвалось и дома и в школе! – думала я. – Как быстро кончились те времена!» И все пыталась снова поднырнуть под их полог, примоститься в прошлом, чтоб хоть на минуту ощутить его былую радость. А радость заключалась в общей любви всех ко всем, которая и постоянно (как мне казалось теперь) присутствовала в моей жизни, а иногда еще с особой силой вроде циклона или сладкой эпидемии охватывала нашу семью, наш класс, наш археологический лагерь.
Глава XIV
А следующее утро началось с дождя. И что хуже всего, он не шел, не падал с неба быстро и весело, а мелкими каплями висел в воздухе. Я смотрела за окно и думала: на Откос наши сегодня, конечно, не пойдут, к Генке тоже, поскольку его Полезные Ископаемые еще на берегу. Соберемся, вернее всего, у Вики и примемся танцевать в промежутке между последним взглядом в билеты и разговорами о том, как кто собирается проводить лето. А дядя Витя станет заглядывать в комнату, приглашать Эльвиру и вообще делать вид, что мы здесь на равных, что могут они, взрослые, то и нам разрешено.
Но сестры Чижовы к Вике не пойдут, думала я, Генка тоже вряд ли там окажется, или Охан, например… И вдруг я почувствовала: мне самой идти к Вике не хочется…
Мне вообще вдруг никуда не захотелось из этого дома, от этого сада, где непременно под каким-нибудь кустом роз или ромашек уже возилась с цапкой в руках моя бабушка – Великий Работодатель. А стало быть, грозила опасность: и меня запрягут, велят (или уговорят?) пропалывать, рыхлить, собирать мусор, уносить, приносить. Однако я не почувствовала обычной в таких случаях тоски и тревоги. Зуда в ногах, собирающихся сбежать на вольную волю, тоже не было.
– Женя, умывайся, – позвала бабушка между тем с веранды, – будем завтракать. Отец уже уехал в город.
Отец уехал, и это сильно меняло настроение. Однако, уехав, должен же он был возвратиться, а пока было время завтракать, вырывать из земли сорняки, сгребать мусор, сидеть рядом с бабушкой над маленьким дымным костерком…
Мы сидели, каждая под своим плащом, но тесно прижавшись друг к другу плечами. Весь участок у нас был прибран, в костерке вместе с прошлогодними ветками дымно сгорела ранняя, уже пахнущая мокрой соломой трава.
Все в мире вокруг нас гляделось влажным, жемчужным, переливающимся и еще: мир был наполнен запахами, налит ими до краев. Произрастание шло прямо у нас на глазах, «огородный» дождь за уши тянул из земли растения: сорняки и те, что мы сажали своими руками.
Сжатый, младенческий лист огурца, на который мы с бабушкой смотрели, вел себя как предмет вполне одушевленный, даже шустрый. Вот он расправился, потянулся, разминаясь. Вот огляделся, и мы с бабушкой подтолкнули друг друга локтями, принимая его третьим в нашу компанию.
– Как все-таки по-разному живут люди, – сказала в этот момент бабушка, что, согласитесь, никак не могло иметь отношения к огурцам. – Мы забавляемся, а мать Андрюши Охана с такого участка троих подняла…
Почему бабушка вспомнила Охана именно сейчас? Ведь о зажигалке и о том, что Андрей предпочел бы, чтоб ее продали, я так и не рассказала? Очевидно, бабушка просто, как всегда, сочла огород самым подходящим местом для своих поучительных бесед?
Что-то я должна была сейчас выслушать? Во всяком случае, мне показалось: я готова выслушать любое. В душе не чувствовалось сопротивления. Наоборот.
– Мать ведь у Марточки и его и сестричек оставляла, – сказала между тем бабушка, и я поняла: Андрюшка оказался только предлогом на дальних подступах. – Сама чуть ли не на третью смену за сутки, а их – к Марточке, без стеснения.
Тут следовало бы восхититься нашей Мартой Ильиничной и поддержать непринужденную беседу.
– Руки грязные, – сказала между тем я, показывая бабушке ладошки и собираясь к крану.
– Руки в земле. – Бабушка посмотрела на меня взглядом, останавливающим и очень похожим на взгляд отца, когда он, бывало, соберет силы открыто выразить неодобрение. – Руки в земле, а земля не бывает грязной, Женечка…
Мне не хотелось спорить с бабушкой, а захотелось уткнуться ей в колени, полежать лицом вниз, вдыхая с дымом костерка родной запах защищенности.
– Маленькие, даже когда уже не маленькие, любят приласкаться? – спросила бабушка и погладила меня по спине.
– Еще как! – я вжалась в нее лбом, носом, подбородком. – Еще как!
– Старенькие тоже…
Тогда я перевернулась и как-то само собой получилось – поцеловала бабушкину руку. В горле у меня что-то пискнуло и вроде соскочило со своего места, разлилось теплом.
Почему я поцеловала бабушкину руку? Потому ли, что все время помнила, какая она натруженная и сбитая, несмотря на все бабушкины старания? Или меня разжалобили сами эти старания? Длинные юбки, спортивные упражнения и подкрашенные русым волосы? Краска смывалась быстро, и мне становилось страшно смотреть на проступавшую седину, потому что не такая уж я была дурочка, хорошо понимала, чем кончается старость.
…Вот я поцеловала бабушкину руку и сказала:
– У тебя пальцы длинные. А когда короткие, я не люблю. Ты видела, какие у тех, кто в совхозе работает? Или у Марточки, например?
И тут я почувствовала: бабушка каменеет. И колени ее стали каменные, и в руке, гладившей меня, не осталось ни тепла, ни благодарности. И смотрела она так, как будто я заболела навсегда медленной, но губительной болезнью, и мне уже не помочь… Потом бабушка пошла готовить обед, сделала даже мои любимые пресные пышки с салом, но ничего уже не было между нами такого теплого, как у костерка.
Лучше она раскричалась бы или даже обвинила маму в моем неправильном воспитании. Но она сказала с грустью:
– С этих рук, запомни это навсегда, все начинается.
– С Марточкиных тоже? – неожиданно для себя хмыкнула я, расставляя тарелки. – Великая потребовалась ей сила – Андрюшке Охану сопли вытереть!
– И рубашку выстирать, и кашу сварить… А кстати, шапки вязать и на машине строчить вас тоже Марточка выучила.
Странные у бабушки какие-то оказались доводы в пользу нашей Марты. Как будто и не литературу она нам преподавала, а так, нашей нянькой была, что ли…
Мне захотелось сказать об этом, но я боялась, что бабушка еще дальше отодвинется от меня, и я повернула разговор в другую сторону.
– Послушай, – сказала я. – А Лариса тоже, как ты и Марточка, понимает, что важно, что насущно, что подождет? Или потому суетится насчет совхоза, что Классная Дама?..
– Я вижу, ее доблести обесцениваются так же быстро, как Марточкины? – Бабушка спросила это голосом, не обещавшим легкого и быстрого конца разговора. – Чем же это такая Классная Дама, не чета Марте, на вас не угодила? Деятельна без сантиментов, предмет знает, собой хороша, что еще? Я замечаю с некоторых пор…
– Знаешь, как в жизни? – перебила я бабушку занудно, будто это она была младшая. – Знаешь как? Одни тебя любят, другие – то, что о тебе навоображали… Одним сегодня ты нужна, завтра – другая. Все течет, все меняется. Нормально.
– Ты так считаешь? – спросила бабушка с сомнением.
Я так не считала. То есть я знала: так бывает. Ушел же отец, поменяла же Вика Генку. Так бывает, но так не должно быть.
– А не находишь ли ты, Женечка, что тот, кто выдумал человека, как ты говоришь, навоображал, уже несет за него, придуманного, ответственность?
– Как это? – Я повернулась и в упор уставилась на бабушку. – В каком смысле? Обязан, что ли, дотягивать до идеала? За уши? Или за ручку?
Я, надо сказать, не сразу поняла, куда бабушка клонит не только последними своими вопросами, но и всем разговором. Думаете, снова она пыталась Марточку на пьедестал втащить? Как бы не так! Моя бабушка защищала от нас Ларису-Борису!
У меня были другие счеты… Но вот что интересно: я не почувствовала абсолютно никакой боли за себя. И месяца не прошло с тех пор, как я услышала тот разговор в учительской, но время было наполнено событиями, мыслями о Поливанове и моем отце, о Громове и Длинном Генке, о Пельмене и Викиных тайнах. Кроме того, время было наполнено красотой и соблазнами: свечками цветущих каштанов, маленькими, бойкими волнами возле дальнего причала, голубыми ракушками, ночной тишиной в доме бабушки… Одним словом, злость моя вылиняла, выдохлась, почти испарилась!
Но сказала я о Ларисе все-таки не очень-то добро:
– Нет, тебе надо было самой послушать, как она Громова перетягивала на свою сторону! А вчера отца за дверь выставила. Зачем только он к ней бегал? Гром и так его не бросит.
Лицо у бабушки вытянулось, рука начала движение – от стола до моего лба – постучать или намекнуть на температуру.
– Вчера? К Ларисе Борисовне? Ты бредишь, Евгения!
Не хотела ли она этим окриком от меня отделаться? И я спросила с видом человека, не намеренного отступать:
– Не к Ларисе? Тогда к кому же?
Бабушкина рука опять приподнялась и опять опустилась на стол, побарабанив нерешительно пальцами.
– Мало ли у отца дел, – сказала бабушка. – Мало ли дел, Женечка! – Бабушка глянула на меня, будто проверяла мои умственные способности. – Будем говорить прямо, Женечка. Жизнь сложнее, чем вы ее рисуете в своем воображении не без нашей с Марточкой помощи. Будем говорить прямо: Шполянская – ты не знаешь – занимается частной практикой…
Отчего же? Я знала, но не собиралась волноваться по этому поводу. Искусственные челюсти скалились у Шполянских из каждого кухонного шкафчика; и дурак бы догадался, что это значит…
– Она имеет дело с золотом, что, между прочим, запрещается законом. И рано или поздно золото, которое ходит по городу, должно было постучаться в ее двери…
– Постучалось? – спросила я о главном, перебивая стесненное бабушкино бормотание.
– Во всяком случае, она этот факт отрицает.
– А отец?
– Отец хотел, чтоб Ирина Шполянская как-то вошла в контакт со следователем. Ты ведь отлично знаешь, чего он боится. Золото, как таковое, его не волнует, на то есть милиция, прокуратура, не знаю, кто там еще! Он боится…
Я знала, чего он боится. Это был вечный страх. Я думаю, точно таким же страхом болел сам Стемпковский. Возможно, Шунечка и Гром понимали в этом страхе больше меня. Но и я не такая уж была дура, тоже кое-что чувствовала. Вот и сейчас я подняла руку и держала так, будто на ней стояла плоская чаша-фиал, по краю которой, расстелив гривы, скакали крепкие, низкорослые скифские кони. А может, гребень лежал у меня на ладони. Гребень с золотой фигуркой лани, козочки, аккуратно уместившейся в полукруглом пространстве ободка?
Я вздохнула от жалости к этой лани. Или к девочке Ифигении? К собственному отцу? Я вздохнула от сочувствия к его страху, как бы копатели не уничтожили главное, оставив просто комок блестящего металла. На который многое можно купить, но далеко не все. Ах, далеко не все, как не устают утверждать бабушка, мой отец, Марта Ильинична и многие другие…
– А Лариса кричала – нельзя жить черепками… – Я опять и как бы против своей воли возвращалась к разговору на кораблике.
– Нельзя, – согласилась с Ларисой и бабушка. – Но и без черепков нельзя… Человек не для того высвободил время, чтоб…
– …завалить его шмотьем! – подхватила я любимое высказывание отца. – А чем надо заваливать?
Я смотрела в бабушкины глаза честно, никакой иронии или юмора в моих словах не заключалось.
– Почему – заваливать? Чтоб убить? Да что оно тебе, тарантул в норе, что ли? Пусть живет свободное время…
Смешно, но это говорила моя бабушка, Великий Работодатель! Она повела взглядом, приглашая и меня рассмотреть, как свободное время гуляло по саду. С утра оно висело в воздухе вместе с «огородным» дождем, а сейчас из дальних синих туч падало параллельными, под линеечку, лучами предзакатного солнца. Свободное время будило мысли и не торопило слова. Бабушка хотела, чтоб в свободное время я разобралась в своих отношениях с Марточкой и Ларисой-Борисой, а мама чтоб занималась английским…
А я сама?
Охотнее всего свободное время я провела бы на берегу у самых волн, расчесывая волосы гребешком с ланью. И чтоб гребешок оказался находкой моего отца, равной давним находкам Стемпковского…
Не так-то уж просто обстояло со свободным временем. И разговор о важном и насущном имел ко всему этому какое-то неуловимое отношение.
Я сидела на веранде, отвернувшись от бабушки, смотрела в сад. Мне хотелось, просто необходимо было побыть наедине со своими мыслями. Со своей обидой за отца, которую я еще не могла ясно разглядеть, а тем более объяснить самой себе. Все: рабочие там, в «Приморском» и других совхозах, и у нас в цехах, Марточка, мать Андрея и моя собственная, с ее умением штопать «черепки», Лариса, Сабуров Г. И., Генкины уплывающие в Атлантику родители, Шполянская-старшая, отливающая челюсти, – решительно все занимались насущным. А отец, выходит, один ковырялся в том, что может подождать… И это накладывало на него какой-то отпечаток. Не совсем серьезным он представал перед всеми, что ли?
Вот такой выдался день – последний воскресный перед моим экзаменом устной математики, ничего общего не имеющим с испытаниями, какие ждали нас всех, уже маячили, почти не различимые за порогом…