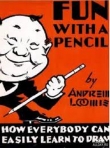Текст книги "Анималотерапия (СИ)"
Автор книги: Елена Зайцева
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
АНИМАЛОТЕРАПИЯ
1.
«А ГОВОРИТЬ МНЕ МОЖНО? А ПИТЬ?» – вывела Яна красным карандашом во весь альбом и отправилась с этим «транспарантом» на сестринский пост.
Пост был буквально в двух шагах, напротив. Только что принявшая смену медсестра, кругленькая Диля, мечтательно покачивалась на стуле. На столе горела лампа, хотя уже рассвело. «На завтрак! На завтрак!» – зазывала санитарка, но Яна совсем не спешила попасть на этот самый завтрак. Есть не просто не хотелось, есть бы и не смоглось. Вечером Яне удалили (здесь все говорили: выдрали) гланды, и теперь было больно глотать, больно говорить и даже покашливать!
Она обнаружила это сразу как проснулась. По палате опять носились, ей хотелось возмутиться – «Как вы надоели!», но вместо «как» получился какой-то «кряк». А потом она кашлянула и схватилась за горло...
Похоже, никто этого и не заметил. Захарченко возилась с сотиком. Колмановская и Юсупова отламывали форточку (чтобы не заставляли закрывать – в палате стояла страшная духота, батареи буквально кипели). Фролову не было ни видно ни слышно, наверно, в одеяле зарылась. Машуков (опять он! топал бы к себе в палату!) продолжал носиться между тумбочек и кроватей, а Вичка продолжала его догонять. Проделывали они это в полном молчании и даже как-то хмуро – видимо, Машук снова что-нибудь натворил, а Вичка являла собой возмездие. Возмездие было неизбежно: Вичке, как и Яне, двенадцать, а Машуку – девять-десять (всем говорит, что десять, но все говорят, что девять), в общем, малышня. Его даже в первую палату положили, к малявкам. Но там ему, естественно, не лежится, а старшие пацаны его к себе не пускают, и вот, он снова здесь!
Яна смотрела на эту беготню совершенно стеклянными глазами. Хотелось пить. И чтобы она, Яна, оказалась дома! Навернулись слёзы – но и плакать не было никакой возможности. Как только в глазах защипало, эти «щипки» побежали и к горлу.
Что же делать, когда ничего делать нельзя?!
И тут Машук налетел на Вичкину тумбочку – бумс! Альбом, карандаш, ещё карандаш, ещё, и ещё – они падали и падали, а Машук и его «возмездие», наоборот, остановились.
Яна, прямо с кровати, потянулась к альбому...
– Ты рисовать, что ли, будешь? – удивилась Вичка.
– М-м, – поморщилась Яна (зря промычала – горло!) и крупно написала: «А ГОВОРИТЬ МНЕ МОЖНО? А ПИТЬ?».
Замечтавшаяся Диля, конечно, заметила Яну. Но трёхлетний опыт работы и двадцатитрёхлетний – жизни, говорили: когда кто-то нуждается в тебе, а не наоборот, это его проблемы. Поэтому Диля продолжала раскачиваться на стуле. Яна постояла-постояла – да и сунула свой «транспарант» ей прямо под нос. Диля дёрнулась и, не удержав равновесия, вместе со стулом рухнула прямо на спину. «Ай!..» – только и успела зазихнуть Яна (зря! горло!)...
– Ну и как наказывать такую взрослую девочку? Да ещё и после операции? – размышляла вслух старшая медсестра, поглядывая на Яну. На Дилю ей смотреть не хотелось: серьги по килограмму, ногти по километру, а работать девица совершенно не желает! В прошлый раз прямо у неё из-под носа дети утащили фурацилин и «расфасовали» его по горшкам в туалете. А эта история с санитаркой, которая чуть не заставила мыть полы температурящую Фролову? Фролова, видите ли, сок опрокинула. Как объяснить Диле, что это её, Дилина, забота, чтобы температурящие – с градусниками, а не со швабрами? Тряпки – санитаркам, а не детям с гайморитом?
– Болит? – спросила старшая.
Яна покрутила головой – нет. (Горло продолжало болеть. Это была какая-то тюрьма, только изнутри. Никуда от неё не денешься. Но разве это расскажешь? Да ещё и молча?)
– Вот видите! – обрадовалась Диля. – Пусть идёт халат стирает!
Собственно, в халат всё и упиралось. Дело в том, что в Дилиной семье работал тот, кто не сумел отвертеться. Но увы и ах, отверчиваться так же искусно, как это делали братья-сёстры, она так и не научилась. Пытаясь увильнуть, Диля делала такое глупое лицо, что мать считала её дурой, а отец жалел. Жалел – и тоже считал. Пожалуй, только эта жалость и помогала Диле нет-нет да ускользнуть. А вот старшая медсестра лоротделения, Казакова Любовь Алексеевна, моментально распознавала это глупо-отлынивающее выражение, и тогда – пощады не жди. Делай это, делай то, работай, Диля, ты ведь на работе! Но по части этого халата Диля решила идти до конца. Виновницу к ответу, т.е. – стирать!
Диля упала неудачно, и вовсе не потому что ударилась, этого-то она как раз не боялась. Она порядком испачкалась (вон какая жирная ржавая полоса!), проехавшись по полу в том самом месте, где не хватало куска линолеума. Да это какой-то зловещий план по её опрокидыванию, подкидыванию ей лишней работы! Третья палата и не на такое способна!
Третью палату Диля не любила особенно. Туда определяли старших девочек и, как назло, редкая из шести коек пустовала. Ох уж эти старшие девочки!
– Их вообще расселить надо, у них не одно так другое! – Халат виновато покачивался на её пухлом наманикюренном пальчике.
– Расселить... – задумчиво повторила Казакова.
– Все ещё спали, а в третьей – уже носились! – Видя, что старшая задумалась, Диля решила, что вот-вот – и страшный заговор третьепалатовок станет очевидным, и заговорщиц (может быть, даже всей палатой) отправят стирать, сушить и гладить! – Никакого порядка, ну правда, Любовь Алексеевна! Невозможно работать...
Яна стояла, уткнувшись глазами в рисунок на полу. Она представляла, что вот эти два ромба – два огромных корабля: Диля и Любовь Алексеевна. А вот этот маленький кубик между ними – она, Яна. Малюсенькая лодочка. Один корабль гудит капризно и назойливо, прямо-таки звенит, а другой ему – нехотя – отвечает. И оба страшно высоки – страшно далеки вверх! – лодочка плещется где-то там, внизу, у самых их ватерлиний...
При упоминании о беспорядке Казакова нахмурилась. Ей, старшей, подчинённые жалуются на «невозможность работать», и это уже ЕЁ работа – разобраться в том, что им не по силам. С другой стороны – ну а как тут разберёшься? Вряд ли это Яна «носится и ржёт», а на таких, как Колмановская, управы нет. История же с этим халатом – вообще глупость какая-то. И со всем этим надо было что-то – хоть что-то! – делать...
Мимо продефилировала Захарченко. До сих пор в пижаме! До сих пор не на завтраке! Старшая вздохнула. Ещё раз глянула на Яну, на капризно-требовательную Дилю и решила остановиться на некой полумере – паллиативе, как говорят врачи.
– Вот что, – сказала она. – Иди-ка, Яна, собирай вещи. В пятую палату перейдёшь. Там никого, на любую койку...
– А халат? – недоумённо изогнулась Дилина бровь.
– А халат, Диларам Жановна, надевайте. Надевайте-надевайте. После смены постираете, – Казакова всегда называла Дилю на «вы» и по имени-отчеству, отдавая столь ненавистные ей распоряжения.
– Кто «постираете»? Я? – надулась Диля.
– Да, вы, – сухо подтвердила старшая. – Халат ведь ваш?.. Да вам вообще свойственна халатность, – напомнила она надувшейся Диле, ещё раз профессионально-участливо глянула на Яну и направилась куда-то по своим неисчислимым делам. Одна только аварийная вторая палата чего стоила!
2.
Яна с большим пакетом в руках опасливо переступила порог левой секции. Было очень тихо и очень светло.
Всего в отделении – восемь палат, половина «правые», половина «левые», а между ними – холл. В левой части Яна ещё не бывала.
Всё здесь было как в правой – и всё не так. Стены тоже голубые, но светлее (это потом уже Яна поняла, что на окнах нет шторок и поэтому коридор такой светлый). Палаты расположены так же – но зеркально, «наоборотно», а на месте сестринского поста – стол с невысокими бортиками. «Малышей пеленать», – догадалась Яна. Про малышей рассказала Колмановская. Не рассказала – проорала...
Когда Яна собирала вещи, Вичка, по обыкновению открыв рот (а точнее, по обыкновению не закрыв, просто у неё нос никогда не дышит), минуты две с интересом наблюдала и, наконец, не выдержала:
– Выписываешься?
Яна пожала плечами. Какие всё-таки люди... странные! Ну не может она говорить. Сейчас – не может. И головой мотать надоело. Даже и не то чтобы надоело, а просто – зачем отвечать на то, что и спрашивают-то неизвестно зачем? Вичку надо было Варварой назвать. Любопытной Варварой, которой на базаре нос оторвали... «Ну точно, – усмехнулась про себя Яна. – Поэтому ей и приходится ртом дышать!». Заходя в столовую, Вичка непременно интересовалась: «А чё на обед?», хотя столы были накрыты, а когда её звали в процедурную, изумлялась: «В процедурную?!». Даже Вичкины рисунки (Вичка любила не рисовать, а срисовывать) были какими-то переспрашивающими: весёлый щенок с открытки превращался в щенка озадаченного («Чего мне веселиться?»), томная Снегурочка с календаря – в какую-то вопросительную Снегурочку, и даже солнечная улица с чайной рекламы начинала сомневаться в своей замечательной погоде...
Подскочила Колмановская. Она была не в духе. Форточку им с Юсуповой оторвать не удалось, потом какой-то трюк на завтраке не удался, потом она два раза в карты проиграла (хорошо хоть не на желание). Теперь Юсупова ушла на ингаляцию, а Колмановская бродила по палате с видом скучающей тигрицы.
– Выписываешься или нет? Тебя спрашивают!! – заорала она Яне прямо в ухо. Вообще-то слышала плохо как раз сама Колмановская, но вела она себя так, будто глохла не она, а весь остальной мир.
– Да её в пятую переводят, – сказала Захарченко.
– А?
– В пятую! Переводят! – недовольно повторила Захарченко. Под «колмановскую дудку» она не плясала, всё-таки она на год старше этой глухарки. На год старше – и вообще, можно сказать, старожилка, каждую зиму сюда попадает, схватит холодного воздуха – и сюда. Первый раз это случилось семь лет назад, тогда она, конечно, ещё в малышовой, в первой лежала. А в прошлом году – во второй. Хорошая палата – двухместка и даже с балконом! Но сейчас там ремонт...
– В пятую? – удивилась и Колмановская. – Это же... слева! Это же для лялек, да, Захарчик? Ну, для таких, с мамашами. Да там вроде щас и нет никого... Так ты там одна будешь! – восхитилась она, и опять Яне в ухо! Яна отклонилась и выразительно на неё посмотрела. Только вся выразительность зря пропала – Колмановская такого не понимала. «Да и смотри, сколько хочешь», – сказала бы она – если бы поняла. Или нет, проорала б: «Да и смотри, сколько хочешь!!!». Но – не поняла, не заметила. Продолжала «подбадривать» Яну: – Одна будешь! Во всей секции! Слышишь?
Колмановской Яна сразу не понравилась. Ей нравились те, кто орал в ответ – или уж точно не заорал бы. Правда, таких, кто «уж точно», она овцами называла – таких, как Фролова, например. Но это были... ясные овцы. Ясные как день. Как в приговорочке – «Ну, с вами всё ясно!». К Фроловой можно было подойти, щёлкнуть по носу – и сказать: «Ну, с вами всё ясно!». А вот Яна... Яна мутная какая-то. Её не щёлкнешь. И даже неизвестно почему – не щёлкнешь и всё! А хочется.
– Представляешь, ты одна – а там крысы! Я точно тебе говорю, сама слышала, как санитарка...
– И вовсе не будет она одна, – сказала Захарченко. – Не будет одна! – повторила она громко. Колмановская всё больше её раздражала. – Там уже лежит какая-то, с ребёнком! Хотя... – добавила Захарченко тише, – хотя, говорят, она сумасшедшая. Да и ребёнок тоже. Ненормальный...
– Ого! – опять восхитилась Колмановская, на удивление всё расслышав. – И откуда только наш Захарчик всё знает?
– Я тебе не Захарчик.
– Ясно, ясно... Сумасшедшая мамашка – это круто! Круче крыс! Это... вау!
И вот Яна в таинственном «слева». Ни крыс, ни сумасшедших – никого.
Она забрела в свою – теперь свою – пятую палату, поставила пакет на пол и села на ближайшую из «взрослых» кроватей. Взрослых их было три, ровно половина, другие три – детские кроватки на колёсиках...
Как это, должно быть, легко, когда ты на этих колесиках! И всё за тебя решает кто-то, и этот кто-то, что бы ни решил, будет прав. Ведь этот кто-то – твоя мама...
В который раз Яна пожалела, что согласилась на эту операцию, на эту больницу. Уговаривали её долго и со вкусом: ну всего-то дня на три, ну на четыре – на пять максимум! И операция-то крошечная, эти гланды – меньше ранеточек! Нет, они увеличены конечно, у тебя это крупные ранеточки, и тем не менее... Так участковая лор говорила. А тётя Наташа говорила, что «пока мама на сохранении лежит, нам надо все вопросы порешать». И что эти вопросы – «так, мелочёвка! Вот у мамы – вопросы так вопросы, ей ещё лежать и лежать! А тебя – положат и выпишут. Знаешь, как мама воспрянет, когда закончится эта твоя тягомотина с горлом?». В какой-то момент Яне показалось, что её гланды действительно мелочь. А мама действительно обрадуется. А ведь ей так нужны, как тётя Наташа выражается, «положительные эмоции» – через месяц мама родит Яне сестрёнку!.. И Яна согласилась. А теперь... Что теперь? Теперь... вот.
Во-первых, мама не придёт, сколько ни лежи. Да и тётя Наташа приходить не обещала, у неё две работы, да ещё и этот «парфюм над душой!» (она косметику распространяет). Пообещала только забрать Яну – когда её выпишут. Через четыре дня. «Выпишут – звони. Да я и врачихе твоей позванивать буду... И вот тебе: за каждый день – бонус!» – торжественно вручила она Яне четыре помады-пробника. Дурацкие пробники, конечно. Но дарёному коню... Да и вообще, подарки – это же хорошо, что ж плохого. Только какие четыре дня, если вторник, среду и пол-четверга Яне только температуру сбивали? Какие четыре дня, – разве перевели бы её в другую палату, если бы выписывали? Какие четыре дня, если...
Вдруг под кроватью что-то зашуршало. Яна вздрогнула и мигом поджала ноги. «Крысы?!».
Некоторое время она сидела замерев. Потом ноги затекли, да и горло требовало как-то переместиться – то ли подвигаться, то ли лечь... Решилась заглянуть под кровать. И заглянула...
3.
Из-под кровати – два чёрных блестящих глаза.
«Крыса, – на удивление спокойно подумала Яна. – Интересно, я бы закричала, если бы могла?..».
Висеть вниз головой было больно. Легла. Отдохнула. И повисла опять.
Два блестящих глаза никуда не делись.
«Странно, почему она не убегает?».
Крыса никуда не торопилась. Казалось, только её усы всё время куда-то торопятся – они непрерывно двигались.
«Нюхает... Может, есть хочет?».
Яна дотянулась до пакета и вытащила печенье...
– Тук-тук-тук! Где наши опальные Яночки? Переселенцы! Ау-ау!
«И му-му, и хрю-хрю!» – мысленно передразнила Яна. До операции это было ещё ничего, ещё терпимо, что её лечащий врач такой хохмач (даже фамилия Хохлачёва – почти Хохмачёва!), но сейчас Яна представила, как эта почти-Хохмачёва спросит, не бо-бо ли ей, и стало как-то совсем тоскливо...
– Как наши горлышки? – присела Хохлачёва к Яне на кровать. – Ну-ка, ну-ка, откроем ротики!.. О-о... Шмакова... полежит... ещё, – записала она что-то в свой бархатный ежедневник. – А вот это, – кивнула на пачку печенья на кровати, – рановато. На обед сходить – можно. Ну, там, супчики, кашки. А вот печенье – нет... Да, и ты, надеюсь, понимаешь... – вдруг стала серьёзной, даже как-то нахохлилась Хохлачёва, – Я ЭТИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НЕ ОДОБРЯЮ... Но кто же нас слушает, да? – растаяла она в новой улыбке. – Никто нас не слушает... – Ладно. Не пить – не есть горячее-холодное, не разговаривать, горло не полоскать и вообще не трогать! – скороговоркой выдала она, выпархивая из палаты. – Я тебе кварц назначу! – донеслось до Яны уже из коридора.
«Да хоть два кварца!» – крикнула Яна в ответ. Про себя, конечно... «Ну, где там эта крыса Лариса?».
Но «крысы Ларисы» и след простыл. Как Яна ни вглядывалась, только клочья пыли под кроватью.
Яна улеглась, машинально кроша печенье прямо на одеяло... Вот тебе и пятая: хочешь – лежи, хочешь – кроши, разве плохо? Ей начинало тут нравиться. Как всё-таки интересно получалось: так наказали её или нет? Она здесь – а ей не обидно. Одна – или с крысой! – а уже, в общем-то, и не страшно. Во всяком случае – уж во всяком и любом случае! – лучше, чем с Колмановской. Только горло ноет. И пить опять хочется. Яна потянулась было за соком, но всё-таки решила встать и разобрать пакет... «Это-то что?!.».
Пакет был прогрызен. С самого угла, аккуратным таким кружочком с волнистыми краями!
«И когда она только успела?!».
Яна прошлась по палате, заглядывая под все кровати и тумбочки. Пыль, только пыль.
Стало даже как-то весело. Крыса с ней как будто играла!
Яна ещё раз обошла палату – ничего. «Вот заразка!..».
Лежать абсолютно расхотелось. Яна вытащила из пакета всё своё имущество, разложила его по тумбочке (сок повертела-повертела, но нет, не решилась), вздохнула и выглянула в коридор. А там – кто-то...
Стоит кто-то – и смотрит в залитое светом окно. Девочка, или девушка, или женщина. Лица не видно, а по фигуре или одежде и не скажешь: желтый-прежёлтый свитер, огромный и надутый какой-то (прямо колокол!), на голове – капюшон (что совсем уж, в такую-то жарищу, лишнее!), из-под свитера – полоска такой же дико-жёлтой юбки, как будто в колоколе – ещё один...
Яна остановилась в нерешительности – поздороваться вслух она не могла, а кивнуть – так это надо, чтобы «колокол» обернулся. Не оборачивался!
Яна потопталась, поскрипела дверью – не помогает. Уже собиралась пересилить себя и кашлянуть, как вдруг вспомнила про «сумасшедшую» и... не стала.
– Да знаю я, знаю, что ты тут, – сказала, наконец, «жёлтая» – так и не обернувшись! Да нет, не сказала – прогудела. Какой странный голос! Он шёл откуда-то совсем изнутри, наверно, про такой и говорят – глубокий.
– Ты тут – но молчишь и молчишь... – продолжила «колокольная». – Мамаши все как одна трещётки, а ты... ты у нас ребёнок, получается? – И она резко обернулась, скидывая капюшон.
– Ну точно. Получается! – И широко улыбнулась.
Яна растерянно улыбнулась в ответ. Впечатление незнакомка производила неоднозначное. Так всё-таки: девушка она или... бабушка? Ростом с Яну. Куцый хвостик на макушке перехвачен каким-то нелепым шнурочком. Глаза... они заинтересованные. Такие глаза не бывают старыми. Но зубы – железные. Яна, пожалуй, таких ни у кого и не видела, даже не золотые – а железные. Лицо... лицо длинное, большое, не детское. Какое-то... серое. Только уши розовые. Может, потому что Яна смотрит на неё против света? И этот голос... Правда, Яне почему-то показалось, что он – ненастоящий, притворщеский. Как будто где-то есть переключатель – на другой голос. Или даже голоса...
– Ты, небось, ещё и в гости хочешь? Не приглашаю. Не приглашаю в гости тех, кого не знаю, – прогудела незнакомка так, как будто все точки над i расставляет. И замолчала, хлопая глазами. Какие всё-таки большие глаза. Большие – и навыкате, такие, что... выкатятся сейчас! Яна поёрзала, помучила дверь... Не приглашают так не приглашают... Но «в гости» действительно захотелось! Ну что целыми днями делать одной, в пустой палате?
– Ну и как, ребёнок, тебя зовут?
Яна засуетилась, собираясь объясниться как-нибудь «по-глухонемому»... Но что объяснить-то? Что так ничего и не скажет? Или всё-таки имя своё как-то...?
Она кинулась в палату и через секунду вернулась с помадой. Плотно закрыла дверь и аккуратно вывела на ней: «ЯНА».
4.
Вся дверь была исписана, когда появилась Диля. Дверь – и немножко голубой крашеной стенки.
– Шмакова, на кварц. Первый этаж, налево... Это ещё что?!
Яна, сунувшись наудачу в карман, нащупала там скомканную салфетку и кинулась стирать свои ярко-малиновые ответы, но ответы только растёрлись, чище не стало.
– Вот же идиотка! Помадой! – Диля двумя пальчиками подняла Янину руку, всматриваясь в серебристый столбик в жирных малиновых ошмётках. – Всю помаду!..
«Идиотка» нетерпеливо дёрнулась в палату, а на лице у неё высветилась такая эврика, что Диля – руки в боки – изобразила свирепое, но всё-таки ожидание.
И что же? Яна принесла такой же серебристый столбик. Без ошмётков, новенький! Диля живенько схватила «добычу» и была такова.
«Уф!» – выдохнула Яна. Выдохнула вслух, а «уфкнула» – про себя. И только сейчас поняла, что стоит одна. Без Люси. Без своей замечательной жёлтой, серой, колокольно-гудящей новой знакомой. Когда она пропала? Просто в воздухе растаяла. И это даже странным не было. То есть было, но не страннее, чем сама Люся...
Вообще-то Люся – это Лючия.
– Есть Санта-Лючия. А я не Санта. Я просто Лючия! Татарка я, в общем. Та-тар-стан!
Лючия-Люся лежала в соседней, шестой палате. Она – и её сын, Гоша.
– Но это не Гоша, это – монстр. Он спит – я отдыхаю. А спит он редко! Прежде всего это хулиган. Бандюк, каких мало. Потом эгоист, тут уж никуда не денешься. А ведь он ещё и экстрасенс, представляешь?!
Яна ничего такого не представляла. Она просто смотрела и слушала во все глаза, во все уши. А, может быть, не так уж и плохо, что сказать она ничего не может, может только написать. Ведь разве стала бы эта взрослая женщина с ней разговаривать? Разговаривать как с равной? Она и представилась как равной: Люся – и никаких «тётей». Это что-то из ряда вон, и, наверно, возможно только в этом, совсем не рядовом случае. Яне казалось, что стоило ей заговорить, как она ляпнула бы что-нибудь «детское». Детское – и неинтересное. Да и говорила бы она обычным своим, пожалуй, что и никаким голосом. Люся же была целым оркестром – она то гудела, то шептала, а иногда даже как-то взвизгивала:
– Злополучная больница!
«Вот именно!» – кивнула Яна. Подумала и написала: «ТУТ КРЫСА!».
– Крыса! – хмыкнула Люся. – Ну, крыса, конечно, но... Но вот я, например! Посмотри-ка на меня. Смотришь – и что думаешь? «Это человек, это человек...», так, что ли?