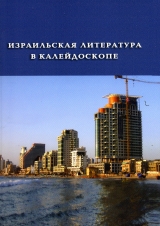
Текст книги "Израильская литература в калейдоскопе. Книга 1"
Автор книги: Эфраим Кишон
Соавторы: Меир Шалев,Хаим Нахман Бялик,Варда Резиаль Визельтир,Яир Лапид,Бат-Шева Краус,Михаэль Марьяновский,Этгар Керэт,Савьон Либрехт,Томер Бен-Арье,Орли Кастель-Блюм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Идеальный жених для Рохале
В конце зимы, когда я уже почти отчаялся, много лет спустя после того, как все ее подруги беременели и рожали, моя старшая дочь, Рахель, пришла ко мне и неожиданно сообщила, что встретила человека, в которого влюбилась, и они решили пожениться в начале апреля. Потрясенный услышанным и сбитый с толку срочностью события, я спросил:
– Вот так, поспешно, срочно женятся?
– Это не срочно, папа. Мы знакомы уже семь месяцев.
– Семь месяцев? И семь месяцев ты мне ничего не рассказываешь?!
– Каждый раз, когда я рассказывала и потом ничего из этого не выходило, ты только огорчался. Что же у нас получалось, если я тебе рассказывала? На этот раз я решила сообщить тебе, только когда все будет решено.
Я чувствовал себя, как мальчишка:
– Так решено уже все?
– Все. Мы уже заказали зал. Что тут такого? – Она заглянула в мои глаза проверить, не затаилась ли там обида. – У тебя есть возражения?
– Возражения? – Я поднялся, и она встала напротив меня.
Я обнял ее, поцеловал в лоб и, кажется, только тогда окончательно осознал смысл ее слов. Сердце мое ликовало. «… и дал нам дожить до этого времени – с чего вдруг возражения?»
Один в квартире, я разволновался до слез, думая об ушедшей жене, которая не успела повести свою дочь к хупе. Брожу среди мебели и не нахожу себе места. Вспоминаю годы, когда у меня пересыхало в горле в попытках удержать дочь от работы над диссертацией: я говорил ей, что слишком образованная девушка отпугивает женихов, а она только смеялась. Сейчас я думаю о тех беседах и посмеиваюсь, жду полночи, когда в Бруклине будет пять часов вечера, чтобы позвонить Сташеку. В это время придет его сын, чтобы сменить его в магазине, и он сможет поговорить со мной по телефону.
Уже почти пятьдесят лет, как мы делим радости и горести. После войны я эмигрировал в Израиль, тогда как Сташек отправился попытать счастья в Америке. Годами я уговаривал его перебраться жить в Рамат-Ган, быть совладельцами магазина строительных материалов, а он столько же времени пытался убедить меня присоединиться к нему в Бруклине, стать компаньонами в собственном магазине велосипедов. В конце концов мы оба остались на своих местах: я в Рамат-Гане, он – в Бруклине.
Уже минуло почти пятьдесят лет, как у нас обоих сложилась традиция все рассказывать друг другу: он первым узнал о рождении моих дочерей, болезни жены, о свадьбе младшей дочери, рождении внука, о материальных затруднениях, смерти моей жены, о компаньоне, которого я вынужден был взять, о разводе младшей дочери и вот теперь – о замужестве старшей. Я был первым, кому он сообщил о своем первом браке, о рождении у него сына, потом дочери, о разводе, втором браке с молодой вдовой и о разводе с ней, о гибели сына в автодорожной катастрофе, об открытии каждого филиала его магазина велосипедов, о его третьей свадьбе и рождении близнецов.
– Поздравляю! – оглушительно орет он в телефонную трубку, но сердце мое тает от тепла в его голосе. – В конце концов нам положено счастье, а?
– Да.
– И кто жених? – спрашивает он на идише.
– Я познакомлюсь с ним только в пятницу. Они придут ко мне.
– Я позвоню тебе в субботу. Расскажешь.
– Хорошо.
– А как твой бизнес?
– Будет хорошо.
– Будет очень хорошо, – и от трубного звука его праздничного голоса у меня перехватывает горло. – Скажи Рохале, чтобы она заказала самый дорогой зал.
– Они уже заказали зал.
– Я прошу разрешения оплатить счет, – сказал Сташек. – И поцелуй от моего имени Рохале и ее жениха.
В четверг я с тележкой кручусь в супермаркете среди других покупателей. Из-за того, что дочь отказалась хоть что-то рассказать о нем и лишь сказала: «увидишь уже сам в пятницу», я в сомнении, купить ли кока-колу или пиво, сладкое печенье или соленое, красное вино или ликер. В конце концов я беру и кока-колу, и пиво, сладкое и соленое печенье, красное вино и ликер и в последний момент добавляю еще яблоки и конфеты, медовый пирог, бумажные салфетки и штопор. До их прихода в пятницу в пять часов я буду заниматься наведением порядка в доме и организацией угощения на столе.
В пятницу они приходят с сорокаминутным опозданием. С первого же мгновения что-то в нем настораживает меня. Рука с трудом поднимается, чтобы пожать его руку. Я провожаю их к креслам в салоне и не спускаю глаз с его спины. Потом перевожу взгляд на его лицо, глаза, руки, разливающие пиво: на первый взгляд в нем нет ничего особенного, напротив: он довольно красив, и голос у него приятный. Дочь вовсе не извиняется за опоздание, словно я не ждал эти сорок минут, обливаясь холодным потом и рисуя в воображении, как они лежат мертвые в машине. Молодой человек просит прощения, описывает в мельчайших подробностях неисправность в резиновом шланге, присоединенном к штуцеру радиатора, как он нашел выход: обмотать шланг в поврежденном месте резиновым пояском и закрепить его с помощью проволоки. Я внимательно смотрю на него в то время, как он со всей серьезностью рассказывает о манипуляциях с радиатором. Что-то в его серьезности покоряет, и все же мои глаза неотрывно испытующе смотрят на него. Что в его лице, движениях внушает мне беспокойство, не знаю. До самой последней минуты, когда они поднимаются, чтобы уйти, я не спускаю с него глаз, слежу за чем-то, скрытым от моего понимания.
На следующий день, после бессонной ночи, когда я уже знал, кого он мне напомнил, дочь, смеясь, спросила по телефону:
– Ну, правда он идеальный жених? Ты, конечно, заметил это, когда смотрел на него так, будто у тебя в глазах рентгеновский аппарат. Что на самом деле ты искал в нем?
Сердце мое обливается кровью, и я хочу сказать ей: «Рохале, Рохале, ты бы не поверила, если бы я рассказал тебе, что искал, и еще хуже, что нашел. Я знаю его так, как тебе не узнать, если даже ты будешь его женой сто лет».
Но в тот вечер, когда я увидел его впервые, я сидел в кресле напротив него и еще не знал, какой шок испытаю из-за него, глаза мои только искали, ощупывали широкоскулое лицо, красивую линию уха, плотные плечи. Я вдруг вспомнил и рассказал им о предложении Сташека оплатить зал свадебной церемонии. Я услышал, как дочь объясняет ему: «Это друг отца из Америки, о котором я тебе рассказывала, что он каждый год посылал моей сестре и мне по новому велосипеду». Ей кажется, что он не понимает, кого она имеет ввиду, и она намекает, чтобы пробудить его память: «Они вместе прошли Катастрофу».
В сердце странно кольнуло, словно намек, словно подтверждение скрытого места, события, ведущего к Сташеку, того, что я ищу в лице моего будущего зятя. Я еще не уверен, но, как животное, все чувства которого напряжены, ощущаю, что на правильном пути.
Мой будущий зять – весьма приятный человек. Он рассказывает мне о своей работе, о теме доктората, о своей семье. Семья его матери уже в четырех поколениях находится в Израиле, а семья отца – из Ченстохова. Его отец в первый год войны бежал в Россию и страдал там от голода и болезней, но он единственный, кто уцелел. Брат его отца захотел остаться с пожилыми родителями и двумя младшими сестрами. Все погибли в гетто и в лагерях. Он говорит о дяде, который погиб, о его переживаниях за своих родителей и сестер, а я все это время смотрю краешком глаза: руки молодых без конца встречаются, сияние глаз дочери освещает всю комнату, и все-таки сердце отказывается радоваться, оно уже знает все еще скрытую от меня тайну.
После их ухода я говорю себе: «о более идеальном женихе я не мог и мечтать». И я повторяю вслух, чтобы убедить самого себя:
– Более идеального жениха найти невозможно.
Но видения уже начинают появляться, и всю ночь я просижу в кресле против угощения, большая часть которого осталась нетронутой, сожалея о пустой трате денег, о половине куска торта, оставленного на тарелке Рахели, и, как в фильме, демонстрируемом без остановки, буду прокручивать картину за картиной с этими образами. Вот Хаимке напротив двух немецких солдат, завязывающих на его шее удавку. Он стоит спиной к нескольким десяткам рядов людей, застывших в молчании, словно каменные изваяния в человеческом образе. Хаимке пытается что-то сказать им, может, умолять о пощаде, и при этом его руки связаны за спиной, прекрасные, как птицы, собирающиеся взлететь. Один из фрицев бьет его наотмашь по лицу, и его руки тотчас обмякают. В секунды его тонкая шея, шея мальчика, которому осталось три месяца до бар-мицвы, ломается внутри веревочной петли. Кулаки Сташека у меня под мышками поддерживают всю тяжесть моего тела, чтобы я не рухнул, как мешок, в грязь. По приказу немцев, я, как сотни других, смотрю прямо вперед на моего младшего брата Хаимке, которого мама поручила моим заботам, когда нас разлучали. Смотрю на его раскачивающееся тело, похожее на тощую куклу, вижу ботинок без шнурка, соскочивший с его ноги. Я вижу в первом ряду затылок Фельдмана, передавшего Хаимке в руки фрицев. Его крупные плечи, дубинку, словно приросшую к его руке, как часть тела. До конца войны, год и семь месяцев меня обуревало страстное желание наброситься на этот затылок и молотить его, пока он не оторвется от тела. Во сне, при пробуждении, на работе, во время еды один образ стоял перед моими глазами: вид моих пальцев, разрывающих его затылок, погружающихся слой за слоем через кожу, сухожилия, мускулы, до самого основания шеи, когда я стою над ним с распухшими пальцами и успокоенным сердцем. И я вглядываюсь в его тело, распластанное у моих ног, его свернутую, как у обезглавленной курицы на разделочной доске, голову.
А потом в бараке номер три этот затылок у наших ног, раздавленный, как перепачканный кусок теста, череп треснул, черты лица размыты, и мы, стоящие вокруг него: Сташек и я, Готек и Цыган. Снаружи уже царила суматоха: все утро русские, пришедшие на заре, искали с помощью способных передвигаться заключенных немцев, оставшихся в лагере, сгоняли их с поднятыми руками под насмешки людей, еще способных смеяться, к открытым грузовикам.
Мы стояли в тишине, глядя на человека, рухнувшего к нашим ногам. Он был, по-видимому, уже мертв, но все еще выглядел умоляющим, обе его кисти прижаты одна к другой, согнувшийся, точно в низком поклоне, голова опущена, и кровь из затылка все течет и течет по его волосам, густая, как мед.
Цыган вышел первым: плюнул на труп, пнул напоследок ногой и удалился.
Мы остались стоять над ним втроем. Узкая полоска света, просочившаяся через неплотно закрытую дверь, разрезала запятнанную спину. Готек наклонился и стащил с мервого ботинки и носки. Сташек стянул ремень. При этом труп наклонился набок и беззвучно свалился на земляной пол барака.
Пора смываться, – сказал Готек и вышел.
Я остался на месте, как будто не веря, разом освободившийся от жажды мести, которая терзала меня год и семь месяцев. Глаза мои прикованы к крови, пропитывающей куртку Фельдмана, взгляд скользит по пятну на лице и внезапно упирается в ухо, не изувеченное, нежное, как ухо женщины.
– Я убил человека, – сказал я, а мои ноги будто пригвождены к полу.
Сташек подошел и загородил от меня труп. Наклонился ко мне, выше меня на голову, прижал обе кисти, как огромные клещи, к моим ушам и встряхнул меня.
– Шлоймеле, – ласково произнес он, – еще немного, и мы начнем жить по-новому. Насколько меньше будет подлости, мир, который там, снаружи, станет намного лучше.
– Меня сейчас вырвет, – я смотрел на выглядывавшие босые ступни ног Фельдмана.
– Мы видели десятки тысяч людей, погибших просто так, непонятно за что, и в конце – одного, заслужившего смерть – кончено. Он должен был заплатить за Хаимке, верно?
– Да, – я разрыдался от охватившей меня усталости. Вкус блевотины подступил к горлу, я согнулся, и слизь изверглась изо рта на землю.
Сташек подождал, пока я подниму голову, вытер своим рукавом мой рот, подбородок и сказал:
– Перед тем как мы уйдем, я хочу, чтобы мы помолились и поблагодарили Б-га, который сохранил нам жизнь.
На какое-то мгновение мне показалось, что он мысленно ищет в своей памяти и не может найти нужных слов. В моей голове тоже было пусто. Прежде, чем мы вышли из барака номер три, помню, как ослабела хватка «клещей» и Сташек положил правую руку на свою голову, а левую – на мою, как кипы, и сказал:
– Повторяй за мной: «… и довел нас до этого времени».
И я повторил, как эхо:
– …довел до этого времени.
В последующие дни мы еще говорили об этом. В лагере, быстро привыкнув к новому ощущению свободы, расширившегося желудка в животе, я еще послонялся, ища глазами Готека и Цыгана. Через два дня после содеянного я заглянул в барак номер три – трупа в нем уже не было, лишь оставались следы от протаскивания его на вычищенном земляном полу, как следы грабель на земле ухоженного садика.
Через месяц мы, помытые, одетые в чистую одежду, с сумкой, в которой покоились четыре буханки хлеба, вошли в поезд, направляющийся в Германию – думали встретить там людей из нашего прежнего мира. Нам понадобилось какое-то время, пока мы поняли, что из наших семей не уцелело ни одного человека, кроме двоюродного брата Сташека и мужа моей тети, и что мы остались только двое друг для друга из тех людей, кого мы когда-то любили.
Один раз, когда мы шли по улице, я вдруг остановился:
– Кто был с нами, когда мы убивали того капо, что предал Хаимке?
– Не помню, – ответил Сташек, продолжая идти. Мы молча шли рядом, каждый со своими мыслями, пока Сташек не сказал, не замедляя шага:
– Я не помню, чтобы мы кого-то убивали.
И больше мы не возвращались к этой теме. По прошествии еще долгого времени я видел перед глазами Цыгана и Готека, но не мог вспомнить, почему они совершали этот акт возмездия над Фельдманом вместе с нами, только выражение их лиц, которое было точно таким же, как в течение всех месяцев до самого окончания войны. Цыган исчез первым. В тот день мы еще видели его бродящим по лагерю, а после этого он исчез. На Готека мы время от времени наталкивались: он постоянно прогуливался около кухни в истрепанной одежде, но в отличных ботинках. Как-то утром мы узнали, что он искал нас, чтобы попрощаться перед уходом, и поскольку не нашел, просил передать нам привет. Временами я интересовался им, спрашивал о нем людей, которые его знали. Кто-то рассказал, что он вернулся в свою деревню в Польше и был убит сыном крестьянина, семья которого оставила ему на хранение столовое серебро. Другой рассказывал, что Готек покатил в Финляндию и женился там на христианке. А однажды я стоял возле окна в министерстве внутренних дел в Тель-Авиве, и мне показалось, что я увидел его пересекающим тротуар, показалось даже, что на нем те же ботинки, что он взял в бараке номер три. Но, когда я выбежал на улицу, он уже пропал.
Той осенью, после освобождения, меня вдруг атаковали болезни, как будто мое тело больше не в состоянии было сдерживаться, и вся боль, что копилась в нем в течение стольких лет, разом высвободилась. В полудреме я видел Хаимке, сидящего на веревочных качелях, раскачивающегося с бешеной силой, и Фельдмана, распростертого у его ног, и их обоих, манящих меня к себе.
– Я умираю, – сказал я Сташеку, всю ночь бодрствовавшему у моей постели.
– Ты идешь на поправку. У нас есть лекарства, есть и еда. Завтра я работаю. Я устроил так, что кое-кто придет посидеть с тобой.
– Я думаю, что не выживу, – сказал я. – Хаимке зовет меня.
– Хаимке терпеливо подождет нас обоих. Сейчас я зову тебя. Ты у меня в долгу. Сейчас ты должен жить для меня.
На следующий день накормить меня пришла Милка. Целую неделю она сидела и вытирала мне лоб. Между видениями горячечного бреда, днем и ночью, когда бы я не открыл глаза, я видел ее лицо, склонившееся надо мной, и только лицо моей мамы было таким же красивым, как ее. Приходя в себя, я следил из-под полуприкрытых век за молодой женщиной, легко, словно сказочная фея, двигающейся по комнате, ставящей кастрюлю на печку в углу; пробующей с серьезным выражением лица суп; отмеряющей чайной ложкой лекарство перед тем, как дать его мне; стоящей возле окна и зашивающей занавеску, распоровшуюся по шву – ее пальцы, вытягивающие нитку, были прекрасны, как бабочки на фоне света.
– Милка, – сказал я ей как-то раз (прикосновение ее пальцев к моему лбу творило со мной чудеса), – мне кажется, что счастье начало улыбаться мне. Где Сташек нашел тебя?
Ее глаза прищурились в смехе, и она сжала губы, как будто решила сохранить секрет.
– Почему ты смеешься?
– Потому что не он нашел меня.
– Что это значит?
– Я его нашла.
Я пал духом. Закрыл глаза.
– Если бы ты не был таким наивным, ты бы помнил, что мы уже встречались, – ворвался ее голос в темноту перед моими глазами.
Я не ответил. Ее загадки были мне не по силам.
– В комнате Гени Бразовской.
Она не позволила моему молчанию остановить ее признание.
– В комнате Гени?
– Ты уже тогда выглядел достаточно больным.
– Ну и что дальше?
– Тогда я поинтересовалась, кто ты, и сказала Сташеку, что, если ты заболеешь и ему будет нужна помощь, чтобы он позвал меня.
Я открыл глаза: захотел увидеть ее лицо после того, что услышал то, что, как мне показалось, услышал.
– Что это значит?
– Если бы ты не был таким наивным, то попробовал бы догадаться, – рассмеялась она.
– Что я симпатичен тебе, – осмелел я.
– Если бы ты не был таким наивным, ты бы понял, что из-за тебя я отказалась от поездки в Израиль.
Я снова закрыл глаза. Если бы я знал все эти годы, что там, в конце войны, будет Милка, то одного ожидания ее руки было бы достаточно, чтобы вернуть меня к жизни. Годы голода, холода и скотской работы были прожиты мной, как Яковом, ожидающим Рахели. С тех пор Хаимке перестал мне сниться. И три недели спустя, когда Милка пришла в мою постель, мы оба поняли, что я выздоровел.
Той же ночью она убедила меня ехать в Израиль. На следующий день, когда Сташек вернулся с работы, он уже застал нас с Милкой за подготовкой к поездке в Израиль. Сташек, который всего миг выглядел растерянным, посмотрел на Милку испытующим взглядом, как будто искал у нее подтверждения чего-то, но она была занята документами, лежащими на столе, и его лицо тотчас же приняло обычное выражение. Мы сидели с ним вместе и договорились, что Милка и я поедем первые, а он обещал, что поедет вслед за нами, когда закончит полученную работу.
На железнодорожной станции мы обнялись. Мы были уже привычны к расставаниям и все же не удержались от слез. Тогда я не знал, что мы плачем вовсе не об одном и том же. Мое сердце, переполненное чувствами к Милке, ничего не говорило мне о Сташеке. Я пообещал ему:
– В нашем доме, даже если он будет размером метр на метр, всегда найдется место, чтобы поставить кровать для тебя.
Почему он поехал в Америку, он не рассказал. Милка как-то раз сказала, не вдаваясь в подробности:
– Если бы ты не был таким наивным, ты бы видел больше.
Спустя годы мне стало понятно: какое-то темное дело было между ним и американским солдатом. Когда меня вызвали в Америку, в больницу, где он лежал и захотел меня увидеть, он смеялся и намекал на клад, который провез контрабандой в Америку, причем часть его досталась американскому солдату, помогавшему ему. Я хранил этот секрет вместе с другими похороненными между нами тайнами.
В Америке Сташек быстро преуспел и письмо за письмом уговаривал меня приехать и стать его компаньоном. В длинных и подробных письмах он описывал прекрасную жизнь, ожидающую нас. Как мы будем ездить на уикенд в Кони-Айленд сидеть около воды в специальных пляжных креслах – в скобках, на полях письма нарисовано низенькое кресло, тканное сидение которого мягкое, как у гамака – как поедем в парк аттракционов – в скобках, на полях письма нарисовано огромное колесо, где люди сидят на самом его верху и один из них говорит (его слова написаны в пузыре, выходящем у него изо рта): «Есть рай и в этом мире». К письму был прикреплен чертеж квартиры, которая освободилась и находится возле его квартиры. В ней две солнечные комнаты, лучше которых для детей не найти. Я бы не задумываясь поехал за ним в Америку, если бы не Милка, которая была признательна ему за то, что устроил нашу встречу, и благодарна за постоянно отправляемые посылки с кофе, сладостями и одеждой, но всегда читала его письма с напряженным лицом, нескрываемой подозрительностью, словно оценивая противника.
Сташек приехал из Америки в честь празднования бат-мицвы моей старшей дочери. Весь дрожа, с дочерьми по правую и по левую сторону от меня, держащими по букету цветов, я ждал его в аэропорте и увидел, как он приближается: высокий мужчина в костюме, цилиндре, с двумя чемоданами в руках. Я чуть не потерял сознание в его объятиях. Пятнадцать лет я не видел его. Всю дорогу в такси мы держались за руки, как жених с невестой, а мои дочери, сидевшие за нами, посмеивались, переглядывались и видели, как нам трудно говорить и как я глотаю слезы. Дома он обнялся с Милкой, поставил один из чемоданов к ее ногам и сказал ей:
– Это все для вас.
И на все то долгое время, пока они втроем вынимали одежду, и обувь, и скатерти, и постельное белье, и бусы, и тесьму для волос, мы закрылись в соседней комнате и шепотом, со смехом напоминали друг другу разные случаи из нашей жизни – и лишь о человеке из Ченстохова не сказали ни слова.
Ночью мы уложили его на свою кровать в салоне, а сами теснились все четверо в комнате дочерей.
На следующий день я пригласил его в свой магазин и с гордостью показывал ему полку за полкой, объясняя изобретенную мною систему распределения товара по полкам и прозрачных ящичков на них, в которые я поместил шурупы и гвозди.
– С магазином все в порядке, – сказал он, – но вот с квартирой…
– Что?
– Слишком мала.
– Мала?! – переспросил я обиженно.
– Для вас она не мала, – быстро добавил он, но если я снова захочу навестить вас, у меня должна быть комната.
Несколько дней он крутился в городе без меня и в один прекрасный день привел нас с Милкой в офис маклера по квартирным делам, который предложил нам на выбор несколько просторных квартир, где кухни и ванные комнаты были выложены цветным кафелем. Милка сидела между нами, и ее глаза блестели, когда маклер описывал усовершенствования на кухне, особенную мраморную столешницу, приподнятую со всех сторон, чтобы вода не могла попасть в шкафчики, а Сташек смотрел на Милку и улыбался. Еще на той же неделе мы пошли в банк, и Сташек положил на мой счет задаток. После этого он поставил свою подпись на специальных бланках, чтобы ежемесячно осуществлялся перевод долларов на мой банковский счет.
– Сташек, – сказал я ему, когда мы вышли, – я верну тебе деньги сразу же, как только у меня будет…
– Когда у тебя будет, купишь квартиру дочерям.
– Но ты дал мне слишком много. Я не могу принять…
– Что ты раздуваешь из этого целое событие? В конце концов я лишь купил комнату для себя.
– Все же, – настаивал я, – мне неудобно брать у тебя…
– Неудобно?! – воскликнул он. – А если бы у тебя было, ты не дал бы мне? Есть ли у меня еще в целом мире кто-нибудь ближе тебя после всего того, что мы испытали вместе? Неужели увидеть тебя в новом доме не обрадует меня больше, чем несколько долларов, лежащих в банках гоев?!
А через восемь лет мы вдвоем, закутанные в огромный талит, привезенный из Америки, отплясывали на свадьбе Леи, обнимая друг друга за плечи, пьяные от радости, кричащие друг другу в ухо, носящиеся среди людей, как две большие птицы с прижатыми головами. Из конца в конец зала мы, словно существо о четырех ногах, двигались вместе между людьми и столами, шестами хупы, стоящей в центре зала, и не заметили, как все гости остановились на своих местах, провожая нас глазами со всех концов зала, пока Милка не протиснулась между нами:
– Прекратите этот спектакль, люди уже начали смеяться над вами.
Еще через пять лет после свадьбы Леи с ним случился сердечный приступ. Его жена позвонила и через переводчика попросила, чтобы я срочно приехал к нему в больницу. Все долгие часы в самолете я молился, чтобы он держался. В аэропорте меня ждала его жена, американская еврейка, разговаривающая только на английском, и возле нее переводчик, мужчина с бородой, говорящий также на идише. Они спешно повезли меня в больницу.
Всю ночь я сидел около его кровати и молился. Никогда еще я не молился так страстно и поражался, из каких глубин моя память извлекает эти древние молитвы. Ночью он схватил меня за руку, лицо его было бледным, словно на него наложили грим.
– Шлоймеле, ты помнишь барак номер три?
– Что?
– Там не было окна.
Он заснул, проснулся снова только перед утром и обхватил мои пальцы:
– Ты помнишь того, из Ченстохова?
– Спи, – я укрыл его. – Тебе приснилось.
Телефонный звонок заставил меня подскочить в кресле. Все тело болело от долгого сидения. В телефонной трубке послышался голос Сташека, бодрый и энергичный:
– Ну, можно поднять бокал и сказать «лехаим»?
Я сказал надломленным голосом:
– Сташек… Я не знаю…
– В чем дело? Что случилось?
– У меня нехорошее предчувствие…
– Почему?
– Жених… – сказать то, что я знал, у меня не поворачивался язык.
– Что с ним? Он старый?
– Да нет…Молодой, приятный…
– Так что же?
– Я не знаю…
– Безработный?
– Нет, он работает… Заканчивает диссертацию…
– Ну, тогда что?
– Сташек… Ты помнишь день, когда нас освободили?
– Разве можно забыть такое? – сказал он. – Даже мертвые помнят.
– Ты помнишь… барак номер три…
Его голос вдруг стал чужим:
– Что с ним?
– Человек, которого мы…
Линия в Бруклине как будто оборвалась. Я подождал мгновение и крикнул:
– Алло, алло Сташек… Ты слышишь меня?
На линии повисла странная тишина.
– Сташек, – молил я, – скажи хоть слово, ты меня слышишь?
– Я здесь, – голос его был безучастным.
– Ну, так вот, я думаю, что это был…
– Ты думаешь слишком много!
Я почувствовал, что он заставляет себя говорить.
– … его дядя, Сташек. Это был его дядя.
– Кто тебе сказал?
За его твердым голосом я чувствую беспокойство.
– Я знаю, что и ты боялся. Все эти годы меня не оставлял страх… что в какой-нибудь день… в какой-то день…
– Кто тебе сказал, что это его дядя? – крик уже явно скрывал волнение.
– Он немного рассказывал, его семья из Ченстохова, Фельдман. Фельдман из Ченстохова, Сташек. И его лицо, и ухо… Он так похож…
– Ухо? По уху ты определяешь такие вещи? Это может быть кто-то совершенно другой! Фельдман – самая распространенная фамилия, какая только существует. Лично я знаком, наверное, с тридцатью Фельдманами! А в Израиле есть, наверняка, десятки тысяч! И знаешь, если искать сходство, то я похож на моего чернокожего работника!
– Из Ченстохова…
– Ченстохов! Это сейчас мода такая здесь! Каждый говорит, что он из Ченстохова!
– Сташек, – мой голос снова надломился, – что нам делать?
– Что значит, что нам делать? – Его голос гремел, пересекая океан, разрываясь в моем ухе. – Наша Рохале выходит замуж! Мы устраиваем свадьбу!
В последующие дни я готовлюсь к свадьбе моей старшей дочери. А по ночам меня одолевают кошмары. Снова и снова я вижу змейки крови, ползущие в ухо человека, лежащего на полу барака номер три. По утрам я с красными глазами блуждаю по улицам, словно лунатик, иду купить себе новые туфли, отдать в сухую чистку костюм, который одевал на свадьбу младшей дочери, высматриваю в витринах праздничную рубашку. Вечерами я обхожу дома немногих друзей и вручаю им приглашение на свадьбу, извиняясь за его простоту. Друзья пристально смотрят на меня, и я пугаюсь, словно они могли прочесть мои мысли. Действительно, одна из женщин говорит:
– Ты волнуешься, а? Счастлив? Это видно по твоим глазам.
Дочь и ее жених заняты, и я рад, что не должен встречаться с ними. В шабат, за две недели до свадьбы, дочь готовит праздничную трапезу и приглашает родителей и сестру жениха, чтобы познакомить их со мной. По телефону мы договариваемся, когда ее жених заедет за мной, чтобы отвезти на их квартиру. Но силы мои иссякают. За два часа до того, как он должен был выехать с места стоянки, я извиняюсь перед ними по телефону, объясняю, что уже в течение некоторого времени чувствую себя неважно, но не хотел их волновать. Рахель посылает мне по телефону поцелуй, заставляет меня пообещать, что завтра я пойду к врачу, обещает сберечь для меня фруктовый компот, приготовленный по маминому рецепту. Я со вздохом облегчения кладу трубку. Хочу видеть только Сташека.
Сташек приехал за день до свадьбы. В телефонном разговоре мы условились, что я не буду ждать его в аэропорте и что он приедет ко мне на такси. Я почувствовал его приближение издалека, как собака, которая была у нас, когда дочери были маленькими, когда открылась входная дверь дома, четырьмя этажами ниже моей квартиры. Я ждал его в дверях, и когда он подошел, мы обнялись и долго стояли там, как прикленные друг к другу, не произнося ни звука. Устав от перелета и путаницы во времени, он спал до самых сумерек в комнате, которую называл своей, а вечером безапелляционно пригласил меня в кафе, в котором мы сидели в прошлый раз и смотрели на лодку с развевающимся на ветру зеленым флагом, плывущую параллельно берегу.
То кафе мы не нашли и посидели в другом, большинство посетителей которого составляли старики из соседнего дома престарелых. Лодок в море не видно было, и почти все время мы глядели друг на друга. Мне уже шестьдесят девять, а Сташеку – семьдесят два. Большую часть жизни мы прожили, и океан разделяет нас, и все-таки нет на свете человека ближе мне, чем он. И жена моя, Милка, которую я не переставал любить и после ее смерти, и дочери не могли занять в моем сердце место, сохраняемое для него. С течением времени наши силы убывают, а союз между нами обоими все крепнет.
– Трудно тебе одному? – спрашивает он.
– С одиночеством я справляюсь, тяжело без Милки.
– Вы отлично жили вместе, – мне кажется, что я слышу в его голосе нотку зависти. – Этого мне не пришлось испытать в своей жизни.
– Но твоя жена…, – лепечу я.
– У меня было много женщин, – он грустно улыбается. – Всегда было – ты знаешь.
– Да…
– Я и в Милку был немного влюблен – сейчас уже можно сказать об этом. После войны.
Кусок торта застревает у меня в горле, а он видит выражение моего лица и улыбается:
– После войны было легко влюбиться.
Внезапно какое-то отчуждение промелькнуло между нами, и испуганный, я сказал:
– У меня к тебе просьба, Сташек.
– Ну, послушаем.
– Я хочу, чтобы мы вместе купили двойную могилу в Израиле.
– Но Милка была твоей с самого начала, чтобы у тебя не было никаких дурных мыслей на этот счет.
– О чем ты? Какие у меня могут быть мысли?!
– Милка была только твоей, но Леяле и Рохале были чуточку и мои, это так. В Америке, когда, бывало, меня спрашивали о детях, я говорил, что у меня еще две девочки в Израиле.
– Ты не слышал, что я тебе сказал? – Я не знаю, что делать с его словами о Милке.







