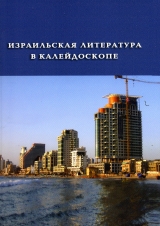
Текст книги "Израильская литература в калейдоскопе. Книга 1"
Автор книги: Эфраим Кишон
Соавторы: Меир Шалев,Хаим Нахман Бялик,Варда Резиаль Визельтир,Яир Лапид,Бат-Шева Краус,Михаэль Марьяновский,Этгар Керэт,Савьон Либрехт,Томер Бен-Арье,Орли Кастель-Блюм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Мамин альбом
«От скверных времен, – поймал себя доктор Иегошуа Хушан размышляющим на пути к своей машине, – от скверных времен не остается ни одной фотографии. Словно торопятся увековечить светлые дни, прежде чем они промелькнут, сохранить на глянцевых полосках бумаги образы, как завещание, запечатленное в фотографиях: вот, так должно быть. И если люди изменят что-то по своей воле, другие насильно вырвут их из воспоминаний».
Перед тем как положить альбом с фотографиями в багажник, он с удивлением отметил, что на каждом снимке одежда всех троих всегда в полном порядке и обувь начищена, бусы на шее у его мамы в точности посередине декольте и пояс платья закреплен и расправлен. Отец стоит прямо, и две складки сбегают по длине рукавов его накрахмаленной рубашки, и носки на ногах мальчика всегда красиво подвернуты, касаясь верха ботинок, а пробор сбоку его головы всегда ровный. В большинстве случаев он на руках у мамы или у папы, а когда подрос, стоит между ними, держа их за руки. И все трое широко улыбаются, словно силясь убедить фотографа в своем счастье.
Спустя немного времени дежурный врач в первый день своей работы поставил машину в месте, предусмотренном для дежурного врача, вынул из багажника сумку и альбом с фотографиями и с чувством гордости и почтения прошел по опустевшей территории больницы, зажав под мышкой альбом и глядя на освещенные окна кабинетов сестер.
В кабинете дежурного врача старшая сестра протянула ему чашку кофе.
– Что, замотались? – улыбнулась она. – По своему опыту знаю, что во время первого дежурства ни одному врачу не удается уснуть, – она рассмеялась. – В последующие же дежурства их не добудишься.
Он не поддержал ее смеха и предположил, что она сейчас затаивает на него обиду за это.
– Нет. Я хочу проверить несколько историй болезни.
– Сейчас? – взгляд женщины, привыкшей подозревать странности.
– Да.
– Вы хотите читать медицинские карты сейчас?
– Именно.
– Пожалуйста, – она пожала плечами, удивление в ее глазах возросло.
Уже через мгновение, после того как дверь за сестрой затворилась, в его руках оказалась медицинская карта, и он вглядывался в чем-то знакомое, но одновременно и чем-то чужое имя, написанное небрежными буквами, и с этим именем всколыхнулось воспоминание о родителях, спешивших запечатлеть лучшие дни, перед тем как их поглотят скверные, приглашавших фотографа также в периоды нужды, словно преступники, планирующие заблаговременно свои козни.
Сейчас он раскрыл альбом, что перед ним: на верхнем снимке на первом листе он в воротах детского сада; глаза сияют, мешочек для еды стянут шнурком, выполненным вручную, тянущимся наискось от плеча к бедру, маленькие пальцы обхватывают свернутую в трубочку бумагу, которую воспитательница послала его маме, и записка в форме сердечка прикреплена к выглаженной рубашке как раз в том самом месте, на котором обозначено сердце на рисунке в энциклопедии. А на среднем снимке, годом позже, мальчик уже подрос, стоит возле металлических ворот школы, ремешки ранца врезаются в плечи, мешочек для еды новый, побольше размером, сшит из ткани от его старых брюк, касается бедра; его смущенные глаза обращены на фотографа, долго регулирующего линзы, и на детей, посмеивающихся и теснящихся вокруг него.
В нижней части листа поездка к морскому побережью в Тель-Авиве, запечатленная на снимке, который был сделан незадолго перед тем, как горизонт омрачился и внезапный дождь исхлестал и промочил их, и мама расплакалась – здесь же день все еще прекрасен, и на заднем плане рыбак с удочкой перед морем, испещренным пеной. На фотографии также его отец, может быть, в последний раз поднявший сына на плечи, и мама, после того как проворными пальцами привела в порядок волосы мальчика, стоит неподвижно, и по ее позе заметно, что каблуки туфель слишком высокие, а ремешки их чересчур затянуты.
И вот спустя годы, через много времени после того, как они перестали фотографироваться, и он уже подросток, она в замешательстве смотрит на него выцветшими глазами, волосы растрепаны, кожа лица сморщена, лежит на кровати со сбившимися простынями, в конце отделения; бегущая строка «министерство здравоохранения… министерство здравоохранения… министерство здравоохранения» разделяет ее затылок и плечи в том месте, где прежде был замочек ее бус.
И еще много лет спустя после этого, когда он впервые стоял возле ее кровати во время врачебного обхода, сопровождая заведующего отделением вместе с другими студентами, окружившими ее кровать. Сердце его разрывалось, и он знал, что настал час испытания, и все, что он сделал в своей жизни до того, вело к этому мгновению: заведующий отделением внимательно просматривает историю болезни, говорит деловым тоном: «Вот перед нами здесь яркий случай психической депрессии». И вопль возле него, грозящий разорвать тело кричащего: «Господин профессор, она не случай… и в ее медицинской карте есть неточность: она родилась не в тысяча девятьсот пятнадцатом году – она родилась в тысяча девятьсот двадцать четвертом! И во время войны она не…»
Голос мгновенно умолк. Ее глаза перестали скользить по лицам людей, стоявших вокруг ее кровати, и остановились на нем, пугающе расширившись, ее рот пришел в движение, но ни звука не выходило из него. Профессор вложил медицинскую карту сестре под мышку, взял другую карту, которую она ему с готовностью протянула, и повел группу студентов к соседней кровати. Иегошуа все время чувствовал взгляд, сверливший его спину, вперенный в него, когда он вместе с другими переходил от кровати к кровати, и он волновался: у нее перемешались все образы? Дело идет на лад? Ее положение скверно?
Выходя, он быстро обернулся к кровати, что возле окна, желая успокоить ее, пообещать ей взглядом, что с этого момента он будет заботиться о ней здесь. Для этого он год за годом добивался поступления в медицинскую школу и не отчаивался, когда был старшим среди экзаменующихся – со своего места он увидел, что она заснула, рот раскрыт, лицо повернуто к окну.
После врачебного обхода он сидел в лекционном зале и не слышал ни звука из заключительного слова профессора, и лишь одна фотография, цветная, единственная, приклеенная на целой странице альбома, стояла перед его глазами.
Сейчас он перелистал альбом и нашел ее, приклеенную на предпоследнем листе – последнюю фотографию. После этого пришло письмо из Америки и они перестали позировать перед фотокамерой. Родители еще старались скрывать от него надвигающуюся бурю, разговаривали по ночам, когда думали, что он заснул, спорили шепотом на польском языке, который будоражил его воображение и звучание которого напоминало ему на слух змеиное шипение. И он подстерегал их в темноте, с силой сжимая край одеяла, не понимая слов, но чувствуя угрозу. В то время каждый раз, когда Иегошуа проходил вблизи отца, тот протягивал руку и нежно гладил его по голове, и Иегошуа неожиданно увидел его глаза увлажненными. А один раз схватил мальчика и прижал его к себе, передав ему дрожь своего тела, как от удара током.
Но на той цветной фотографии – письмо с красивой маркой из Америки, несомненно, в то самое время пересекало океан, вложенное в пакет в чреве судна, – на цветной фотографии, единственной, приклеенной на целой странице, его мать и отец со сплетенными руками стоят за спиной мальчика, как стена; их плечи касаются друг друга, и Иегошуа, с саженцами между ладонями в Ту-бишват[18]18
Ту-бишват – праздник нового года деревьев в Израиле, во время которого принято сажать деревья.
[Закрыть] пытается, насколько возможно, вытянуть руки вперед, чтобы ветки не щекотали ему нос.
А после этого пришло письмо из Америки, и Иегошуа в деталях рассмотрел красивую марку, лицо его отца в один день помрачнело, а мама на краю супружеской кровати не сдерживала плач и днем. Иегошуа, часами предоставленный в те дни сам себе, стал дольше рассматривать фотографии в альбоме, задерживаясь на одной из тех немногих, где они не стояли в один ряд перед фотографом: отец, растянувшийся на островке травы, мама с подобранными под себя ногами, сидящая сбоку от него, в ее руке колосок, и она шаловливо водит им по подбородку мужа. Возле них сидит их соседка Елена, которая во время их прогулок всегда приносила голубцы, уложенные в плоскую алюминиевую кастрюлю. Сзади, на веревке, спускающейся с дерева, раскачивается Иегошуа, висящий, как обезьяна.
Через несколько недель после того, как пришло письмо, мама начала разговаривать с ним на польском. Сначала он испугался: «Мама, что ты говоришь?» Потом понял: не с ним – она разговаривала сама с собой. Она говорила до странности быстро, бродя по комнате, останавливаясь против шкафа и опустошая полки и ящики, вынимая вещи отца и складывая их в кучу посреди комнаты: брюки, носовые платки, галстук, праздничный костюм, войлочную шляпу, направляясь в ванную и на кухню, неся его бритвенные принадлежности, старые курительные трубки – извлекая его вещи из каждого угла в доме и добавляя их к куче: ящик с рабочими инструментами, гармоники, газетные вырезки, книги о Варшаве, веревки, которые он старательно собирал, сматывал в клубки и прятал в торбочки. Потом она принесла из кухни коробок спичек, зажгла и бросила на кучу в середине комнаты, крепко сжала руку Иегошуа, и они оба сидели и смотрели, как языки пламени поглощают вещи. Ее глаза, казалось, тоже горели, когда она сидела возле огня и смотрела, и он, совершенно не боясь, ответил ей пожатием руки и с любопытством следил за маленькой полоской огня, которая пустилась в путешествие и опалила воротник рубашки, рукав, веревку, намотанную вокруг рукоятки молотка, отвороты ткани брюк. И пока соседи подняли шум и ворвались внутрь, потолок комнаты был уже закопчен и многочисленные ведра с водой не спасли положение.
В день, когда его мать забрали в больницу, Елена осталась помочь ему упаковать вещи. С серьезным лицом она укладывала в чемодан одежду, которую нашла, а он добавил сверху альбом с фотографиями. До прихода человека из бюро она сидела с ним, успокаивала, записала на измятом конверте свое полное имя и адрес, чтобы он мог написать ей со своего нового места, и сказала, что, разумеется, ему подыщут хорошее место, пока его мама вот-вот выздоровеет, папа вернется, закончив свои дела в Америке, и все трое снова будут жить вместе. Она обещала ему, что тем временем будет присматривать за их квартирой, уберет обгоревшие вещи, пригласит маляра покрасить потолок и стены и каждые два дня будет раскрывать окна и жалюзи. Иегошуа силился слушать ее и все время чувствовал запах голубцов из ее рта; в нем проснулся голод, но ему казалось неприличным думать о еде в такое время, поэтому он собрался с силами и слушал, как она описывала, каким образом будет следить за квартирой и особенно как она завернет получше радиоприемник, чтобы туда не попала пыль и не забила тонкие трубочки внутри него.
В тот вечер мальчика привезли в кибуц. На входе в детский корпус его и сопровождающего его человека ждала полная воспитательница, которая взяла из рук Иегошуа чемодан, положила под его кровать и представила новичка трем его товарищам по комнате, имена которых ему было трудно запомнить. Всю ночь он сдерживал плач, а утром спросил воспитательницу, когда приедет мама забрать его; та положила ладонь на его затылок и сказала, что сегодня будут учить также английский язык, а для него еще нет учебника.
В классе он сидел тихо, его глаза следили за «конским хвостом» учительницы, когда она писала на доске слова на английском языке. В конце занятий он отыскал воспитательницу и спросил, когда приедет мама забрать его, и она обещала выяснить. После полудня он достал из чемодана альбом, отобрал десять лучших фотографий и прикрепил к стенке возле своей кровати. Тотчас около него собрались дети и смотрели, и в последующие дни, когда он входил в комнату, иногда обнаруживал кого-нибудь из детей, стоящим и украдкой рассматривающим его фотографии. А одна девочка, не испугавшись его неожиданного прихода и даже не извинившись за то, что стояла на его подушке, чтобы получше рассмотреть, сказала: «Когда я буду большая, у меня будут цепочки и полно одежды, как у этой».
На той же неделе Игаль и Нехама стали его приемными родителями. Как-то раз после полудня Нехама принесла в их комнату и поставила перед ним чай и пирожки с повидлом, а Игаль посмотрел на него и сказал: «Следующего теленка, который родится, мы назовем Иегошуа, в честь тебя. Что ты скажешь на это?»
Иегошуа подумал и согласился. Нехама рассмеялась и сказала: «Проверь хорошенько, чтобы Иегошуа назвали теленка, а не телочку. Иногда они ошибаются там, на ферме».
Когда Нехама увидела фотографии на стенке над его кроватью, она побоялась, что кто-нибудь из детей захочет их, и спросила Иегошуа, согласен ли он снять их; он подумал и согласился. Вместе они осторожно сняли их со стенки и вернули в альбом, который Нехама назвала «мамин альбом», а Иегошуа запротестовал: «Но это также и папин альбом, и мой». Нехама спрятала альбом в свой шкаф, позади полотенец, и, когда он просил, доставала и давала посмотреть. Тогда они сидели вместе и восхищались одеждой его матери и красивыми локонами на его голове. К листам добавился новый запах, запах листьев мирта, которые Нехама хранила между полотенцами. Через некоторое время он уже с трудом воссоздавал в воображении запах мамы, и по мере того, как запах исчезал, мальчик уже сам настаивал на названии «мамин альбом».
Иногда Нехама брала его навестить мать. Им всегда нужно было хорошенько выяснять и проверять имя, написанное на карточке возле кровати, потому что каждый раз мать выглядела по-другому. Он целовал женщину и когда почти не узнавал ее, а она смотрела на него пронзительным взглядом, словно пыталась разгадать загадку. Однажды она долго смотрела на него, упала на колени и начала рвать простынь, покрывавшую матрас. Сестра поспешила прийти со шприцем в руке, и мать обхватила сестру руками с набухшими жилами, и все ее тело дрожало. Когда дрожь прошла, сестра вернула ее в кровать, успокоенную и ослабевшую, и сказала Нехаме, которая все время стояла, обняв Иегошуа: «В последнее время она была уже в порядке. Это нехорошо – приводить сюда мальчика. И для него это нехорошо. Ребенок в его возрасте не должен видеть свою мать в таком состоянии».
На обратном пути, в автобусе Нехама обхватила его голову руками и сказала: «Может быть, когда ты будешь большой, ты станешь врачом и сможешь помочь своей маме».
И он тотчас ответил, как будто дело решалось именно в этот момент: «Я не хочу быть врачом. Я хочу стать фермером, как Игаль». И когда они шли пешком от главного шоссе, добавил: «Я хочу также, чтобы меня звали по вашей фамилии. Не хочу больше ее фамилию». Нехама испугалась на мгновение, остановилась, внимательно посмотрела на него и сказала: «Ты должен помнить ее такой, какая она на фотографиях».
Во время своего первого армейского отпуска он стоял на входе в ее отделение, одетый в солдатскую форму, с запечатанной коробкой сладостей в одной руке и пачкой фотографий – в другой. Сестра оглядела его с подозрением:
– Она сегодня в неважном состоянии, – и преградила ему вход своим телом.
– Я ее сын…
– Нам неизвестно, что у нее есть сын.
– Потому что я не навещал ее несколько лет. В последний раз, когда я был здесь, она реагировала не очень хорошо, и сестра…
Она неохотно позволила ему пройти и со своего места следила за ним, глядя, как он дал больной запечатанную коробку, как она взяла ее из его рук, но не открыла, как он снимал обертку и подавал ей сладости и как она смотрела на него погасшими глазами и тогда, когда он раскладывал перед ней фотографии и спрашивал: «Это кто?» «Кто это?» И лишь при виде одного снимка больная распрямилась, лицо ее внезапно изменилось, в глазах зажглась искра, лоб разгладился и губы задрожали; тогда сестра вскочила со своего места и объявила о конце посещения.
– Я вдруг начинаю вспоминать массу вещей, – сказал он Нехаме тем вечером, когда они сидели рядом и она чинила его армейские брюки. Словно пробуждающаяся память матери передалась и его памяти. – Я помню, как однажды упал в лужу, грязь попала в глаза, она промыла мне глаза большим количеством воды, поцеловала их, чтобы я не мог их открыть, и сказала что-то вроде того: «Это не причинит тебе вреда. Это грязь страны Израиля». И еще я помню, что по ночам, когда мне было страшно, я звал ее, и она приходила и пела мне песни на польском языке; она говорила, что это грустные песни, но я смеялся из-за языка. А один раз она купила мне мороженое и хотела попробовать; я протянул руку, она наклонилась ко мне, и мороженое размазалось по ее носу – она ужасно смеялась.
– А ты не помнил всего этого раньше?
– Нет. Помнил только то, что на фотографиях.
– Она узнала что-нибудь на фотографиях, которые ты взял?
– Нет.
– Ты показывал ей фотографии?
– Да. Но она не разговаривала, только когда я показал ей снимок на берегу моря, она разволновалась, и тогда сестра выпроводила меня оттуда.
– Из всех фотографий все-таки эта, на берегу моря?
На берегу моря они трое обнимают друг друга, прижаты плотно, словно защищаются; ступни ног скрыты в песке, плечи блестят от воды. Его мать на этой единственной фотографии в альбоме, где ее волосы собраны и скреплены заколкой, придавая ее щекам выпуклость, и она совсем маленькая без туфель на каблуках, ее макушка на уровне подбородка мужа, на шее нет жемчужных бус, а рука протянута к горлу, как бы проверяя по привычке, на своем ли месте бусы. Отец без одежды, выглядит более худым, чем на других снимках, и плечи расправлены; он прищурил глаза из-за солнца, одной рукой обнимает плечи жены. Между ними радостный Иегошуа, на лице широкая улыбка, обеими руками обнимает родителей за бедра, пояс его плавок очень высоко – касается груди.
В кабинете дежурного врача доктор Хушан перевернул картонную обложку медицинской карты и прочел данные, записанные в соответствии с принятым порядком: имя, место рождения, год рождения, диагноз: перед нами женщина, родившаяся в тысяча девятьсот пятнадцатом году… страдает от продолжительной психической депрессии… травма… состояние подавленное… и боязнь быть покинутой… Он медленно переворачивал страницы, исправил ошибочный год рождения, вернулся и прочитал заключение врачей и психолога.
Долго читал написанный сухим языком отчет врачей: ее история: родилась в Лодзи, старшая из четырех девочек… К концу войны их перевезли в тайник на ферме, в деревне недалеко от Радома… Опасаясь доноса одного из соседей-христиан, семья была вынуждена оставить тайник. Хозяин фермы согласился оставить только ее, так как в тот день она была больна. Неясно, была ли попытка изнасилования, но согласно тесту, у нее присутствует боязнь насилия. По ее словам, у нее не осталось из семьи никого. После войны она встретила мужчину, уроженца Польши, они поженились и в тысяча девятьсот пятьдесят первом году эмигрировали в Израиль. У них родился один сын. Болезнь разразилась, когда ей стало известно, что муж еще перед войной был женат. Его жене, которая находилась у своих родителей в Любляне, удалось пересечь восточную границу, и во время войны она жила в России. На вопрос, почему ее муж не рассказал ей о своей жене, обследуемая разрыдалась. Это был единственный раз, когда она плакала во время осмотра. После войны первая жена поехала в США, искала своего мужа и нашла его в Израиле. Муж оставил больную и их сына и отправился в США. Больная утверждает, что он поехал из-за угроз своей первой жены и обещал сразу же вернуться в Израиль, но не вернулся и даже не поддерживал связь с ней и с мальчиком. После того, как она была госпитализирована вследствие попытки поджога, мальчик был направлен в кибуц. У больной в Израиле нет родственников, которые могли бы подтвердить рассказанное ею, и все детали записаны с ее слов и со слов ее соседки Елены Голц. В первые годы она была помещена в закрытое отделение… Лечение: д-р Шимшони рекомендовал амитриптилин в дополнение к фенотизину. При осмотре, проведенном д-ром Гриншпахом, были обнаружены признаки, свидетельствующие о хронической шизофрении, расстройстве мыслительной деятельности, социальной несовместимости и эмоциональной апатии…
Доктор Иегошуа Хушан вынул из альбома снимок и осторожно прикрепил его к внутренней стороне обложки истории болезни. На миг он засомневался: обычно в картах больных снимков нет. Под фотографией он написал: «Пожалуйста, не отрывайте,» – и подчеркнул написанное.
С минуту, прежде чем закрыть карту и вернуть ее на место, он смотрел на фотографию и почувствовал облегчение, как будто из его тела была вырвана опухоль, которая годы пускала корни во всех его органах. Потому что она хотела, он знал это, чтобы ее помнили именно такой. Одетая в дорожный костюм с приподнятыми плечами, воротник белой шелковой блузки расправлен на жестком воротнике костюма, в декольте – бусы из жемчуга, голова поднята, волосы приведены в порядок, лицо свежее, взгляд красавца-мужа обращен в ее сторону; возле нее стоит мальчик, и его рука в ее руке.
Иегошуа приблизил глаза к снимку и пристально вгляделся в мальчика, словно увидел его впервые: его голова тоже поднята, волосы аккуратно причесаны, ноги, слегка раздвинутые, как ноги отца, твердо стоят на тропинке, он улыбается без принуждения по указанию фотографа, смелый взгляд направлен прямо в объектив, подбородок вызывающе выставлен вперед; два улыбающихся надежных человека стоят справа и слева от него, и он в безопасности между ними, радующийся навстречу грядущим дням.







