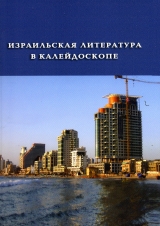
Текст книги "Израильская литература в калейдоскопе. Книга 1"
Автор книги: Эфраим Кишон
Соавторы: Меир Шалев,Хаим Нахман Бялик,Варда Резиаль Визельтир,Яир Лапид,Бат-Шева Краус,Михаэль Марьяновский,Этгар Керэт,Савьон Либрехт,Томер Бен-Арье,Орли Кастель-Блюм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– В самом деле, – пробормотала она, слушая эти его слова и обдумывая сказанное им ранее. И в это время кто-то подошел к ней и спросил:
– Вы мама Ривки? Честь Вам и хвала, что у Вас такая дочь, – и ее сердцу вдруг стало тесно в груди.
И тогда ей вспомнилось нечто, пришедшее из прежних времен и другого пространства. Ей было пятнадцать лет.
По субботам в синагоге она обменивалась взглядами с Моше Элькаямом, сыном ювелира, а потом опускала глаза. В женском отделении синагоги она протискивалась к деревянной решетке посмотреть на его руки, через которые проходит серебро, золото и драгоценные камни. Что-то возникло между ними без слов, и его сестра при встрече на улице приветствовала ее. Но когда пришел сват поговорить о ней и о Шауле Аварбанеле, она не посмела огорчить отца, который хотел в зятья знатока Торы и Талмуда.
Вечером, в одиночестве провожая ее в комнату, Ривка спросила:
– Ты ведь приехала вернуть меня в Иерусалим, верно?
Мать предпочла не отвечать, но через некоторое время передумала и сказала:
– Не делай глупостей.
– Я знаю, чего хочу.
– Твоя тетя тоже знала, когда была в твоем возрасте. И посмотри, какая жизнь у нее сейчас. Она переходит из дома в дом, словно кошка.
– Не беспокойся обо мне.
Виктория собралась с духом:
– Он сказал мне, будто бы ты не хочешь выйти за него замуж, это правда?
– Он так сказал тебе?
– Правда или нет?
– Правда.
– А почему?
– Я еще не уверена.
– И где же ты этому научилась?
– У тебя.
– Как это? – изумилась Виктория.
– Я не хочу жить, как вы с отцом.
– Как?
– Без любви.
– Опять любовь! – Она с силой хлопнула обеими ладонями по бедрам так, что они дрогнули. Жест негодования без гнева. Между тем они подошли к двери. Еще некоторое время Виктория раздумывала, сидя на кровати, застеленной вышитым покрывалом, потом услышала собственный голос, спрашивающий:
– А вечернюю молитву «Шма» ты произносишь перед сном?
– Нет.
– Не говоришь «Шма»?!
– Лишь иногда. Тихонько, так, что сама себя не слышу, – сказала Ривка, рассмеялась, поцеловала мать в щеку и добавила, как если бы успокаивала свою дочь:
– Не пугайся, если услышишь вой шакалов. Спокойной ночи.
Напротив лишенных растительности песчаных холмов, тянущихся в темноте за окном в виде расплывчатых линий, как будто на картине в раме, Виктория с большим усердием произнесла молитву за них обеих, и на ее сердце было тяжело по одной причине и легко – по другой: «… пусть не тревожат меня мысли мои, и дурные сны, и греховные помыслы; и пусть ложе мое будет совершенным пред Тобою, и верни свет глазам моим…»
А ночью ей приснился сон.
Во сне мужчина подходит к белым шторам, и она видит его со спины. Он отодвигает штору, и перед ним деревья райского сада: дерево жизни и дерево познания, и еще деревья, приятные на вид, в жестяных коробках с органическими отходами. Мужчина приближается к яблоне, на которой висят плоды, и одно яблоко падает и катится прямо ему в руки; вдруг оно уменьшается, превращаясь в зернышки. Виктория вглядывается и видит: драгоценные камни, золото и серебро пересыпаются горстями между его белыми пальцами. Внезапно мужчина поворачивается лицом, и это Моше Элькаям с огненными волосами, сын ювелира.
На всем обратном пути, когда она сидела, в глазах еще держался гнев, но сердце уже успокоилось. Ее корзина стояла у ног, а пакет с тяжелыми, как камни, яблоками, которые дал ей Дуби, – на коленях, и руки сжимали его сверху, чтобы яблоки не рассыпались. Она вспомнила, как дочь спросила ее: «Ты видишь, что все в порядке, правда?» – и ее пальцы на щеках матери; и его голос, произносящий: «Будет, сто процентов, будет, мама».
Всю дорогу она представляла, что скажет мужу и сестре. Может, усадит их напротив себя и расскажет им все, как было. Когда автобус миновал перекресток Ахим, она все еще обдумывала. Как ей описать глаза юноши при виде ее дочери своей сестре, никогда не знавшей мужчину? Мужу, который ни разу не коснулся ее с любовью? Когда вдали показались горы Иерусалима, она уже знала, что сделает. От сестры, читавшей ее мысли, она ничего не станет утаивать. Стянет завязанный на голове платок и шепнет ей на ушко, как они делали, когда были маленькими девочками: «Сарика, наша жизнь прошла в одиночестве, у тебя без – у меня с хупой[17]17
Хупа – праздничный балдахин, под которым стоят жених и невеста во время церемонии бракосочетания (иврит)
[Закрыть] и замужеством. Моя младшая дочь открыла мне эту истину. А мы, ты помнишь, как мы считали ее инфантильной, не оценили? Как я плакала о ней? Ни красоты, ни привлекательности, ни ума и таланта, высоченная, как Ог, царь Башана. Мы хотели выдать ее замуж за Екутиэля, и они еще делали нам одолжение, как будто дочь Аварбанеля не хороша для них. И посмотри на нее сегодня. – Тут она повернет голову и резко сплюнет, чтобы не сглазить. – Молоко и мед! И ум тоже. И все время смеется. Может, Бог даст, еще радоваться за нее будем».
А своему мужу, который никогда не понимал ее, она подаст яблоки в меду, упрется обеими руками в бока и громко скажет: «Не нужно волноваться за Ривку, ей хорошо там, благодарение Всевышнему. Скоро мы услышим от нее добрые вести. А сейчас попробуй это и скажи: яблони, цветущие летом, их сажают в органические отходы, и корни у них становятся маленькими – слыхал ли ты что-нибудь подобное в своей жизни?»
Мужняя жена
До тех пор, пока разводное письмо не легло на ее ладонь, Хана Равински не снимала свою свадебную фотографию со стены над изголовьем кровати. Так было в прошедшие годы и когда она и ее дочь входили и выходили через двери главного раввината – Моше и она со сплетенными руками над начищенным немецким комодом. Он, стройный и праздничный, глаза смотрят прямо, и она – прислонилась к его высокому плечу, и глаза светятся. Сейчас, начищая стекло, прежде чем положить снимок в ящик своего шкафа, она вдруг вгляделась в него, словно впервые. Подвенечная фата, взятая у фотографа, прежде показавшего фату ей, тройная нитка красивых бус над ней и кружевная полоска окаймляют ее, а сзади, в месте, не доступном фотокамере, было два нитяных кончика, спрятанных на затылке. Платье Моше купил ей в Варшаве у полячки из благородной семьи – та после войны продавала свои платья за доллары. По прямизне своих плеч она вспомнила, как гордилась тогда своим красивым мужем и прелестным платьем. Спустя два года фотограф снимет ее на улице Алленби в Тель-Авиве одну, в том же самом платье и с ребенком на руках. Ее набухшие груди будут выглядывать из-под краев ткани, расходящихся от пуговицы к пуговице, и тень в ее глазах будет свидетельствовать о том, что ничто больше не скрыто от них.
В то время, как она начищает часть стекла, прикрывающую ее лицо на снимке, ей вдруг становится грустно, что она была тогда так молода и погружена в грезы, признательная новому миру, который внезапно озарил для нее его лицо, и она уверена в красивом человеке, что возле нее.
– Все, – сказала она беззвучно, как человек, который прошел долгий путь и теперь хочет отдохнуть.
– Все, кончено, – бросила Пнина, стоя спиной к окну, выходящему на задний двор, опираясь обоими локтями на подоконник и вглядываясь в мать. – Ты должна была вышвырнуть его отсюда, не давать ему комнату, да еще самую большую, чтобы он жил здесь. Это не развод, это насмешка. Ты думаешь, что кончила с ним? Еще немного и ты услышишь его отсюда. Он, наверняка, станет притворяться перед тобой больным, – и она махнула ногой в воздухе в направлении стенки, граничащей с соседней комнатой.
Хана знала, как выглядит лицо дочери: две линии, тянущиеся от ноздрей к подбородку, и ее лоб, наморщенный в негодовании. Восемнадцать лет, а лицо, словно у много испытавшего человека. С того самого дня, как брыкающийся ребенок вырвался из ее живота, Хана напрасно пыталась рассеять ее скверное настроение.
– Я не могу вышвырнуть его, – тихо сказала Хана лицом к лицу, что на снимке.
Впервые она увидела его на центральной железнодорожной станции в Варшаве. Высокий и светлый, он был словно из фрески в церкви. Шумное место темных личностей и поездов цвета золы, выплевывающих беженцев на платформу. Некоторые из них опускались возле стен и не вставали. Другие сновали в толпе, высматривая потерявшихся родственников. Рядом со станцией собрались спасшиеся жители местечка Соснов, в квартире, которая в прошлом предназначалась для чиновников польского министерства транспорта. Он обратился к ней, назвав другим именем, повел ее на квартиру, и она пошла за ним, как будто прочитала будущее. В квартире она познакомилась с остальными. Как группа прокаженных, провели они там последующие дни. Они были косноязычными: предложения за предложениями выходили из горла с болью. Иногда они нащупывали дорогу друг к другу, пытались, как дети, учиться языку мира, который для них был сотворен заново. Были осторожными в словах, ощущали, словно открытую рану, звук голоса, прикосновение руки, настроение. И словно в противоположность этому, люди тянулись друг к другу, как слепые. Каждый вечер ставили хупу, и каждый их погибший был с ними.
Дело было в вечер свадьбы Аврама и Бины. Моше сидел на одеяле, которое расстелил на полу, и с ним несколько человек. Весь вечер Хана с места позади, где она сидела, не отрывала от него взгляда. Его спина была согнута, наклоненные вперед плечи с силой натянуты руками, крепко обхватившими колени; его затылок и благородные тонкие руки, как у юноши, который внезапно поражал своим возмужанием. Огромная жалость и удивительная нежность побудили ее ласково коснуться его спины, успокоить его чувство тяжелого отчаяния. И тогда он вдруг повернулся к ней, и его смеющийся рот произнес: «Поженимся?»
– Я не могу вышвырнуть его, – сказала она дочери снова. – Он живет здесь уже почти восемнадцать лет. Куда он пойдет?
– Пойдет туда, куда ходил до сих пор. Где он был все ночи, когда не спал дома. Пусть идет к своим женщинам, к своим друзьям-пьяницам, к картам.
В каждом месте, от Варшавы до Тель-Авива, к нему, как бабочки, тянулись женщины и с ними любители выпивки и карт. Даже в трудное время в его глазах была смешинка, и приятный запах исходил от его шеи, и отвороты одежды были белоснежными, а в кармане всегда находился шоколад. Когда они поселились в двухкомнатной квартире в Тель-Авиве, он не торопился найти вакансию. Утром он долго брился и шел на биржу труда, угощал служащего сладостями, сидел с ним и шутил. Однако подходящей работы для него не находилось. Спустя месяц после приезда в Тель-Авив, после того как она продала бусы – свадебный подарок Моше, Хана нашла себе работу в большом обувном магазине на улице Кинг Джордж и обеспечила их пропитание. В дни, когда Моше был удачлив в карточной игре или торговле, характера которой она никогда не знала, он являлся, словно жених, с букетом цветов в сумке. В иные дни копался в ее кошельке, забирал деньги.
По субботам, после полудня, после того как она все утро трудилась над уборкой дома, Хана мылась, смачивала за мочками ушей несколькими каплями из флакончика, который привезла с собой из Польши, надевала синее платье, мягкие подушечки которого приподнимали ее плечи, воротник был кружевным, а пуговицы – жемчужными, и выходила погулять по улицам города со своим ухоженным мужем и дочерью. Люди провожали их глазами. Женщины обращали взгляды в его сторону, и искорка смеха светилась в его глазах. Временами ей приходилось зажимать рот рукой, чтобы девочка не услышала, как мама плачет. После первых ночей, проведенных вне дома, он находил ее по возвращении утром бледной и не сомкнувшей глаз. У него всегда был наготове рассказ о любой детали. Потом он перестал объяснять, да она и не хотела слушать. Он приходил после трех таких ночей с красной сеткой сосудов на глазах и небритой щетиной на щеках. Он звал во сне чужих женщин: Сильвана, Адала. В первый раз она испугалась. Всю ночь просидела выпрямившись на краю кровати, перебирая мысленно, что станет делать. А утром она увидела его, льнущего к ней во сне, и его руку в татуировках, тянущуюся к ее векам, и внезапно поняла: так распорядилась с ней ее судьба. С этим человеком она проведет жизнь – и ей стало легко.
– Я хочу сказать тебе кое-что в отношении женщин, Пнинеле. Не всегда то, что ты видишь, на самом деле так. Он действительно любит женщин, но виноваты они: липнут к нему, а он такой, что не умеет сказать «нет». Все думают: «Такой высокий и красивый. Сильный мужчина». А правда в том, что он слабый. Я была этой силой. Все время.
Стоящая возле окна Пнина склонила голову на опущенное плечо, бросила взгляд на мать и сказала удивленно:
– Если уж мы разговариваем, как взрослые, то я думаю, ты все еще влюблена в него. Честное слово.
– А я никогда не пойму, почему ты так ненавидишь его. С тех пор, как была еще ребенком, и до сегодняшнего дня.
– Я ненавижу, потому что хорошо его знаю.
И Хана вспомнила, как перед шестой годовщиной рождения Пнины Моше, сидя за столом во время завтрака, спросил:
– Что купить моей самой красивой принцессе ко дню рождения? – и слово «принцесса» он произнес на идише.
Пнина, не поднимая глаз, сказала ровным высоким голосом:
– Велосипед.
Хана потеряла дар речи, поразившись в душе, откуда малышка научилась передавать такое желание равнодушным голосом и так просто.
– Это уж слишком, Пнинеле… – попыталась она возразить.
– Нет, – остановил ее Моше. Одна его рука протянута вперед, другая – к потолку, как на театральной афише. – Моя принцесса желает – моя принцесса получит.
– Но ты знаешь, сколько стоит велосипед, – сказала ему Хана и затем обратилась к Пнине. – Может быть, какую-нибудь куклу или юбку? Может…
– Велосипед, – спокойно отрезала малышка.
– Велосипед невозможно. Это слишком дорого…
– Хватит, хватит, довольно, – на лице Моше появилось презрительное выражение, как будто ему надоело спорить. – Велосипед и кончено. Ни куклу, ни другую ерунду.
После того как он вышел, Хана посмотрела на девочку, пьющую чай из чашки, прямую и наполненную сознанием собственной значимости, и испугалась отчужденности, которую почувствовала к ней.
– Ты не должна была просить велосипед, Пнинеле. Ты уже большая девочка. Понимаешь, что велосипед стоит больших денег, а мы небогаты. Ты ходишь со мной в магазин за продуктами, верно? Ты слышишь, как я прошу отпустить мне в кредит, и Нисим делает мне одолжение, и это неприятно мне.
Пнина взглянула на нее и сказала:
– Он все равно не купит.
– Что значит «не купит»? Он сейчас пойдет одолжить денег, помчится не знаю куда и принесет тебе велосипед. Вот увидишь.
Два дня они ждали его, а вечером третьего дня Хана испекла пирог и смотрела, как девочка дует изо всех сил на шесть язычков пламени, и глаза у нее при этом сухие. Соседка Роза, у которой просили свечи, стояла в дверях и говорила: «Браво, браво, какая сильная девочка».
Сейчас Пнина посмотрела на мать, и две спускающиеся от ее ноздрей морщинки обозначились резче.
– Только не говори мне, что ты жалеешь обо всем этом деле.
Хана провела рукой по свадебной фотографии и положила ее в ящик.
– О чем тут нужно говорить? Это закончилось. Все. Сожалею, не сожалею – что это меняет?
– Ты должна была сделать это пятнадцать лет назад. Ты не нуждалась в нем. Ты содержала его.
– Я не хотела.
– Может быть, ты и сейчас не хотела?
Лицо Моше в раввинате, как у мальчика, который не знает, в чем его вина. Глаза, прикрытые пальцами его красивых рук, иногда обращаются к ее глазам, словно он не верит, как мог так поступить с ним человек, которому он безраздельно доверял. «Ты все, что у меня есть», – повторял он ей в присутствии чужих людей, и она не смогла сдержаться и заплакала.
А здесь свое лицо к ней обращает Пнина, и голос у нее жесткий:
– Верно, что ты не хотела разводиться?
– Верно.
– Тогда почему развелась?
– Потому что у меня не было выбора. Ты сильнее меня. Сильнее, чем мы оба.
Шестнадцатилетняя Пнина врывается в обувной магазин и выпаливает в покрасневшее лицо матери в присутствии жены хозяина:
– Ты думаешь, что ты добрая, и прощаешь, а люди не знают? Все знают. Все смеются. Смеются над тобой в лицо, а ты не видишь. Девчонка лет четырнадцати, может. Увивается за ним с таким огромным животом. Родители выгнали ее из дома, и он бросает ее то тут, то там. Скоро она будет бегать за ним с ребенком на руках. Но зачем ему волноваться? Он воркует, когда ему захочется, он возвращается домой один, и там его ожидает добрая жена, готовит ему еду, которую он любит, гладит ему одежду, вкалывает ради него, как ишак. Делает вид, что ничего не знает. А если ей что-то кажется, есть какое-то подозрение, какая-то мысль – она тут же прощает. Ты можешь оставаться с ним. Я скоро уйду.
По тропинке к контейнеру с мусором прошла с ведром в руке соседка Роза и окликнула ее по имени, но Пнина не ответила.
– Все эти действия не похожи на развод. Сейчас он даже еще больше свободен. Он разведен, и ему действительно можно уходить и приходить, когда заблагорассудится. А когда он придет, ты захочешь готовить ему и стирать. Так для чего была вся эта беготня? – и, помолчав, добавила: – Но если ты хочешь этого, тогда пожалуйста. Я свое сделала, сейчас мне нужно идти, потому что подвозка в кибуц отправляется через полчаса.
«Кончено, – сказала себе Хана в спину удаляющейся Пнине, идущей по тропинке и пинающей мысками туфель кусты мирта сбоку от дорожки. – По-настоящему, брак этот не был браком, и развод не будет разводом. Ты сделала свое. С тех пор, как была девочкой, хотела сделать. Из-за твоей странной любви ко мне и ненависти к нему ты сделала это. И чтобы унять обиду внутри себя. Кто знает? Моя вина в том, что не объясняла тебе многие вещи. Ты сказала, что я с легкостью прощаю. Я и тебя прощаю».
Из соседней комнаты раздался вдруг звук кашля, и Хана напряглась, как тот, кто слышит скрытые сигналы, и только его ухо умеет их распознать. Много лет назад грузчик-грек привел его к их дому, и Моше упал на пороге, словно тряпичная кукла. Всю ночь его не оставлял кашель из самых глубин, отдаваясь внутри его ослабевшего тела. Потом наступило время бреда и лихорадки, и говорились слова, смысла которых она не понимала, и имена женщин из журналов: Клара, и Сюзанна, и Гайди расхаживали по комнате, словно привидения. Затем, как всегда, пришло полное примирение, обещания, клятвы. Вот и сейчас она услышала разрывающий кашель из-под сжатой в кулак руки. В своей комнате Хана поспешила убрать документы из раввината, которые Пнина положила на комод. Она сейчас же пойдет проверить, осталось ли темное лекарство, приготовленное немецким фармацевтом с улицы Бен-Иегуды, которое так помогло ему в прошлый раз, и посмотрит, есть ли на кухне все необходимое, чтобы приготовить ему куриный бульон и домашнюю лапшу. Мед и молоко очень хороши для его горла, и лимонный бальзам она приготовит. Нужно поторопиться и достать мед и яйца, прежде чем Нисим закроет свой магазин и стемнеет.
Разрыв
Когда Геня вынула острые ножницы из зеленого пластмассового футляра, на котором была изображена расчлененная птица, ее глаза начали стекленеть, а когда она протянула руку к голове внучки и стала отделять пальцами пряди волос, блестящих словно золото, падающих в виде скрутившихся шнурков под сходящимися со стуком лезвиями ножниц, все ее лицо уже превратилось в маску.
– Подойди близко к окну, мамеле, чтобы бабушка хорошо видела и не сделала тебе больно. Бабушка любит тебя и хочет, чтобы никогда в жизни тебе не было больно. И опусти голову, чтобы бабушка сделала это как следует.
В голосе Гени сквозила торопливость, а девочка, чувствуя важность того, что с ней делали, долгое время стояла тихая и послушная, с поникшей головой, обе руки засунуты за пряжку пояса короткого платьица, а глаза смотрели из-под ниспадающих длинных светлых волос, плавно опускавшихся и громоздившихся вокруг ее сандалий.
– Мы сделаем это хорошо-хорошо, – беззвучно шептала Геня обещания бледному худенькому затылку, открывавшемуся напротив света. – Чтобы ничего не осталось на милой головке и вся гадость упала.
Ее левая рука копалась среди поразительно длинных по отношению к росту девочки волос, а правая – проворно орудовала ножницами, ее тело словно образовывало арку над головой внучки. Она работала, как одержимая, с застывшими глазами.
Дорожка между двумя золотыми прядями все расширялась, и наконец вся голова острижена: коротенькие щетинки волос, словно срезанные колосья, возвышаются над бледной головой, открывают нежную, белую кожу, которая «не видела» света с тех пор, как волосы отросли впервые.
Дыхание Гени стало прерывистым, и все ее тело охватили конвульсии. Она вложила ножницы в футляр, опустилась на стул, как после огромного напряжения, притянула к себе внучку, прижала ее со всей силой рук и целовала и целовала ее затылок, как будто собиралась расстаться с ней; ее голос звучал успокаивающе, несмотря на бурю внутри нее:
– Теперь все будет в порядке, мамеле. Больше не нужно волноваться.
Девочка медленно подняла обе руки, ощупала макушку и испугалась нового ощущения. Потом взглянула на кучу волос на полу, повернула голову, и ее лицо исказилось от плача:
– Ты остригла мне все волосы. Теперь я, как мальчик.
Геня снова привлекла девочку, прижала к себе и вытерла исказившееся лицо:
– Мы должны были это сделать, мамеле.
– Почему?
– Из-за записки воспитательницы. Ты помнишь, что воспитательница приколола булавкой к воротнику блузки записку? Это то, что там было написано. Но сейчас все будет в порядке. Волосы у тебя отрастут быстро, и они будут чистые-чистые.
Девочка поспешила к большому зеркалу в спальне родителей и вернулась к бабушке, рыдая:
– Я некрасивая без волос. Я не хочу идти так в садик. Все будут смеяться надо мной, потому что это совсем некрасиво. Это даже короче, чем волосы у Хедвы. Я расскажу маме, что ты мне сделала. Она отругает тебя, а после этого приклеит их обратно.
После прежнего застывшего взгляда глаза Гени пришли в движение:
– Мамеле, иди сюда, к бабушке. Близко-близко к бабушке. Бабушка расскажет тебе что-то. Правда, что завтра день твоего рождения и ты уже большая и понимаешь многие вещи, как большая девочка? Я расскажу тебе сейчас то, что понимают лишь большие девочки, и ты сама увидишь, что мы должны были так сделать.
Первым, кто увидел это, был Цви. На мгновение он застыл пораженный, его голова откинулась назад, как будто его ударили по лицу, казалось, он сейчас разрыдается: губы сжались, и глаза померкли. Он опустил картонный ящик, который держал обеими руками, положил его на скамейку перед входом и не сводил глаз с девочки, находившейся в плену Гениных рук, словно пытаясь понять, что делает в его доме этот чужой мальчик, прижатый к груди его матери. Затем его глаза обратились к кучке золотых волос, обе руки поднялись к голове и обхватили виски.
Девочка вырвалась из рук бабушки, подбежала к отцу и разразилась плачем, водя маленькой ладошкой по лбу:
– Папа, посмотри, что бабушка мне сделала. Она срезала мне все волосы. Это совсем некрасиво. Все дети скажут, что я, как обезьяна.
Геня стремительно поднялась со своего места и обратилась к сыну, как имела обыкновение в бытность его мальчиком:
– Цвика, подойди ко мне. Я хочу показать тебе кое-что.
Цви положил свою руку на голову дочери, и его ладонь, ощупывая, как ладонь слепого, гладила грубые щетинки волос, торчащие над головой девочки.
– Мама, я не знаю, что на тебя нашло. На этот раз ты окончательно сошла с ума.
– Посмотри, что тут написано, – она держала записку перед его глазами. – Прочитай сам и скажи, разве это не стыд и срам, чтобы в нашей семье было такое.
Цви прочитал написанное, его рука поблуждала в воздухе и остановилась на лбу в жесте человека, испытывающего сильную головную боль.
– Это записка от воспитательницы, – сказал он, не дочитав. – Она передает такие каждую пятницу всем детям в садике.
– Ты не прочитал, Цвика! Прочитай сначала все. Вглядись хорошенько в то, что здесь написано.
– Я знаю наизусть, что там написано. Каждую пятницу я забираю Мири из садика, и у нее к воротнику приколота булавкой записка, подобная этой. И всегда написано одно и тоже.
– Цвика! Написано, что у нее вши!
– Я знаю.
– Что значит, ты знаешь? Как будто это нормально, что такое происходит в нашей семье, и воспитательница знает, и каждый, кто видит записку на воротнике девочки, знает. И люди говорят об этом. Здесь есть люди, которые знали меня еще до приезда в Израиль.
– Мама, на этот раз ты сошла с ума окончательно, – повторил он. Девочка вдруг разрыдалась еще сильнее, испугавшись еще криков между бабушкой и отцом. Она прижалась щекой к его ноге, подняла обе руки и обхватила его поясницу. – Посмотри, что ты с ней сделала. У нее были самые красивые в садике волосы. Мы не стригли ее с тех пор, как она родилась. Ты ведь знаешь это очень хорошо. Ты гордилась ее волосами. Как ты могла сделать с ней такое, объясни мне, как?
– Но, Цвика, у нее вши! – Глаза Гени расширились, как два темных обруча. – Разве это важно, красивые волосы или некрасивые, если у нее вши?
– И ты еще споришь. Ты совершенно не хочешь понять, что натворила, и ты еще споришь и уверена, что права. Знай, что у всех детей в стране есть вши. Это наказание стране. Ты сама рассказывала мне, что месяц назад видела по телевизору передачу, в которой предложили провести кампанию по всей стране и помыть голову всем детям в один и тот же день, чтобы они не заражали друг друга. Зива моет ей голову каждую неделю и обрабатывает специальным средством, а она заражается от детей в саду.
– Цвика, послушай меня. Я знаю, что хорошо для моих детей. Я прожила достаточно и знаю. Когда заводятся вши, не помогают ни средства, ни мытье головы и вообще ничего. Лучше всего немедленно остричь до корней. С каждым часом гнид становится все больше и больше и дорого каждое мгновение.
– Постричь так? – спросил он, сдерживая голос на грани плача, и указал на голову, прижавшуюся к его ноге. – Если уж решают постричь таким образом, до конца, разве нельзя сделать это в парикмахерской, ровно, чтобы тоже было красиво?
Геня внимательно посмотрела на внучку, словно увидела ее впервые: остатки обрезанных волос, голову, которая вдруг стала меньше, затылок, нежный, как мясо ощипанной птицы. С шеей, все еще склоненной к нему, как раньше, как будто продолжая объяснять, Геня вдруг заплакала, и странный звук плача исходил из нее, как из глоток людей, которые родились лишенными способности к плачу и научились подражать ему, для видимости сокращая явное различие между собой и обычными людьми.
– Это действительно вышло у меня некрасиво, – подвывала она. – Я должна была отрезать ровнее. Но я ужасно волновалась. Не обращала внимания. Ты простишь бабушку, которая некрасиво постригла тебя, мамеле? Ты знаешь, что бабушка хочет для тебя самого наилучшего, что только возможно? Что у нее на всем свете есть лишь один Цвика и одна Миреле?
Девочка опустила глаза, не желая смотреть в сторону Гени, и через мгновение повернулась к ней спиной, прижавшись еще сильнее к отцу и спрятав лицо в ткани его брюк. Когда бабушка протянула руку погладить остриженную головку, Мири отпрянула всем маленьким телом, словно обожглась.
– Это отрастет быстро-быстро, мамеле, – пообещала Геня, ее сердце упало при виде девочки, сжавшейся от прикосновения. – И у тебя снова будут самые красивые волосы. А главное, у тебя не будет там вшей.
Цви, глядя на светлые срезанные волосы, рассыпанные на полу под окном, словно пучки света, сказал тусклым голосом:
– Я, правда, еще не знаю, что мы сможем сделать с этим. Иди-ка сейчас в другую комнату, мама. Зива вот-вот должна прийти. Она пошла заказать торт ко дню рождения. Что с ней будет, когда она увидит это, не знаю. Она совсем обезумеет. Тебе вовсе не следует быть сейчас здесь. Иди в комнату, и когда Зива вернется, я, как можно быстрее, отвезу тебя домой.
В рабочем кабинете сына Геня, с раскрытыми в темноте глазами, слышала орущую невестку, и хныкающую внучку, и сына, пытающегося вклиниться, объяснить – и его голос тонул среди их голосов.
– Так что, это интересует меня сейчас? – услышала Геня невестку. – Тогда им так делали в лагере перед сорок пятым годом. Мир немного продвинулся с тех пор, и мы сейчас уже не живем в лагерях. Посмотри, как выглядит твоя девочка! Посмотри на нее! Завтра у нее день рождения. Посмотри, с этой стороны она просто обрита. А погляди здесь – у нее царапина. Она порезала ей кожу! Переломать нужно ей обе руки, чтобы не смогла больше никогда в своей жизни держать ножницы! Забери эту женщину отсюда, пока я не убила ее своими руками. И скажи ей, чтобы ноги ее больше здесь не было. Я не хочу больше никогда видеть ее физиономию! Никогда в своей жизни!
Голос Цви прорывался и повышался и на миг стал слышен громко и ясно, и в соседней комнате воцарилась тишина, но голос Зивы тут же разорвал ее:
– Прекрати! Это сейчас тебе не поможет! Я говорю тебе. Это только злит меня еще больше. Я не хочу больше слышать об этом! Те рассказы – это уже в прошлом. Я говорила тебе не просить ее больше сидеть с ребенком. Она ненормальная. Я давно уже твердила тебе это. Во время этого холокоста у нее в голове потерялось несколько винтиков. Посмотри, что она сделала с нами! Катастрофа! Я больше не позволю ей приблизиться к моей девочке. Я больше не хочу, чтобы она являлась сюда. Если ты хочешь видеть ее – ступай к ней домой. Она ненормальная. Ты должен отправить ее в сумасшедший дом. Любой врач поместит ее туда немедленно. Посмотри, что она сделала с нашей девочкой. Ты помнишь, что у тебя была красивая дочь? Тогда посмотри на нее сейчас. Она будет страдать из-за этого всю свою жизнь. Посмотри сюда и сюда. Повернись, Мири, чтобы папа увидел. Посмотри на нее хорошенько. Как можно вывести такую девочку на улицу? Что мы будем делать с ней? Наденем ей парик? Обреем голову? Уйдет по меньшей мере год, пока это придет в норму. Я хочу, чтобы твоя мать сейчас же убралась из моего дома. Я не хочу, чтобы она оставалась на день рождения. Нужно совсем отменить этот день рождения!
Внезапно вопли прекратились и был слышен тонкий, высокий голос Мири, а потом плач оборвался.
– Ты хорошо слышишь, что говорит твоя девочка? – взметнулся новый вопль. – Ты понимаешь, что тут произошло? Она знает, что делали вши, когда люди умирали в концентрационном лагере. Должна это слушать четырехлетняя девочка? Я спрашиваю тебя, это подходящий рассказ для такого возраста? Я хочу, чтобы девочке рассказывали о Золушке, а не об Освенциме!
Перед дверью рабочего кабинета голоса умолкли, и Геня уже находилась в полной тишине. Хрипение юноши, повешенного за ноги возле перехода между женским и мужским лагерем, недавно прекратилось, и с того момента лишь отзвуки лая и шелест листвы нарушали иногда тишину. В конце барака, возле единственного окна, выходящего на лес, что за оградой с электрическим током, ворочалась на низкой лавке и стонала во сне женщина. Старуха сбоку от нее вздыхала и тоже переворачивалась, чтобы не оказаться снаружи мешка, служившего одеялом: хотела согреться от соседского тела. Геня подняла руку и почесала пальцами с остриженными ногтями кожу головы, и послышался сухой звук, подобный звуку, издаваемому грубой шваброй, скоблящей деревянный пол. Голова зудела, кожа затылка раздражена, и Геня чувствовала крошечные уколы под мышками. Утром выяснилось, что ее соседка с другой стороны, та, которая заболела еще за много недель до этого, умерла во сне. Уже несколько недель ее лицо было похоже на лицо мертвеца, а в утро ее смерти она выглядела совершенно живой, спокойной, и ее глаза были обращены к потолку как будто с выражением любопытства. Когда женщины поспешат к выходу, чтобы, как каждое утро, выстроиться перед бараком в шеренгу, вши уже начнут покидать неживое тело; они будут выглядеть, как темная штриховка, прорезающая лоб, нащупывая дорогу к другому телу, ища себе новую жизнь.







