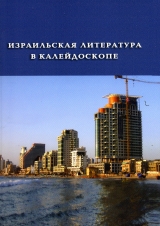
Текст книги "Израильская литература в калейдоскопе. Книга 1"
Автор книги: Эфраим Кишон
Соавторы: Меир Шалев,Хаим Нахман Бялик,Варда Резиаль Визельтир,Яир Лапид,Бат-Шева Краус,Михаэль Марьяновский,Этгар Керэт,Савьон Либрехт,Томер Бен-Арье,Орли Кастель-Блюм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Празднование помолвки Хаяле
За пятнадцать дней до празднования помолвки Хаяле, которая была объявлена молодыми в спешке и явилась полным сюрпризом, никто вовсе и не думал о позоре, который дедушка Мендл способен обрушить всем на голову. Все были заняты составлением списков приглашенных, оркестра, угощения, напитков, столовых приборов, которые нужно одолжить, соседей, готовых предложить стулья и столы, подарков, получить которые невеста выразила желание в случае, если кому-нибудь придет в голову спросить об этом. Бэлла, мать Хаяле, была встревожена состоянием дома. Пятна на зеленой обивке дивана, казалось ей, бросались в глаза; шторы обтрепались по краям; на обоях возле обеденного стола выделялась истертая полоса от спинок трех стульев. Таким образом к уже имеющимся спискам добавился отдельный список магазинов качественной обивки и мастеров, занимающихся наклеиванием обоев.
Среди всей этой суматохи Бэлла вспомнила, что все еще не решила окончательно относительно платья, которое наденет на помолвку. После того, как она перевернула весь шкаф и провела два дня, перебирая платья в магазинах города, она поняла, что мера успеха ее платья зависит от стиля одежды матери Рана, будущего жениха Хаяле, о которой ей известно, что та стройна, хороша собой и принадлежит к привилегированному обществу. Поэтому, лихорадочно думала Бэлла, если она выберет элегантное муслиновое платье, а ее будущая сватья наденет очень хорошо сшитое, она, возможно, будет выглядеть, как провинциалка, а сватья – как современная женщина. В то же время, если она выберет костюм, а сватья предпочтет роскошное платье, она не будет выглядеть в костюме празднично, а та будет блистать. Вопрос цвета одежды тоже не прост: если она оденет красное, а сватья – черное, она будет вульгарной, а та – аристократичной; если же, наоборот, наденет черное, а сватья – красное, она будет смотреться печальной, а сватья – свежей. Размер пуговиц, длина манжет и ширина пояса тоже вызывали вопросы. Прокручивая в голове все эти аргументы, она не находила выхода.
Решение проблем мебели, одежды, меню и списка приглашенных отвлекало Бэллу от дела, из-за которого поднялась вся эта суматоха: вот Хаяле уже почти двадцать три, она заканчивает учебу в университете; в удачно выбранное время приближения осени, еще прежде, чем у дочери появились морщинки в уголках глаз, Бэлла нашла ей способного и энергичного мужа из зажиточной и образованной, как ей рассказывали, семьи. И значение этой помолвки она, возможно, постигнет окончательно после празднования, после того как разойдутся гости, оркестранты соберут свои инструменты, и площадка перед входом будет подметена.
Через несколько дней лихорадочной деятельности уже было заметно, что дела покатились по рельсам: столы и стулья были взяты у благотворителей и нужным образом расставлены в заднем саду, центральная часть их – около садовой стены, и два ряда отходили по диагонали, как руки, протянутые к подбегающему ребенку, а середина сада оставалась свободной. Пришел представитель компании, специализирующейся на приеме гостей, и разложил перед ними цветные снимки, на которых были наглядно продемонстрированы различные способы размещения блюд, и после небольшого торга, цель которого сводилась к тому, чтобы заказать у него посуду, перечень мясных блюд и салатов, а хозяйке дома оставить приготовление тортов, по части которых она была непревзойденной мастерицей, пришли к соглашению условий оплаты услуг. В доме работа также продвигалась, опровергая нашептываемые ей мрачные предсказания. За особую плату были приглашены профессиональные мастера, которым она даже не заплатила отдельно за выбор обоев, и если ей казалось, что в спешке выбранный образец не сочетается со стилем стульев, то на стенке маленький клочок образца, показанный ей в магазине, приобрел вполне приятный вид. Проблема платья также нашла разрешение: так как ее дочь не участвовала вместе с ней в слежке за одеждой будущей сватьи в вечер события, Бэлла нашла для себя верный выход и выбрала одежду, одновременно и элегантную, и очаровательную: голубое шелковое платье, похожее на костюм, красиво отстроченное белыми нитками, с маленьким белым остроугольным воротничком.
Только тогда появилась возможность подумать об отце, Мендле. По странному случайному совпадению думала о нем и Хаяле во время своего выпускного экзамена по еврейской истории. После обеда они обе были готовы обсудить этот вопрос.
– Если он испортит мне праздник, не прощу его никогда в жизни, – сказала Хаяле с полным ртом, набитым редиской.
– Ты права, – согласилась с ней Бэлла.
– Это не пасхальный седер или еще какая-нибудь праздничная трапеза, – убежденно говорила дочь, словно отвечала на возражения, – когда вся семья знает его и его историю и прощает его. Родители Рана не знакомы с ним, и еще будет его сестра и несколько их близких друзей. И я не хочу, чтобы у них создалось впечатление, что у нас в семье есть люди со странностями. Предупреждаю тебя уже сейчас: если он сделает это перед всеми, я умру на месте.
– Боже упаси! – воскликнула Бэлла, представив, как это может произойти на самом деле. – Что же делать?
– Надо что-то придумать.
Хаяле выуживала вилкой среди долек огурца кружочки редиски.
– Но невозможно не пригласить его, – говорила Бэлла, как будто споря сама с собой. – Все-таки такой праздник: обручается его первая внучка. Я просто не вижу варианта, как мы можем не позвать его. Мы ни за что не простим себе этого. Не забывай, ему уже восемьдесят два. Подумай, сколько таких праздников он еще увидит? Что же тогда можно сделать? Может, вообще не рассказывать ему?
– Можно отправить его в путешествие, например, – внезапно осенило Хаю.
Бэлла посмотрела на дочь с содроганием. Вот, она уже отсылает его, как ненужную вещь. Особое хладнокровие нового поколения. Она уже забыла, как он растил ее, готовый отказаться от последнего куска хлеба ради нее. И все годы, когда Бэлла с мужем были заняты работой на заводе, он, уже не молодой человек, водил ее на занятия балетом и в кружок рисования и ждал на улице и в дождь, и в зной.
– Может быть, лучше поговорить с ним, объяснить, что на этот раз он должен сдерживаться? – предложила Бэлла. – Он же вовсе не маразматик. Наоборот, достаточно здравомыслящий человек.
– Разговоры не помогут. Ты ведь сама это знаешь, – отрезала Хаяле. – Ты готова находиться в таком напряжении весь вечер? Ждать, когда он начнет?
– Я попытаюсь убедить его, вот увидишь. Хорошенько объясню ему. Вообще у меня идея: посадим его возле Шифры, которая будет присматривать за ним и заставит замолчать в ту же секунду, как он только раскроет рот. Шифра не даст ему говорить, положись на нее. Это кажется мне приемлемым решением. Что скажешь?
– Скажу, что пойду выясню, какие путешествия есть в турбюро. Они организуют путешествия для пожилых. Я как-то видела объявление в газете. Для него так будет лучше – да и для нас тоже.
«Чудовище, – подумала Бэлла в ужасе, когда ее дочь вышла ответить на телефонный звонок. – Мы растим чудовищ. Они выглядят, как грудные младенцы, затем как дети, но за этой наивностью сердца из железа! Я уже слышала, как дети выбрасывают стариков на улицу, ждут их смерти. И вот так, без всякого стыда выгнать деда с помолвки!»
Однако, после того как Хаяле ушла и Белла успокоилась, наедине с собой она была вынуждена согласиться: несомненно, на празднике разразится катастрофа. При виде изобилия на столе он не сможет удержаться, слова во время празднеств словно сами извергаются из его уст, и он не властен над ними. В последние годы положение ухудшается. Кажется, что воспоминания о давно ушедшем времени уже одолевают воспоминания о вчерашнем дне, как это бывает со стариками. Еще шесть лет назад его состояние было превосходным. До этого он не говорил о событиях той войны. Когда он вернулся из концентрационного лагеря в дом польской крестьянки – через четыре года после того, как оставил ей для спасения двух своих детей – младшая дочка, Белла, помнила его уже смутно. Его лицо было очень худым, скулы и нос сильно выдавались, и волосы были острижены. Крестьянка перекрестилась при виде его и сказала:
– Господин Гольдберг, всю ночь мне снилось, что Вы придете. Ваши дети ни разу не болели! Я ухаживала за ними, как за своими!
И он наклонился к детям, обхватил своими тонкими руками и сказал, поразив резким запахом своего тела:
– Мы забудем все-все. Разыщем маму и уедем в Америку.
Маму они не нашли и в Америку не уехали. По прошествии нескольких лет он женился на женщине из Израиля, которая воспитывала детей, как родных. Когда они болели, спешила их вылечить. Еще шесть лет назад и до того он и словом не обмолвился о событиях времен войны. В его комнате Белла нашла как-то книгу воспоминаний жителей польского местечка и в ней между страницами – объявления, вырезанные из газет, сообщавшие о местах проведения встреч для поминовения. Дети никогда не спрашивали его, что с ним происходило все те годы, в течение которых их ноги передвигались среди свиного помета на польской ферме. Словно все дали обет заставить себя вычеркнуть из памяти те события. Когда его жена умерла, спустя годы после рождения уже его внуков, он отказался жить один или в домах детей. Ушел и заботился о себе самостоятельно в комнате дома престарелых. Субботы и праздники проводил с детьми, приезжая и возвращаясь на автобусе, отказываясь от предложений отвезти его. Он всегда оживленно и ерничая говорил об экономическом положении, о России и Америке, о новостях, про которые читал в газете. А о войне – как будто это была часть его, уснувшая на те годы, – не упоминал ни словом.
«Шесть лет назад, – подумала Белла, – у него произошел перелом.» Праздничные столы, заставленные мясом и рыбой, тарелочками с рубленой печенью и глазированной морковью, компотом из чернослива, подействовали на него, как зашифрованный язык, как дверь, скрывавшая воспоминания о той войне, и все, что было тщательно запрятано, находилось в забвении в течение десятков лет, неудержимо прорвалось наружу. Это началось в праздничный вечер рош-а-шана[19]19
рош-а-шана– Новый год по еврейскому календарю (иврит)
[Закрыть]. Перед обильно заставленным столом все подняли рюмки, и Мордехай, брат Беллы, сказал:
– Ну, папа, скажи какой-нибудь тост, чтобы у нас был хороший год.
Старик немного побледнел, уже почувствовав, что в нем что-то переворачивается, поднял свою рюмку под направленными на него в ожидании взглядами и сказал на идише:
– Чтобы у нас был хороший новый год. Год мира и семьи. И множество хороших трапез. Я хочу вам рассказать кое-что, и это как раз удачно, что мы все вместе и наши дети тоже слушают. Во время войны я четыре года не ел мяса. Мы уже превратились в скелеты. Были видны все кости тела до единой. Тогда пошли слухи, что приближаются американцы. Немцы занервничали, а у нас стало еще меньше еды. Когда мы увидели побежавшего немца, мы выхватили у него из-за ремня колбасу, Шлойме Берманский и я. Я понюхал, и у меня началась рвота, а Шлойме набросился на нее, как свинья. Он съел всю колбасу; спустя полчаса глаза у него вылезли из орбит, и он упал замертво, прежде чем подошли солдаты.
Все вокруг стола ошеломленно смотрели на него. Белла и ее брат обменялись удивленными взглядами. Ехиэль, приехавший из Натании с женой и двумя детьми, беспокойно заерзал. Шифра, сноха Мендла, в ужасе оглядывалась по сторонам, словно тут появился знак, предвещающий несчастье. Старик нарушил возникшую тишину, поднял свою рюмку и добавил:
– Так пускай новый год будет для нас счастливым. И чтобы дети выросли – это главное. Лехаим!
Сидящие за столом ответили тихим «лехаим» и поднесли рюмки ко рту. Какое-то время в воздухе еще витала растерянность, которая сменила уходящее постепенно остолбенение, но по мере того, как вечер продолжался и продвигался от своего начала к сливовому киселю, напряжение постепенно ослабевало. И когда хозяин дома рассказал анекдот о паре молодоженов, в которой муж в свадебную ночь пошел искать газету у соседей и вернулся под утро, все громко, от души смеялись. Когда был подан кисель, воспоминание о смущающем моменте, внесенном дедом Мендлом, уже потускнело. Ехиэль и его жена запели на польском о девушке с длинной косой, спускающейся к ручью помыть волосы, и о парне, подглядывающем за ней сквозь ветки смородинового куста и не осмеливающемся просить ее о любви.
Возможно, причиной явился кисель или смородиновый куст из песни, а может, что-нибудь совсем другое, только дедушка Мендл снова встал и поднял правую руку так же, как сделал раньше, когда в его руке был бокал вина, и сказал:
– В лагере каждый день двое-трое умирали в своих бараках. Их оттаскивали в угол. Умерший посреди ночи был уже холодным. Тот, кто умер утром, еще не совсем остывал. Но умерший вечером к утру уже начинал вонять. – Шифра поднялась и встала напротив него в порыве протеста, с намерением возразить, но вместо этого просто вышла из-за стола и направилась в соседнюю комнату. Старик посмотрел ей вслед и снова заговорил:
– Однажды я нашел в кармане одного из них картофелину. Ведь мы заглядывали в карманы или забирали у них свитер или носки, что были на них – что, нужны им еще были носки? А картофелина эта – до сегодняшнего дня не знаю, где он ее взял. На кухне он не работал. Потом я пробовал расспрашивать, но никто не мог объяснить. Я съел ее, но так и не понял, откуда у него взялась эта картофелина.
Сын, Мордехай, попытался заставить его замолчать. Первоначальное оцепенение уже прошло, и теперь слова находились легче:
– Папа, сегодня праздник. Мы будем радоваться и есть, а не вспоминать подобные вещи. В праздник нужно вспоминать о хорошем.
– Но откуда у него взялась картофелина, я тебя спрашиваю. Может, ты читал что-нибудь? Может, ты понимаешь?
– Нет. Понятия не имею. Вон Белла несет пирог. Смотрите, какой пирог! Это означает, что у нас весь год будут пироги. – Он вспомнил что-то и весело сказал Хаяле, что для нее это последний год в гимназии. – Правда, это добрый знак, что у нас весь год будут такие пироги? – Но туча уже повисла над ними. Даже дети чувствовали ее.
Годы, прошедшие с тех пор, постепенно притупили их реакцию. Это превратилось в привычку: за накрытым столом в субботние и праздничные вечера, в дни рождения дедушка Мендл рассказывал о трупах людей, падавших на улицах гетто, и прохожих, которые переступали через них, или снимали с них обувь, или перекатывали их ногами в сторону, к стене, и прикрывали газетами; об умирающих от голода с раздутыми животами и запавшими глазами; о человеке, который, не выдержав мучений, бросился на забор, находившийся под электрическим напряжением, и за одну секунду превратился в кусок угля; о другом человеке, который, попав в лагерь, увидел своего младшего брата, висящего в воротах; и о человеке, сортировавшем одежду умерших и нашедшем платье своей жены, перед которого был вышит цветами из жемчужин, платье, которое он купил ей, когда родился их сын, и ошибиться было невозможно из-за укороченного низа, подшитого красноватыми нитками. И когда немец увидел, что человек замешкался с платьем в руках, он заподозрил, что тот замышляет украсть жемчужины, и ударил его плетью по затылку. И о парне, перебрасывающем трупы к месту сожжения, который нашел среди мертвых свою мать. Родные позволяли ему говорить, не давая его словам дойти до их сердца. Когда он вставал и поднимал правую руку, держащую бокал, они уже знали, что пришел тот самый момент. Дети шли к своим играм; хозяйка дома вставала и, чтобы не терять зря время, собирала посуду. Другие начинали переговариваться шепотом или погружались в собственные размышления, воспринимая следующие мгновения, как разгулявшуюся бурю, которая еще немного и уйдет дальше, как самолет, который в считанные секунды умчится и унесет с собой свой шум.
Среди членов семьи, которые уже смирились с описаниями голода, смерти и гниения как непременной части праздничной трапезы, Шифра, его сноха, продолжала бунтовать.
– Он убивает мне праздник, – жаловалась она, зная, что ее слова достигают его ушей. – Мы достаточно терпели и достаточно слушали. Есть, слава Б-гу, День Катастрофы, митинги памяти и тому подобное. Забыть не дают. Так я не желаю, чтобы мне напоминали об этом каждый раз во время трапезы! Не понимаю, как вы можете продолжать с аппетитом есть, когда он описывает гноящиеся раны, кровь и рвоту – но это ваше дело. Для меня – в ту минуту, как он открывает рот, – праздник заканчивается! – и она стучала по столу сжатой в кулак рукой.
Больше всех слушала отца Белла. Когда она организовывала стол у себя дома, она прислушивалась к его словам из кухни. Если гостили у других, слушала со своего места за столом. Внезапно перед ней словно распахнулось окно к загадке, которая волновала ее многие годы: неужели он игнорировал воспоминания о том, что происходило с ним на протяжении тех четырех лет, что они с братом провели в свинарне польской крестьянки? На мгновения она возвращалась к той деревенской жизни, чувствуя запах свиней, будто находилась там сейчас, а не в далеком воспоминании. Ощущала в ладони влажные поросячьи пятачки, их жесткую от грязи кожу. Неужели отец забыл о смерти, голоде, страхе? Как ему удалось запереть их в своем сердце и не вспоминать в течение сорока лет? А сейчас, как ожили эти глубоко запрятанные воспоминания перед изобилием, песнями, в умиротворенной атмосфере, царящей в залитых светом комнатах, в хорошие дни? Эта загадка души, заключила Белла для себя самой, находится внутри пласта, который человек редко обнажает перед собой – к могиле он отодвигает ее решение.
И в самом деле, призналась она себе, на этот раз положение трудное. Как можно не пригласить дедушку на празднование помолвки любимой внучки, названной по имени его жены Хаи? Но с другой стороны, возможно ли рисковать праздничной атмосферой, может, даже будущим Хаяле и навлечь на семью вселенский стыд перед лицом всех гостей, будущих сватов?
Уже этим вечером в ее голове блеснула идея, и она собиралась рассказать о ней дочери, но Хаяле опередила ее:
– Я поговорила с Раном. Он говорит, что мы просто обязаны его пригласить.
– Ты объяснила, в чем проблема?
– Да. Он сказал, что это неэтично – не пригласить его.
– А что будет, если …
– Я уже поговорила с ним.
– С Раном?
– Нет, с дедушкой.
– Ты разговаривала с дедушкой? Когда?
– Сегодня после обеда.
– И что?
– Объяснила ему, как важно для меня, чтобы все прошло без проблем.
– Ну?
– Он пообещал, что кроме «лехаим» и «всего наилучшего» не скажет больше ни слова.
Белла вздохнула с облегчением и откинулась назад, на спинку стула:
– Думаю, что это, правда, самое лучшее решение. Мы бы чувствовали себя ужасно, если бы отослали его из дома в такой день. Как, говоришь, он сказал? Только «лехаим» и «всего наилучшего»? Действительно, одного нельзя сказать о нашем дедушке: что у него нет чувства юмора – оно есть и всегда было.
– Одного не скажешь и о его внучке: что у нее нет предчувствия опасности. Я пристроюсь к нему и не отойду весь вечер – для большей надежности.
– Все будет в порядке, – улыбнулась Белла и прижала ладонь к сердцу. – Сердце подсказывает мне, что так и будет.
В праздничный вечер была исключительно приятная погода. Уже конец лета, но осень еще не началась – «бесхозные» часы быстротечны и удивительно хороши. Белла, важность события для которой начала теперь осозноваться ею, двигалась, как сомнамбула, среди элегантных гостей, прогуливающихся с бокалами вина в руках внутри ореола мягкого света, распространяемого на поверхности травы круглыми садовыми фонарями. Молниеносные вспышки фотоаппаратов добавляли виду значительности. Она краешком глаза осматривала сватью, с удовольствием открывая, что та действительно высокого роста, но слишком худа, и перед платья, весь в складках, чтобы замаскировать плоскую, как у подростка, грудь, не справляется со своей задачей. Да и остальное воспринималось как безуспешный ход: розовое платье было слишком бледного оттенка, узел шнурка на талии был сложным и вынуждал женщину каждый раз распутывать его и завязывать заново.
Крутясь в саду, как во сне, Белла ощущала внутри себя счастье, как реальность. Все выглядело таким безупречным: образцово накрытый стол, блюда на нем, заполняющиеся, как по мановению волшебной палочки, и стоящие все время, как новые, как будто и впрямь стол накрывается заново; маленький оркестр, играющий с приятностью, достаточно громко, чтобы было слышно, но вполне мягко, чтобы не заглушать беседу. В ее поле зрения постоянно находилась Хаяле, неотступно, как искушенный охотник, следящая за дедушкой. Даже если повернется к нему спиной и ответит поздравляющему ее – почувствует его движения. Старик выглядел сияющим и праздничным, отвечал тем, кто подходил с поздравлениями, гладил детей по головкам. Иногда, если ей казалось, что он слишком затягивает беседу, она приближалась к нему как бы случайно, проходила сзади него, прислушиваясь. Один раз она направилась в его сторону, усмотрев признаки опасности. Она узнала этот взгляд, эту поднимающуюся руку, всегда предваряющую готовые вырваться наружу слова. Он уже открыл рот, чтобы заговорить, когда на нем остановился ее тяжелый взгляд. Через длинный стол он неожиданно лукаво улыбнулся ей, как человек, пойманный с поличным, и воскликнул: «Лехаим, Хаяле, лехаим!» – и добавил, как будто вспомнив: «И всего наилучшего», – и засмеялся, как ребенок, подшутивший над взрослым.
Хаяле была обезоружена его смехом, который впервые ослабил напряжение, охватившее ее еще перед приходом гостей. Она вскинула руку, держащую воображаемый бокал и крикнула: «Лехаим, дедушка, и всего самого хорошего!» Фотограф со своего места у входа, поймал их в объектив, стоящих один против другой, обменивающихся пожеланиями с противоположных концов стола, сверкнула вспышка, и он улыбнулся довольный, уже видя перед мысленным взором готовую фотографию.
И после этого Хаяле, успокоившись, находилась среди гостей, время от времени вылавливая в толпе гуляющих фигуру дедушки. Фотограф не надолго увел от гостей ее и Рана и усадил их на наклонной крыше гаража, покрытой разросшимся кустом плюща. Он фотографировал их друг напротив друга и ее в его объятиях, пока она не взбунтовалась: «Хватит уже, это так банально!», – замахала рукой перед фотоаппаратом, протестуя, и потянула Рана за руку.
С высоты крыши она внезапно увидела дедушку. Он стоял и смотрел на людей, собравшихся вокруг стола, с которого были убраны блюда с мясом, сменившиеся блюдами с пирогами. Гости брали по куску на свои тарелки, и она со своего места увидела на лице дедушки волнение при виде нового изобилия и оживления, царившего возле стола. Его глаза сияли знакомым ей светом, рука даже уже без бокала сама собой поднималась. Вторая рука Мендла стучала по столу, привлекая к нему внимание гостей. Люди из всех уголков сада смотрели на него, несколько человек уже окружили старика, с почтением ожидая его слов. Он, словно опытный оратор, помедлил мгновение, пока затихнут разговоры, и уже открыл было рот, чтобы говорить. Над садом воцарилась тишина, как перед сообщением исключительной важности.
– Дедушка, нет!!! – закричала Хаяле издали, из своего темного угла, и он поднял голову на звук ее голоса, силясь разглядеть поверх голов гостей ее возле плюща.
Вдруг он наклонился и исчез из ее поля зрения, и со своего места она услышала внезапно возникший гомон, увидела людей, протискивающихся и собирающихся к тому пустому месту, где он прежде стоял. Она вырвалась из рук Рана и побежала туда, прорвалась через человеческий заслон, образовавшийся вокруг него, и пока она подошла, стол уже рухнул. Клубничный, творожный, шоколадный торты и многослойный высокий торт были опрокинуты на траву, а дедушка лежал на них. Все его лицо и костюм вымазаны, как у артиста в старой кинокомедии, в которого швырнули торт со взбитыми сливками.
Из-за двери спальни слышался голос Мордехая, выпроваживающего гостей, подошедших справиться о здоровье старика. Он просил их вернуться к столу, который был в спешном порядке восстановлен, и к возобновившему игру оркестру.
– Он очень разволновался… Сейчас отдыхает… Нет, просьба не беспокоить его… Я передам ему… Ему нужно отдохнуть… С ним все будет в порядке… Пожалуйста, продолжайте танцевать…
Его голос, звуки музыки, перешептывание гостей доходили будто издалека. В самой комнате было совершенно тихо. Хаяле все еще с венком из живых роз на голове и очень бледным лицом вынимала из изящной коробочки бумажные носовые платки, отделяла один от другого и передавала тонкие бумажные квадратики матери. Бэлла вытирала влажное лицо, стирала повидло и шоколадные крошки, раздавленные на переде платья и на белом воротнике прижатой к ней головой отца, когда его несли к комнате. Потом протянула руку за чистой бумажной салфеткой и с нежностью, как будто еще можно было причинить ему боль, протерла его измученное лицо, так и не узнавшее последнего избавления, его красивые усы, закрытые глаза, крепко сжатые под слоем сладкой пены губы, насильно задержавшие внутри слова, которые уже никогда не принесут с собой ни освобождения, ни умиротворения, ни даже минутного облегчения.







