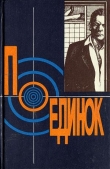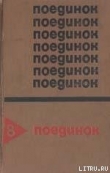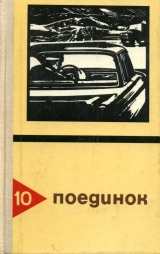
Текст книги "Поединок. Выпуск 10"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Виктор Пронин,Алексей Новиков-Прибой,Анатолий Степанов,Николай Черкашин,Борис Можаев,Сергей Диковский,Юрий Авдеенко
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
…Едва замполит спрыгнул на бетонку, как Анохин нажал кнопку, и нижний люк с зарешеченным иллюминатором бесшумно втянулся в самолетное брюхо, отсек экипаж от всего земного прочно, глухо, герметично.
– Люк закрыт! – объявил Филин. – Аккумуляторы включены. Магнитофон включен!
Потом была легкая предвзлетная суета: Володя Кижич искал свой мешочек с кислородной маской, Прокуратов вдруг вздумал переливать в термосы с чаем алычовый экстракт. Филин искоса следил, как прапорщик готовит «аэропойло». Бурая струйка лениво лилась в дымящиеся зевы термосов, будто некая техническая жидкость в заливные горловины… Филин не любил казенный чай. Ольга всегда снаряжала его литровым китайским термосом с клюквенным морсом. Но в этот раз термос, расписанный маками, остался дома.
Может, в этом загвоздка?
Чушь! Ерунда! Бабское суеверие!
Анохин турнул сердитым жестом начпрода, не вовремя затеявшего свою алхимию. Прокуратов заспешил, облил экстрактом спасательный жилет…
С КДП [10]10
Командно-диспетчерский пункт.
[Закрыть]дали «добро» на запуск двигателей.
Всякий, кто поднимается в воздух, нечаянно задумывается о смерти дважды: перед взлетом и посадкой.
О чем думал Филин в ту минуту, когда самолет еще прочно стоял на всех своих многоколесных тележках?
О том, что лобовые стекла кабины слегка розоваты от впаянных термоэлементов, точь-в-точь как окна Эрмитажа. Надо бы узнать, почему в Зимнем дворце розовато-сиреневые стекла. Состав такой, что ли?
И сразу же захотелось в Ленинград…
Грохот «плавилки», счищающей наледь с бетона, напомнил, что основная взлетно-посадочная полоса еще не расчищена, значит, взлетать придется с запасной. Она узкая.
В ушах, сдавленных наушниками, тихонько завжикала кровь. Вспомнился плакатик в медкабинете предполетного осмотра:
«Частота пульса у летчика: Норма – 60. В кабине – 80. Мотор запущен – 110. Рулежка – 120. Взлет – 130. Бой, дозаправка в воздухе – 160».
Кто-то из ветеранов уважительно говорил: «Мы воевали на ваших посадочных скоростях…»
Ага! Вот оно! Тогда, перед запуском, подумалось: «Вот он, последний взлет. Капитан Филин поет лебединую песню!»
Ольга не хотела третьего ребенка: «Ты загремишь под фанфары, а я одна с тремя останусь?!» Он дал ей «слово русского офицера»: «Родишь мальца – уйду с летной должности». – «Знаю тебя, обманщика! Ты и перед Милочкой так же говорил». – «Если б сына родила, ушел бы. Сын – дело серьезное. Сам буду воспитывать. На земле». – «А если опять дочь?» – «Бомбы три раза в одну воронку не падают. Сын будет». Как в воду глядел: все соседки, все врачихи, акушерки, санитарки твердят в один голос: сын будет. И веснушки-то на лице выступили, и живот «репкой», и еще черт-те что углядели. Значит, и в самом деле лебединая песня!.. Эх, не надо было так думать! Накликал.
– Экипажу приготовиться к запуску! – объявил правый пилот вместо Анохина. В наушниках потрескивало.
– Проверить, у кого замыкает кнопка СПУ! [11]11
Самолетное переговорное устройство.
[Закрыть] – добавил Филин.
Заработала вентиляция радиоаппаратуры, и в кабину потянуло запахи нагретой изоляции. Пальцы Анохина забегали от тумблера к тумблеру, от кнопки к кнопке, так бегают руки органиста по многорядью клавиатур. И самолет заревел, точно огромный орган, у которого включили все регистры, – от баса «тубы мирум» – трубы мира – до флейты-пикколо. Осанистый рокот на фоне свистящего шипа… Месса для четырех турбин с винтами.
Порулили на старт. Налитые горючим крылья тяжело подрагивали на стыках бетонных плит. Филин выглянул за бронеспинку: Прокуратов грыз под своим прозрачным колпаком сухарь с тмином. Значит, порядок. Все своим чередом. Взлет пройдет нормально.
Филин чихнул в рукавицу и пожаловался командиру:
– До третьего курса была еще закалка. А как стали в меха кутать…
Анохин нетерпеливо кивнул: читай контрольную карту!
Филин взял затертую картонку с вопросами и пономарским голосом завел предстартовую «молитву». При этом кивки командира он переводил в ответы, чтобы «черные шары» [12]12
Бортовые магнитофоны. В случае катастрофы по их записям ведется расследование причин аварии.
[Закрыть]фиксировали все как надо.
– Тормоз?
– Снят.
– Автоматика?
– Отключена.
– Триммерные эффекты элеронов?
– На нулях.
– Рули высоты?
– Согласно центровке.
– Двери и люки?
– Закрыты.
– Стопорение рулей?
– Расстопорено. Зеленая горит… «Легенда», я «девятый». Осмотрен по карте. К взлету готов.
– «Девятый», – откликнулся руководитель полетов. – Полоса сухая. Взлет разрешаю.
Звон турбин истончился до истошного «и-и-и».
Едва машина сдвинулась с места, как оркестр, выстроившийся у стеклянной пирамидки КДП, грянул «Прощание славянки». На вентили труб были надеты чехлы, чтобы пальцы музыкантов не примерзали к клапанам. У развернутого знамени командир полка в меховом комбинезоне вскинул руку к меховой каскетке, отдавая честь экипажу, идущему в Атлантику «на полный радиус». Самолет разбегался, взметая за собой поземку и раскаты старого марша.
Сквозь надсадный рев моторов пробились на секунды печально-бравурные рулады валторн.
Филин завороженно следил, как с закрылков срываются комочки горючего. Пробоина захватывала краем баки третьей топливной группы. Короткое замыкание и… Надо срочно отключить противообледенение правого крыла.
Анохин медленно – осторожно – набирал высоту. В голубой дали едва заметно вспухали, клубились кучевые облака. Командир плавно развернул корабль на север, обходя теплый фронт. Лучше сделать крюк, чем зарыться в эту вату, в которой турбины жрут топливо вдвойне, в которой трясет порой так, что крылья ходят, как у махолета, и в которой, наконец, вызревают молнии – шаровые, линейные, ветвистые, какие угодно…
«Летим точно на север, – отметил про себя Филин, – а значит, не возмущаем силовые линии магнитного поля Земли. И слава богу!»
– Штурман, подлетное время к запасному аэродрому?
– Четыре часа десять минут, – доложил Кижич и еще раз поразился, как невыносимо долго висеть им между небом и землей. До следующей поворотной точки битый час.
Капитан Филин не спускал с пробоины глаз. На больное крыло падала тень фюзеляжа, и крыло было чугунно-черным.
Анохин благополучно набрал высоту: на стеклах кабины расцвели морозные цветы. Но вести самолет по-прежнему было трудно: турбины левого крыла работали на полную мощность, и машину сносило в сторону неработающих двигателей. Восьмилопастные винты умолкших моторов вращались на авторотации [13]13
Самопроизвольное вращение винтов под действием набегающего воздушного потока.
[Закрыть], лобовое сопротивление их дисков ощутимо передавалось через левую педаль. Черные рога штурвала норовили уйти вправо, и майор с силой удерживал их.
Филин ждал, что командир вот-вот передаст ему управление, а сам слегка расслабится, переведет дух, все-таки после столкновения с «фантомом» прошло больше часа. Но время тянулось, а Анохин как вцепился в рукояти штурвала, так и не выпускал их из короткопалых рук. Сегодня за весь полет он еще ни разу не передавал Арсению управление; либо вел самолет сам, либо включал автопилот – будто вдруг разуверился в своем правом. Поговорка правых пилотов «Наше дело правое – не мешать левому, на педали жмем нейтрально, деньгу гребем нормально» утешила слабо.
Сначала Филин тихо обижался, точь-в-точь, как дулся он на старшего брата, который возил семилетнего Арсюшу «на раме» взрослого велосипеда и не позволял ездить самому, хотя тот здорово крутил педали и из-под рамы.
Обида копилась, росла… Неужели он не понимает, как хочется подержать напоследок штурвал, попрощаться с небом?
Арсений не покривил душой, когда обещал Ольге уйти с летной работы. Уходить так уходить… Недаром бывалые «пилотяги» учили: «Принял в воздухе решение и держись его до конца. Замечешься – погибнешь»… И Филин принял решение, честно признавшись себе, что летная карьера не задалась. Ему за тридцать, а он все еще правый пилот. Не оставаться же, в самом деле, в «пятнадцатилетних капитанах». Он и так уже третий год «перехаживает». А тут как раз майорская вакансия на земле открывается – начальник тренажерного комплекса. Пару месяцев, и «встал на рельсы» – на погонах два просвета и большая звезда. Золотистая, из «крылатого металла» – алюминия, с пупырышками на лучах… А та голубая – летная – звезда покатилась к закату, едва достигла зенита.
Капитан Филин помнит дату апогея: 19 января 198… года.
…Проклятый вентилятор! Резиновая крыльчатка бессмысленно гнала в лицо и без того холодный воздух. Володя так и не смог найти выключатель – устройство кабины он знал еще слабовато, а спрашивать у пилотов такую ерунду было стыдно. Штурман называется, вентилятор выключить не может…
Володя выглянул в носовое остекление. Море внизу напоминало голубой ситец в белый горошек. Это пошли первые льдины Северного океана. На душе чуть-чуть повеселело – домом повеяло…
Филин тоже обрадовался приметам Арктики, хотя и понимал: до ближайшего запасного аэродрома еще лететь и лететь. Пробоина в крыле уже не притягивала взгляд, как прежде, и мысли все больше и больше занимало одно: когда же Анохин выдохнется и передаст управление? Пусть хоть на пять минут, только бы еще раз ощутить, как шевелится в ладонях небо… Ну что ему, жалко, что ли?! Не налетался за день? Или не налетается еще, если дотянут до земли?
Майор, затянутый в кожу – куртка, шлемофон, перчатки, унты, – сосредоточенно парировал правый крен. Кожа летной одежды придавала его голове, торсу, рукам строгие, почти геометрические формы; скупые однообразные движения напоминали кинематику робота. Этакий кожаный автопилот сидел в чаше левого кресла, придаток приборной доски, биологический агрегат самолета…
Филин перебрал еще несколько не менее обидных определений и вывел для себя окончательно, что летать одному много проще и приятнее.
В тот день старший лейтенант Филин на самолете вертикального старта поднялся с палубы противолодочного крейсера «Славутич». Взлетал с полного хода корабля. Покачивало. Пока самолет стоял, стойки шасси ходили вперевалку, точно машина сама переминалась с ноги на ногу.
Сколько помнил себя Филин корабельным летчиком, всегда было странно ощущать это покачивание в кабине не взлетевшего еще самолета.
По-зимнему непогодилось. Нижняя кромка облачности едва не цеплялась за мачту крейсера.
Моросило. По фонарю стекал дождь. «Минуты через две, – подумал Филин, – капли сдует, дождь останется внизу и засияет солнце». Эта простенькая мысль перед стартом помнилась до сих пор. Наверное, потому, что Арсений ждал тогда не меньше, чем самого полета, солнца, истосковавшись за долгую полярную ночь по живому теплу и свету. Ведь даже когда «Славутич» вошел в «зону гарантированных восходов», просторное океанское небо как назло всю неделю было обложено серыми сырыми облаками.
Счет годам, прожитым в Заполярье, Филин вел не по новогодним праздникам, а по Дням Первого Солнца – дням, когда из-за скалистого хребта выкатывался на несколько минут долгожданный малиновый шар. С утра Ольга, как и все северодарские женщины, повинуясь смутным языческим зовам, пекла большие круглые блины – «краснославы». К часу, предсказанному до секунд флагманским штурманом, весь город собирался на главной площади – плоской сопке, обстроенной по скатам домами; жгли костры, угощались у военторговских лотков, лазали на шесты за клетками с петухами, хохотали, куролесили и вмиг замирали, когда из-за гористой гряды всплывал алый полумесяц жизнеточивого светила…
Как и все северяне, Арсений был истым солнцепоклонником. Девятнадцатого января в летной кают-компании подали на завтрак блинчики с мясом, и Филин, вытряхнув фарш на тарелку, развернул блины в золотистые ажурные круги. Кто-кто, а он-то увидит сегодня солнце, первое солнце года, и не с гарнизонной площади – встретит его в небе, в родной для них обоих стихии…
Подпирая голубоватые крылья столбами огня и рева, машина Филина зависла над чешуйчатой палубой «Славутича». Арсений плавно перевел сопла подъемно-маршевых двигателей в походное положение и поплыл в воздухе к краю палубы, перевалил через откинутые леера, а затем двинулся по-над морем, набирая скорость, высоту и подъемную силу воздушных струй.
Угловатая палуба огромного корабля уменьшилась до размеров спичечного коробка, и вскоре «утюжок» крейсера исчез в серой дымке. Филин пробил облачную пелену и сполна черпанул фонарем солнца, словно шеломом – «живую воду». Огнеструйный оранжевый шар закачался на правом крыле..
Это было самое настоящее опьянение солнцем, небесная эйфория, голубое ликование… Никогда в жизни Арсений не испытывал такого буйного прилива сил, такой уверенности в себе и машине. Закрылки и элероны чутко отзывались на любое движение мышц, двигатель работал ровно и приемисто.
Филин в клочья разнес пластиковые бочки, обозначавшие цели, и чувство собственного могущества здесь, в небе, окрепло еще больше. Оно не покинуло его и тогда, когда, заходя на посадочный курс, Арсений не увидел корабля. Он хорошо различал кильватерный след «Славутича», но дорожка взбитой крейсерскими винтами воды терялась в серой завесе снежного шквала. Такие заряды проходят быстро, он это знал, спокойно развернулся и зашел еще раз. Взглянув на топливомер, он предупредил себя, что горючего в обрез и если снежная заметь через минуту не рассеется, то после третьего захода топлива на посадочное зависание не останется.
Заряд через минуту не рассеялся, и Филин снова промчался над невидимым кораблем.
– Сто пятый! – голос РП – руководителя полетов – прорвался сквозь громыхание джаза, забившего волну. – Разрешаю катапультироваться. Выбрасывайся по курсу корабля. Как понял?
Филин все еще ощущал в себе радостное дерзкое всесилие, и потому предложение РП показалось нелепым, поспешным, наконец просто кощунственным. Бросить, утопить прекрасную машину, которая так восхитительно продолжает его тело, несет его с послушностью мышц и нервов?
– Вас понял. Прошу «добро» на посадку по-самолетному.
Он произнес это так, что там, внизу, поняли: старший лейтенант Филин машину посадит. И ему разрешили совершить это чудо. Никто в истории морской авиации еще не направлял реактивный самолет на палубу крейсера – не авианосца! – так, как будто перед ним простиралась аэродромная бетонка длиной в километры. Но Арсений был в ту минуту сыном Солнца, которому можно все и который может все…
Потом ему показали видеозапись его фантастической посадки. Он смотрел на экран, верил и не верил, что это его самолет пробивает снежную бурю, что в стеклянном черепе иглоносой машины сидит он, Арсений Филин, и не просто сидит, а творит небывалое, не предусмотренное ни конструктором, ни всевышним, – ведет истребитель на куцую палубу, будто на просторнейший аэродром.
Сначала на экране возник расшеперенный, как майский жук, самолет. Арсений почти бездумно, рефлекторно выпустил воздухозаборник и тормозные щитки, чтобы хоть как-то сбить гибельную скорость. Но все равно машина росла в размерах стремительно. И Филин невольно съежился перед телеэкраном, сгруппировался, как тогда, в кабине… Вот он, кормовой срез. Пролет на высоте человеческого роста.
«Сто пятый, скорость! – надрывался эфир. – Придержи вертикальную!»
Поздно.
Он уже несся над палубой.
Резкий клевок.
Самолет ударился передним колесом о чешуйчатый настил – стойка шасси выдержала! – машина снова прянула в воздух, но удар уже пригасил скорость. Второй подскок также приостановил истребитель. Но его понесло на надстройку, к которой жался не спущенный в ангар самолет. Под стеклянным фонарем еще сидел не успевший выбраться из кабины летчик. Филин передернул педали и чудом отвернул в сторону. Задымились шины, мертво схваченные тормозами. Он замер в сорока сантиметрах от крыла соседней машины. Реактивный самолет, пробегающий по земле многие сотни метров, вместил свой посадочный бег в считанные десятки шагов.
И на корабль упала тишина…
Первым подбежал техник – веселый кудрявый парень, отважный оруженосец. Машина слегка дымилась, и двигатели после аварийной посадки могли полыхнуть, а Саня Панов, Санченко-Панченко, не раздумывая, бросился к летчику, взлетел по стремянке, откинул фонарь.
– Молодец! – только и крикнул он Филину, помогая освободиться от ремней.
Пошатываясь, Арсений прошел в кубрик, куда уже спустился с мостика вице-адмирал, наблюдавший посадку.
– Товарищ адмирал…
Старый моряк прервал доклад крепким объятием. Потом окружили свои, жали руки, хлопали по плечам и кто-то уже требовал писать объяснительную записку…
– Погодите! Дайте пообедать! – отмахивался Филин. Но есть не стал, выпил только три стакана компота.
Спустя неделю неподалеку от «Славутича» на американском атомном авианосце «Нимиц» разбился при посадке самолет радиотехнической разведки. Он заходил на широкую палубу ясным днем при штилевом море и по необъяснимой причине врезался в группу штурмовиков, стоявших в стороне. Были взрывы, пожар, исковерканные обломки и обугленные трупы. Филин разглядывал их на газетных снимках.
«Кисмет» – припомнилось тогда лермонтовское слово. Удар судьбы.
Через месяц, в базе, на корабль прибыла отборочная комиссия из Центра подготовки космонавтов. Старший лейтенант Филин, летчик 1-го класса и кавалер ордена Красной Звезды, шел в кандидаты, как у них говорили, «первым корпусом». Арсений уже видел себя в космическом гермошлеме. Но тут грянул гром с ясного неба, с такого же ясного, какое простиралось и над «Нимицем» в роковой день. Врачи обнаружили у Филина пониженную нервную проводимость. Он был негоден не то что в космонавты – в корабельные летчики. Ему предложили дальнюю авиацию. Арсений согласился бы и на военно-транспортную, и на бомбардировочную. Все равно…
«Если Ольга родит сына, – подумал Филин, – никогда в жизни не подпущу его к самолету. Запас счастливых случайностей израсходовал за него отец…»
С какой-то минуты полета ему стало казаться, будто гул турбин вибрирует на мотив: «Не скажет ни камень, ни крест, где легли…»
Морская синь под крыльями исчезла. Всюду, насколько хватало взгляда, белели ледяные поля. Трещины, которые черными зигзагами делили эти просторы утром, на пути в Атлантику, к вечеру сомкнулись и срослись.
Они уже так давно были в воздухе, что самолет, казалось, превратился в некий летучий остров, и на землю теперь можно спуститься лишь с помощью модульного аппарата. Оранжево-пушистый шар солнца ушел под хвостовое оперение. Они улетали от него навстречу плывущей с востока темени. Но прежде надвинулись кучевые облака, величественные и самодовлеющие, словно айсберги. Они клубились туго и плотно и походили на белые аэростаты, касание которых грозило гибелью.
Анохин взял штурвал на себя и набрал еще метров триста.
Род пилота шел от Атласа – исполина, взвалившего на плечи небосвод античного мира. Кровь Атласа текла в жилах Икара. Дерзкий юноша перед полетом к солнцу полюбил такую же пленную, как и он, девушку-скифянку, и она увезла с Крита в Таврию черноглазого мальчика. От этого мальчика пошло племя соколиных охотников и голубиных почтарей. Тут уж сам бог не в силах проследить извивы и устья тех русел, по которым кровь Икара поднялась на север, добежала до Великой Александровой слободы и взыграла в жилах холопа Никитки. На деревянных крыльях слетел дерзкий смерд с колокольни Распятской церкви, уцелел, но был изрублен по приказу грозного царя, наблюдавшего полет, дабы другим неповадно было. Однако же не смогли царевы бердыши пресечь токи икарийской «руды». И расточилась она, полетная страсть, по городам и весям, по слободам и посадам на многие лета, на вечные века…
И проникла она в Рязань, где подьячий Крякутный наполнил дымом шелковый мех и прянул в небо выше креста на маковке.
И пошел от подьячего корень рязанских летунов.
Обе ветви анохинского рода – мужская и женская – сполна вобрали в себя эту птичью тягу ввысь. Дед по матери летал на гидроплане с авиаматки «Орлица»; дед по отцу поднимал в воздух тяжелые «Ильи Муромцы».
Отец майора Анохина, летом сорок первого, израсходовав в бою патроны, посадил свой истребитель на аэродроме, не зная, что его только что оставили советские войска. Навстречу самолету бежала девушка-санитарка. За ней гнались немецкие солдаты. Летчик подрулил к девушке, помог ей втиснуться в одноместную кабину и на остатках горючего взмыл в воздух. Ему удалось приземлить машину на опушке полесской пущи. Потом целый месяц они вдвоем пробирались на восток. Девушка стала женой летчика и матерью нового пилота.
Сам майор Анохин овдовел рано – еще в лейтенантах. Жена его, лаборантка кафедры аэродинамики того училища, которое он кончал, погибла в авиакатастрофе близ Черноморского побережья. Трехлетний сын жил до пятого класса у бабушки, потом при отце – в гарнизонной школе-интернате, а последние два года провел в суворовском училище. Прошлой осенью парня призвали в армию. То, что он попал в авиацию, было игрой случая – слепого, но справедливого…
Как ни обходил майор теплый фронт, а все же самолет затрясло – так швыряет и подбрасывает машину, съехавшую с асфальта на булыжник. Размашистые крылья упруго закачались, точно у птицы, набирающей высоту. Филин явственно ощутил, как напряглись правые лонжероны – эти скелетные «кости» крыла, надломленные килем «фантома». Приутихший на время страх холодным огнем лизнул взмокшую спину…
Тряска длилась вечность – почти четверть часа. Когда она поутихла, Анохин показал Филину кольцо из пальцев – несколько раз сузил и расширил его.
Арсений оглянулся на крыло.
– Пробоина не увеличилась, – ответил на немой вопрос. – Какой была, такой осталась.
И тогда Анохин впервые за весь полет улыбнулся. И показал ладонью: «Долетим!»
От этого уверенного жеста Филину сразу стало спокойней. Вдруг вспомнилось, как командир полка сказал об Анохине на совещании офицеров: «Летает на всем, что поднимается в воздух».
Филин мог поклясться, что он уже видел сегодня и эту улыбку – широкую, белозубую, и этот жест ладонью… Он еще раз скосил взгляд влево. Эта прядь, выбившаяся из-под шлемофона…
Утром на стоянке хвостовой стрелок, широко улыбаясь, уверенно покачивал ладонью: «Не надо, товарищ прапорщик!» – в ответ на шуточное предложение Прокуратова «махнуться часами, не глядя». И та же прядь, прижатая шлемофоном.
Так не однофамилец майору сержант Анохин!
Сын!
Ночь надвигалась с востока, и они влетели в нее почти сразу, без сумерек и вечера. Темнота съела крылья. Красная подсветка приборов наполняла кабину багровым полумраком. Только за плотно задернутой шторкой горела над штурманским столиком нормальная опаловая лампочка. Володя давно уже проложил кратчайший курс на запасной аэродром и теперь с ненавистью поглядывал на работающий «ушастик»: воздушная струя холодила пальцы, лицо; замерз кончик носа.
Резиновые лопасти мельтешили настырно. Нелепое и неостановимое их вращение то и дело напоминало о беде, которая стряслась с самолетом. Кижич тщетно шарил взглядом по стеганой обшивке кабины – зеленой мягкой складчатой, словно чрево кита. Выключателя как не бывало! И тогда он прижал вентилятор ладонью, оборвал одну лопасть, другую, третью… Облысевший ротор вращался сам по себе, ветерок иссяк, и Володя испытал такое облегчение, будто укротил бурю. От этой мысли стало смешно, и он зашелся тряским смехом, беззвучным в гуле турбин. Утерев слезы, Кижич спрятал лопасти в карман, на память, и выглянул в обтекатель. Они шли в облаках, и огни на консолях светились призрачно, словно фонари в метель…
«Этого нам только не хватало!» – подумал Филин, глядя, как по плоскости крыла, по кожухам мотогондол и обшивке фюзеляжа заплясало пушистое голубое пламя. Наставления по полетам в высоких широтах утверждали, что «огни Эльма» – дикое атмосферное электричество – совершенно безвредны и для людей, и для машин, если не считать помех в радиосвязи. Но зрелище было слишком зловещим, чтобы наблюдать его бесстрастно. К тому же никто не мог поручиться, как поведут себя поврежденные, топливопроводы в этом холодном пламени. Голубое свечение затмевало ало-зеленые блики бортовых огней, оно струилось, трепетало, косматилось, рождая в памяти картины пожаров.
«А красиво! – невольно восхитился Филин. – Если долетим, будет что вспомнить».
И долететь захотелось с новой силой.
– Радист! – запросил он Прокуратова. – Как связь с «Шорником»?
– Работаю с «Шорником», товарищ капитан! – отозвался прапорщик. Через несколько минут он доложил: запасной аэродром не принимает – буран, боковой ветер с порывами до сорока метров в секунду, видимость нулевая…
Анохин рубанул воздух ладонью. Филин безошибочно перевел его жест в команду:
– Штурман, пойдем к себе! Курс на Северодар?
Володя назвал.
Силуэт самолетика на шкале гирокомпаса уткнулся носом в нужную цифру – майор закончил доворот.
Филин не смог не заметить: маневр этот дался Анохину с трудом. Несколько раз, когда командир ослаблял давление на педаль, Арсений чувствовал, с какой силой надо было удерживать самолет на курсе. Он поразился выносливости и упорству своего «левого»: столько часов парировать разворачивающий момент! Все равно что полдня отжимать ногой двухпудовую гирю…
После догадки насчет анохинского отцовства неприязнь к командиру улеглась сама собой, как приутихли и пилотские амбиции. Окажись он сам в его шкуре, решил про себя Филин, он бы тоже никому не передоверил штурвал и педали. На минуту представил, что в хвостовом отсеке сидит сейчас Ольга с Леночкой и Милой и, может быть, с уже родившимся сыном. От этой мысли его слегка передернуло. Какое счастье, что они там, внизу, на прочной и безопасной земле!
Анохин медленно уводил самолет с высоты. Голубое свечение прекратилось, и теперь в лунном свете хорошо было видно, как далеко простираются гряды облачных холмов. Сначала они сливались в сплошную рыхловатую гладь с витиеватыми бороздками. Но, по мере снижения машины, из зеленоватой подлунной равнины стали вспухать бугры, курганы, сопки, вспучиваться клубы и гроздья из плотного тумана. Они приближались, росли, превращались то в винтовые кручи, то в пухлые, рваные башни, в застывшие смерчи…
Стрелки высотомера перебирались от риски к риске, точно часы, пущенные на обратный ход. Они и в самом деле были теперь часами, цена деления которых равнялась жизни.
Самолет снижался. Он погрузился в самый верхний ярус облаков, и сквозь их пока еще дымчатую пелену луна вдруг вспыхнула радужными кольцами… Потом стекла кабины надолго почернели. И когда хмарь разредилась, а тьма чуть рассеялась, Володя увидел в нижнем овале стеклянного колпака совсем уже близкую сутолочь валунов и скал. И тут же некто непрошеный ледяным голосом подсказал, что полет над горной тундрою опаснее, чем над океаном. На море можно приводниться, а здесь единственный островок безопасности – аэродром.
Но они уже взяли дальние приводные станции, и вскоре Анохин вывел самолет на посадочную глиссаду [14]14
Траектория посадки.
[Закрыть]. И командир, и правый пилот, и штурман – все они почти одновременно различили в разлившейся по тундре темени оранжевый прочерк взлетной полосы. Они бы узнали ее огненный рисунок из мириад иных земных и небесных огней. Горящий в ночи пунктир раздвоился на параллельные цепочки, цепочки замкнулись в прямоугольник, прямоугольник вытянулся, обрел перспективу, как вдруг резко ушел влево и лобовые стекла застлала черная слепота. Филин не успел понять, в чем дело, – левая педаль вдавилась в ступню с неожиданной силой. Он отжал ее рефлекторно, парировал штурвалом правый крен и только потом глянул на командира. Скривившись от боли, Анохин колотил левую ногу, пытаясь оживить ее, как видно, сведенную судорогой. Эх, перенапрягся командир!.. Но сочувствовать и раздумывать было некогда. Посадочные огни снова прострочили лобовые стекла; на сей раз они вели себя очень зыбко – качались, дергались и все время норовили уплыть влево – под крыло с работающими двигателями. Филин никак не мог удержать машину на прямой – надо было хоть немного привыкнуть к скособоченной тяге «движков». Но на это не оставалось уже ни секунды.
Арсений с ужасом понял, что самая трудная часть полета пришлась на него, сажать машину придется именно ему… И это, пожалуй, не легче, чем пробег по палубе «Славутича». Но там было вдохновение, помноженное на солнечную отвагу, на молодую дерзость… Там было наитие, заменившее все расчеты и рефлексы. Сейчас же ничего, кроме страха, близкого к отчаянию, Арсений не испытывал. «Не смогу!» – хотел, он крикнуть майору, но тут почувствовал, как Анохин снова впрягся в штурвал. Это было хуже всего. Управлять машиной должен был кто-то один. Нельзя одному – педали, другому – штурвал, одному – горизонт, другому – вертикаль… «Гробанемся!» – обожгло Филина, и он почти заорал:
– Сам!!
Анохин, умница, спорить не стал. Отдал управление. С этой секунды все ушло прочь, и мысли Арсения сделались четкими и чужими, как будто он считывал их с экрана.
«Шасси выпущено – это главное… Великовата скорость… Это погасим… Много высоты…»
Он швырнул машину к самой бетонке, которая неслась серой струей. Швырнул слишком резко, это могло плохо кончиться. Но не было времени даже ругнуть себя за просчет. Самолет заносило вправо, так что правая мотогондола летела не над плитами – над обочиной, снежным отвалом.
«Ну же!» – зашелся Филин в последнем усилии.
Сам ли он переборол машину, или вмешался Анохин, или счастливо помог боковой ветер, Арсений не разобрал, ощутил только с боязливой радостью, что путь машины в п и ш е т с я в полосу.
Тряхнуло. Подбросило. Понесло по бетону. Покатило…
«Тормози!»
«Кажется, замедляемся…» Никогда еще колесный бег не казался Филину таким упоительным…
До стоянки их самолет сопровождал кортеж из пожарной машины, санитарного «рафика», «газика» командира полка и «Волги» командующего авиацией.
Открыли нижний люк, выбрались в блаженный холод февральской ночи, захрустели унтами по снежку, выстроились под крылом. Докладывать и отвечать на вопросы пришлось Филину. Потом осматривали пробоину. Встречавшие цокали языками и качали головами, хвалили авиационную промышленность, конструктора и весь экипаж, уточняли сроки ремонта.
Командир полка спохватился, хлопнул Филина по заснеженному плечу:
– Поздравляю, отец! Дочка! – И, обернувшись к генералу, пояснил: – Третья дочка, товарищ командующий! Ждали пилота, а приняли стюардессу!
Генерал прогудел в ответ что-то веселое и ободряющее. Но Арсений его не слушал. Он улыбался тайным мыслям: «Договор был насчет сына…»
Дежурный тягач, рыча мотором, осторожно катил бомбардировщик в ангар ремонтных мастерских. Луна плыла над сопками маленькая – с копеечку.