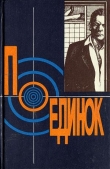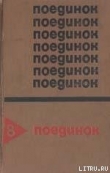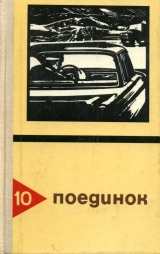
Текст книги "Поединок. Выпуск 10"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Виктор Пронин,Алексей Новиков-Прибой,Анатолий Степанов,Николай Черкашин,Борис Можаев,Сергей Диковский,Юрий Авдеенко
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– Он мне должон, – мотнув головой, сказал мужик в стеганке.
– Сколько? – спросил инспектор Жбания.
– Рупь, – ответил тот твердо.
– Совсем нет, – возразил высокий мужчина в клетчатой куртке. – Я платил за пиво тридцать пять копеек.
– Когда?
– Тогда.
Зазвонил телефон. Поднимая трубку, инспектор Жбания укоризненно поморщился, сказал задержанным:
– Выйдите в коридор. И постарайтесь выяснить сами, кто кому сколько должен.
Переглянувшись, мужчины поспешно вышли.
– Инспектор Жбания слушает.
– Сегодня в четырнадцать часов сорок минут на двадцать третьем километре Приморского шоссе, – голос оперативного дежурного был холодный и строгий, – совершено нападение на такси, перевозившее кассира с зарплатой для работников совхоза «Ахмедова Щель». Похищены деньги в сумме свыше шестнадцати тысяч рублей, достоинство и номера купюр устанавливаются. В нападении участвовало трое преступников, один из которых вооружен. Его приметы: возраст сорок пять – пятьдесят лет, высокий, худощавый, форма лица прямоугольная, нос вытянутый. Волосы черные, подкрашенные. Одет в черную кожаную куртку… Преступники скрылись на «Москвиче-400» серого цвета в направлении города Новороссийска. Всем отделениям милиции, патрульным машинам, постам ГАИ принять меры к задержанию. Следует иметь в виду, что преступники могут переменить вид транспорта, воспользоваться другой машиной или рейсовыми автобусами. При задержании соблюдать особую осторожность.
Положив трубку, инспектор Жбания достал из кобуры пистолет, на всякий случай проверил обойму. И, убедившись, что все нормально, спрятал пистолет обратно в кобуру. Встал из-за стола, одернул китель.
Крюков не вошел, не вбежал, а, можно сказать, влетел в кабинет.
– Гольцев покушался на жизнь следователя Ивановой. Оглушил ее и сбросил в погреб. Лада уверяет, что Гольцев убил сапожника Ашотяна. Лада видела бумажник Ашотяна у Гольцева.
Жбания как-то странно посмотрел на Крюкова и вдруг рывком схватил трубку:
– Алло! Алло! Товарищ майор, младший лейтенант Жбания. Переданные вами приметы совпадают с приметами коменданта совхозного общежития Гольцева Леонида Марковича. Около часа назад он покушался на жизнь следователя прокуратуры Ивановой… Фотографии. В отделе кадров есть фотографии… Я вас понял. Будет сделано.
Когда Жбания и Крюков вышли из кабинета, милиционер в коридоре спросил:
– А с этими что делать? – И он показал на споривших мужчин.
– Пусть идут домой проспятся. Разбираться будем завтра.
33«Здравствуйте, дорогие мои старики, мои мамочка и папочка!
Слово «старики» я употребляю исключительно в том значении, которое оно получило в последнее время, когда вчерашние школьники, встречаясь друг с другом, говорят: привет, старик! Привет, старуха!
Я совершенно уверена, что и в сорок пять лет, и даже в пятьдесят буду считать себя молодой женщиной. Потому что душа у человека стареет гораздо медленнее, чем тело. А возможно, даже не стареет никогда.
Я пишу вам это короткое письмо лишь по той причине, что нахожусь сейчас в командировке, а вы можете мне позвонить и, не застав меня, будете беспокоиться. Тогда маме придется вызывать «неотложку» и принимать кучу таблеток. Папа тоже будет волноваться и без всякой причины по нескольку раз в час протирать свои очки.
Командировка моя легкая. Больше похожа на обыкновенный отдых, чем на командировку. Единственное неудобство, что постоянно приходится находиться в помещении, ограничивать себя в движениях. А так охота побродить, походить вдоль берега, послушать море.
Работой своей я довольна. Чувствую себя здесь нужной и полезной. Много учусь. Но теперь уже не по книжкам. У жизни учусь, у работы, у товарищей. Мой коллега Виктор Сергеевич Пулькин уверяет, что настанет час, когда я превзойду все добрые пожелания друзей и близких и стану настоящим юридическим асом. Он говорит, этот час не так и далек, как могут думать скептики.
Мамочка и папочка, я вас убедительно прошу не проявлять никаких инициатив в отношении моей судьбы. Весь человеческий опыт учит тому, что судьбы детей очень редко совпадают с судьбами родителей, очень редко бывают на них похожими. Мы же все-все еще со школьных лет знаем: жизнь – это движение. А движение означает перемены. Сегодня не похоже на вчера. Завтра не будет похоже на сегодня. У вас своя жизнь. Свои заботы, интересы, надежды. Свои понятия успеха и прозябания. Хорошего и плохого. У меня эти понятия свои. В чем-то они совпадают, в чем-то расходятся… Если бы дети ни в чем не отличались бы от своих родителей, человечество до сих находилось бы в каменном веке.
Я не хочу возвращаться в Москву. Мне хорошо здесь. Страхи мамы о том, что вдали от столицы я никогда не выйду замуж, напрасны. Уверяю, порядочные молодые мужчины есть не только в Москве. Во всяком случае, я не чувствую себя одинокой женщиной, на которую никто не обращает внимания.
Через пару месяцев у нас наступит разгар курортного сезона. Приглашаю вас на ласковый берег Черного моря. Ни о каком предмете, одушевленном или неодушевленном, нельзя судить, не увидев его или не выслушав.
По первому снежку обещаю приехать к вам в гости.
Крепко целую.
Когда вернусь из командировки, позвоню.
Любящая вас дочь – Лада».
Надписав адрес и заклеив конверт, Лада передала его медицинской сестре и попросила опустить в почтовый ящик…
34До палаты Игнатия Федотовича Потапова проводил главврач больницы, знавший городского прокурора лично. По длинному белому коридору ходили люди в серых застиранных халатах. Потапов подумал, до чего же эти больничные халаты имеют удручающе унылый цвет. И ему самому стало уныло. Он почувствовал, как неритмично постукивает его сердце, как неохотно с короткой тупой болью сгибается правая коленка. Лицо его посерело, стало слабым и жалостливым.
За широким окном, усеянным продолговатыми каплями дождя, вспучивалось тучами небо. Тучи были черно-пегими, длинными, надвигались одна на другую с тяжелым пугающим упрямством.
Потапов остановился и вздохнул тяжко.
– Сюда, Игнатий Федотович, – подсказал главврач, открывая дверь в палату.
Судя по количеству коек, палата предназначалась для трех человек, но сейчас Лада находилась в ней одна. Лежала на койке возле окна, задернутого белой накрахмаленной занавеской. И потому, что окно прикрывали эти занавески, палата показалась Потапову мрачной, душной, и ему захотелось расстегнуть воротничок.
Бинтовая повязка на голове у Лады не белела. Потапову почему-то думалось, что такая повязка обязательно будет, поскольку Ладу оглушили, ударив по голове.
– Здравствуйте, Лада Борисовна, – сказал Потапов. – Здравствуйте, моя милая.
Лада повернула голову, открыла глаза. Улыбнулась, сделала попытку приподняться, но Потапов поспешно сказал:
– Лежите, лежите. Ради бога, лежите.
– Здравствуйте, Игнатий Федотович. Спасибо, что пришли.
– Ну, ну… – засмущался Потапов, достал из кармана плитку шоколада. – Врачи сказали, вам это можно.
– Я сладкоежка, – согласилась Лада.
Потапов присел на край койки.
– Рассказывайте, – попросила Лада.
Покосившись на дверь, которую прикрыл главврач, оставшийся в коридоре, Потапов шепотом сказал:
– Вам нельзя много говорить. И даже много слушать. Если только самым кратким образом. В двух словах. Потом сами дело прочитаете… Засекли мы их с помощью вертолета.
– Кого конкретно? – нетерпеливо спросила Лада.
– Гольцева, Друзенко и Скворцова. Засекли в тот момент, когда они сбросили с обрыва «Москвич». Друзенко приподнял его за правый борт снизу и опрокинул. Точно так он опрокинул машину Сорокалета.
– А за что?
– Гольцев и Друзенко были братья по матери. Мы их по делу ведем, как Друзенко-старший и Друзенко-младший. Отцом Друзенко-старшего был Пеликанов по прозвищу Кардинал, убитый в начале тридцатых годов во время перестрелки с сотрудниками Донугро. Вдова Кардинала вышла замуж, и новый муж по фамилии Друзенко усыновил ее сына.
– Значит, Гольцев и Друзенко – сводные братья.
– Выходит так. Где Друзенко-старший достал документы на имя Гольцева Леонида Марковича, нам пока установить не удалось. Может, убил человека. Может, украл. Может, купил… Во всяком случае, Скворцов, давший откровенные показания, этого не знает…
– Почему убили Сорокалета?
– По непроверенным данным, Сорокалет и был тем таксистом, который 12 июня 1966 года привез Молова и Друзенко-старшего к сберегательной кассе на улице Солнечной… Призыв в армию спас его от внимания правосудия. В армии он повзрослел, поумнел. И решил жить честно. Когда же сестра вышла замуж за Гольцева, поселилась в Ахмедовой Щели, то, вероятно, Сорокалет поверил, что Гольцев тоже решил завязать со своим преступным прошлым. Только так можно объяснить его поведение. Но он ошибался… В совхоз деньги привозят из городского банка. Кассир жила в городе. И потому деньги привозили на такси. Чаще всего это делал Сорокалет. Кассирша знала его сестру, знала его и потому заказывала именно его машину.
Гольцев хотел инсценировать ограбление. Сценарий прост. На двадцать третьем километре Приморского шоссе у Сорокалета якобы глохнет мотор. Он открывает капот, выходит из машины. В этот момент появляются налетчики в масках, угрожая пистолетом, забирают деньги. И скрываются…
– Без кровопролития? – уточнила Лада.
– Да. Первоначальный вариант был именно такой, по словам Скворцова.
– А Гольцев и Друзенко что говорят?
– Изворачиваются. Потом прочитаете дело… Гольцев несколько раз вел с Сорокалетом намекающие разговоры. Но окончательно раскрыл перед ним план в ту злополучную среду четвертого апреля. Сорокалет наотрез отказался участвовать в преступления. И ультимативно потребовал, чтобы Гольцев немедля убрался из Ахмедовой Щели, пригрозив в противном случае сообщить обо всем органам милиции. Тогда Гольцев дал указание убрать Сорокалета. Друзенко на своем трейлере встретил Сорокалета на двадцать третьем километре, выйдя на встречную полосу. Вот почему Сорокалет оказался у бордюра левой полосы. Вместе с Друзенко был Скворцов. Пока Скворцов и Сорокалет разговаривали…
– О чем? – спросила Лада.
– Скворцов от имени Гольцева просил дать ему две недели, чтобы уволиться и уехать, не привлекая внимания. Скворцов уверяет, что ничего не знал о намерениях Друзенко. Словом, пока они разговаривали, Друзенко, благодаря своей необыкновенной силе, приподнял правый борт «Жигулей» и затем опрокинул машину в ущелье. Что касается Георгия Ашотяна, то его несчастье заключалось в том, что это был единственный человек, с кем Сорокалет общался после разговора с Гольцевым. Мало того, он был еще и другом Сорокалета. Гольцев опасался, что Сорокалет мог сообщить Ашотяну об их разговоре… Друзенко убил его, ударив бревном, инсценировав наезд…
– Где же они прятали «Москвич»?
– Нигде. В гараже хозяина, Веселого… Виктора Федоровича. Просто в тот день, когда Крюков осматривал гараж, машина находилась во дворе любовницы Друзенко. Есть там одна не очень путевая вдова… А потом они перегнали ее в гараж. И все. Мы же искали машину где угодно, только не в гараже хозяина… Но я утомил вас, Лада Борисовна. Отдыхайте. Выздоравливайте. Подробности узнаете на работе.
35В середине мая позвонили из краевой прокуратуры: «Следователем Ивановой заинтересовалась Москва, отдел кадров. Верный симптом скорого перевода…»
Дни грянули солнечные, длинные. Море зеленело свежее, как зелень на городском рынке возле железнодорожного вокзала. Там же на рынке продавалась первая черешня.
Город был разукрашен афишами, извещающими о предстоящем матче на первенство края по футболу между командами «Водник» и «Машзавод». В ресторане «Нептун» по вечерам пел хор цыган.
Над городом и морем летали чайки. Лада никогда не думала, что их может быть так много.
– Да, – сказал Крюков. – В мае здесь всегда птичий базар.
Он был грустен. Казался Ладе похудевшим и осунувшимся.
Они стояли в дальнем конце пристани, выступающей в море вытянутым серым прямоугольником. Справа был пришвартован черно-желтый буксир «Борей», слева – черно-желтый буксир «Орион». С десяток рыболовов, свесив ноги, сидели на самом краю бетона, их бамбуковые удилища настороженно и уныло свисали над водой.
– Я полюбила этот город, – призналась Лада.
– А меня? – тихо и безнадежно спросил Крюков.
Лада остро почувствовала безнадежность вопроса. И не жалость, а радость, спустившаяся к ней так хорошо и внезапно, подсказала ответ:
– И тебя тоже.
Он вздрогнул, как от удара. Покраснел, будто школьник. Тогда, чтобы остудить его, заставить прийти в себя, Лада с улыбкой добавила:
– Наверное.
Но смысловой оттенок, заложенный в последнем слове, не дошел до сознания Крюкова.
– Как же нам быть? Что же нам делать? – отрешенно, словно разговаривая сам с собой, спрашивал он. – Ведь тебе надо ехать в Москву.
– А зачем? – беззаботно пожала плечами она.
– Тебя же переводят! – удивился ее непониманию Крюков.
– Ну и что?
– Ты же на службе.
– Вот об этом я как-то не подумала, – с прежней беззаботностью призналась она. Потом вдруг глаза ее стали серьезными и лицо тоже. Она спросила: – Слушай, а у тебя нет знакомого врача?
– Есть.
– Пусть этот врач даст справку, что мне противопоказана перемена места жительства. Что в результате перенесенного сотрясения мозга я не могу в настоящее время летать на самолете, ездить на поезде и на машине. Я могу только ходить пешком. А пешком до Москвы идти далеко.
– Я достану такую справку, – и он поклялся в этом, произнеся слово «клянусь». Но уже через две-три секунды внезапно сник, и вид у него стал растерянный.
– Что с тобой? – строго, но спокойно спросила Лада.
– Понимаешь. Я достану такую справку. Но ведь это будет неправда.
– Конечно, – согласилась Лада. Взяла его ладонь в свою. Терпеливо и ласково, как маленькому, пояснила: – Это будет та неправда, которую люди поймут и которую простят нам.
Ноябрь 1982 г.
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
Тот апрель был чудесен в Москве. Теплый, беспрерывно солнечный, он все свои тридцать дней жил в напряженном предчувствии небывалого майского счастья. Уже дымились набухавшими почками старые деревья вечно молодых московских бульваров для того, чтобы вскоре вместе с победными салютами взорваться ослепительной зеленью листьев.
А теперь быстрей через улицу Горького на просторы самого знаменитого российского тракта.
Со второго этажа сине-голубого троллейбуса армейский капитан рассматривал набегавшее на него Ленинградское шоссе весны 1945 года. Рассматривал с отвычки незнакомый и щемяще родной путь своего детства, своей юности и своей мужской решимости, с которой три года назад в последний раз совершил этот путь от дома к войне.
У остановки «Протезный завод» две веселые тетки помогли ему сойти: капитан был при чемодане и здоровенном вещмешке, а левая его рука действовала плохо.
– Спасибо, сестрички! – крикнул он в уплывающую и закрывающуюся дверь и озабоченно осмотрел себя.
Он был франт. Хорошего тонкого сукна коротенький китель с выпуклой ватной грудью и прямыми ватными плечами, той же материи роскошные бриджи, смятые в гармошку маленькие сапоги дорогого хрома и фуражка, основанием блестящего козырька привычно сидевшая на лихой брови.
Закинув вещмешок за правое плечо и взяв в правую руку чемодан, капитан, скособочась немного, побрел по Шебашевскому переулку. У четырехэтажного красного кирпича здания школы подзадержался.
– Шестьсот сорок вторая, – произнес он с удовольствием знакомые цифры и удивленно дочитал: – Женская!
Обидно было: он, Александр Смирнов, учился в этой школе, а сейчас вот, глядите, женская! Но настроение не испортилось: присвистнув, пошел дальше, прищуренными счастливыми глазами рассматривая и узнавая забытое и вдруг знакомое: маленькие дома, большие деревья, волнистую булыжную мостовую.
Справа беспокойно существовал Инвалидный рынок.
Палатки с непонятным товаром, ряды со скудной снедью – картошка, соленые огурцы, соленая капуста, семечки – и люди, торгующие с рук всем, чем можно было торговать обнищавшему за четыре страшных года человеку.
Капитан свернул к торгующей толпе. У крайнего ряда заметил мешок с семечками, подошел, спросил:
– Почем?
– Двадцать рублей, – сурово ответил красномордый спекулянт.
Капитан поставил чемодан, скинул вещмешок, из нагрудного кармана достал толстую пачку денег, вытянул красную тридцатку и сказал строго.
– Стаканчик-то маловат.
– Стандарт.
– Полтора стакана, – приказал капитан и развернулся к красномордому карманом великолепных своих штанов.
Красномордый посмотрел, наконец, на покупателя и сразу же разглядел иконостас: два Знамени, Отечественной всех степеней, Звездочка, медали… И, почтительно ссыпая в оттянутый им же карман семечки, поинтересовался грустно:
– Давно оттуда?
– Оттуда месяц как, а сегодня прямо с поезда.
Красномордый кивнул на левую руку капитана:
– Где лежал?
– В Смоленске. – Капитан сладострастно потянулся, спросил: – Звать тебя как?
– Петро.
– Вот что, Петя. Я прогуляюсь малость, а ты за вещичками присмотри.
– Слушаюсь, – привычно подчинился Петро, выскочил, скрипя протезом, из ряда, подхватил чемодан, вещмешок и споро припрятал их под прилавок. Капитан слегка кивнул, командирски благодаря, и, шикарно лузгая семечки, двинул в людское море. Он развлекался: щупал перекинутые через чьи-то плечи брюки, листал диковинные книги, рассматривал, присев на корточки, рассыпанные на плащ-палатке металлические финтифлюшки.
То ли мальчик, то ли старичок раскладывал на фанерном обломке три листика. Смятые коробом карты мелькали.
– Отгадай бубновый туз – унесешь рублей картуз! – кричал мальчик-старичок и двигал, вскидывал три карты.
– Хочу рублей картуз, – сказал капитан и вытянул из своей пачки радужную сотенную.
Мальчик-старичок мгновенно показал ему карты и снова замелькал. Помелькав, заявил торжественно:
– Не отгадаешь туза – стольник мой, отгадаешь – триста твои.
– Готовь триста. Отгадал, – лениво сказал капитан и, стремительно вскинув руку, вырвал из рукава старичка спрятанную карту, потом опять не торопясь перевернул карты на фанерке. То были шестерка, девятка, валет.
– Гони три сотни. – Капитан показывал, держа двумя пальцами, бубнового туза.
– Грабят! – тонко завопил мальчик-старичок. И за спиной у капитана с угрозой поинтересовались:
– Ты ще бандитствуешь, офицер?
Тельник под грязной белой рубашкой, а поверх стеганка, косой чубчик под малокозыркой-восьмиклинкой с хвостиком и круглая прыщавая харя с неряшливой молодой щетиной.
– Я тебя не звал, приблатненный, – холодно сказал капитан.
– Вица, он деньги отнять хочет! – проплакал мальчик-старичок.
– Убогого обижаешь! – осудил капитана прыщавый.
– Иди отсюда, пока я из тебя убогого не сделал, – настойчиво посоветовал ему капитан. И мальчику-старичку: – Давай проигрыш!
– Вица, убьет!
– Бандюга! – возликовал прыщавый и слегка толкнул капитана плечом. От неожиданности тот попятился, но тотчас был возвращен на прежнее место: до чрезвычайности похожий на прыщавого, только не прыщавый, был уже за спиной капитана. Тут же их стало четверо. Капитан оглядел их всех и вдруг жестко приказал на отработанном командирском крещендо:
– Солдаты, ко мне!
– Сдрейфил, гад! – выкрикнул прыщавый и замахнулся. Капитан нырком ушел от удара, одним шагом сблизился с прыщавым и ребром ладони врезал ему по шее. Прыщавый еще мягко усаживался на землю, а капитан, мигом развернувшись, уже был лицом к оставшейся троице. Но троица растворилась в толпе, потому что из толпы пробивались к капитану солдаты. Один. Второй. Третий.
Третий, высокий, широкоплечий, с полным бантом ордена Славы, спросил строго:
– Что здесь происходит?
– В три листика играем, – ответил капитан, глядя на то, как мальчик-старичок, склонившись над прыщавым, любопытствовал радостно:
– Больно, Вица, да? Больно?
Прыщавый сидел на земле и ничего не понимал. Подковылял на протезе красномордый Петро – обеспокоенный:
– Ты что шумел, капитан?
– Вещички мои там не уведут? – Капитан нагнулся, поднял оброненного в заварухе бубнового туза, постучал в спину мальчика-старичка пальцем. – Гони проигрыш, убогий.
Мальчик-старичок показал обиженное личико:
– Ты его не угадал, ты его у меня из рукава вырвал!
Солдаты захохотали. Один из них, хохоча, мотал головой, приговаривая:
– Ну, Семеныч, ну, артист!
А высокий добавил как само собой разумеющееся?
– Деньги-то отдать придется.
Семеныч заплакал и полез за пазуху.
– Откуда ты такой лихой, капитан? – осведомился высокий.
– Я-то отсюда. А откуда здесь вся эта шелупонь? – Капитан принял от Семеныча деньги, пересчитал и бережно приложил их к объемистой своей пачке. – Ну, братки, давайте знакомиться. Капитан Смирнов. Смирнов. Смирнов.
Он жал руки, а в ответ неслось:
– Сергей. Борис. Миша. Петро.
А бедный Вица все сидел на земле.
Рынок редел, когда паренек лет шестнадцати, интеллигентный такой паренек, высокий, худенький, складный, с карточной полбуханкой под мышкой, не глядя по сторонам, решительно пересекал его. В крайнем ряду шумели. Паренек посмотрел туда и увидел серьезно загулявшую компанию капитана Смирнова. Пятеро у прилавка, а меж ними бутылка, граненые стаканы, морщинистые соленые огурцы. Мешок с семечками одиноко стоял в стороне. Паренек подошел к нему, застенчиво осведомился:
– Почем семечки?
– Двадцать рублей, – не оборачиваясь, ответил Петро.
– А полстакана можно?
– Клади червонец и сам насыпай.
Паренек точно отмерил полстакана, высыпал семечки в карман и сказал тихо:
– Саша, пойдем домой.
Капитан Саша поднял рассеянные подвыпившие глаза, лицо его дрогнуло, и, звучно втянув в себя воздух, спросил у паренька, уже зная:
– Алик? Алька?
Паренек всхлипнул и шагнул к Саше. Здоровой правой рукой тот схватил Алькину голову за затылок, с силой прижал к орденоносной груди и затих.
– Пусти. Орденами карябаешь. – Алик вывернулся из-под Сашиной руки и поднял сияющее свое лицо.
– Алик, Алька, – повторил Саша.
– Брат? – поинтересовался высокий широкоплечий Сергей.
– Друг. Вместе книжки читали, – ответил Саша и, любовно потрогав Алика за щеку, спросил: – Где покарябал-то?
– Нигде, – грубо ответил Алик, ощущая всеобщее внимание. Свершилось то, что уже целый месяц жаждала его неспокойная и виноватая мальчишеская душа: к нему, невоевавшему, вернулся старший друг – офицер, герой войны. А этот друг спокойно расположился в компании случайных знакомых и вовсе не спешит встретиться с ним. Конечно, все справедливо: они были там, в грохочущем аду, а какое им дело до щенка, просидевшего все эти годы за ученической партой. Хотелось плакать, но Алик не заплакал.
– Ну, бойцы, расползлись? – понятливо предложил Сергей. Солдаты стали прощаться. Саша, пожимая руки, напомнил:
– Завтра вечером всех жду, братки. Мало-Коптевский, два «а», квартира десять.
Все время молчаливо сидевший на соседнем прилавке мальчик-старичок подал голос:
– Отдай мои деньги, Сашок.
Саша сморщился, заломил бровь, вытащил свою пачку, отмусолил триста.
– И чтобы я три листика на рынке не видел.
– А в петельку можно? – почтительно осведомился Семеныч, принимая деньги.
Они шли по Шебашевскому, потом свернули на Красноармейскую и вышли к Мало-Коптевскому. Обиженный Алик с вещмешком – впереди, Саша с чемоданом – сзади.
Глядя в гордую мальчишескую спину, Саша и впрямь чувствовал себя виноватым. Подвыпивший, до слез жалел и эту гордую спину, и худую, в нестриженых волосах шею, и противоестественную мужскую суровость своего бывшего оруженосца, пацаненка, дружка.
– Его третьи сутки ждут, а он с инвалидами пьет! – Алик бурчал, не поворачивая головы, но Саша слышал его.
– На полчаса задержался, а крику-то! Матери все равно дома нет.
– А мы? Нас ты за людей не считаешь? Где три дня пропадал?
– Ты почему на меня кричишь? – Саша обиделся вдруг, поставил чемодан на землю, сел на него. – Никуда я с тобой не пойду.
Алик обернулся, увидел горестную фигуру героя войны.
– Извини меня, Саша. Я дурак.
Помолчали. Один – стоя, другой – сидя.
– Мать когда должна быть?
– Знаешь как теперь поезда ходят. А она сейчас в бригаде Москва – Владивосток.
– А твои где все?
– Мама на работе, Ларка в Мытищах, в госпитале на практике, а отец на своей стройке в Балашихе.
– Дела… – Саша поднялся с чемодана. – Пошли, что ли?
Покоем стояли три двухэтажных стандартных дома. Дом два по Мало-Коптевскому, дом два «а» и два «б». Алик и Саша вошли внутрь покоя. От котельной, в которой была и прачечная, навстречу им шла чистенькая и бодрая старушка с тяжелым тазом в руках.
– Евдокия Дмитриевна, живая! – удивился Саша.
– Живая, Санек, живая! – весело подтвердила факт своего существования старушка.
– Ты живая, а какие парни в земле неживые лежат!
– Огорчаешься, значит, что я не померла?
– Что ты, Евдокия Дмитриевна. Парней тех мертвых жалко.
Старушка поджала губы и ушла, недовольная и Сашей, и Аликом, и собой.
Мать честная, ничего не изменилось! И Евдокия Дмитриевна, и дома, и котельная, и кривая старая береза посреди двора – все как было. Только прутья кустарников под окнами стали длиннее.
– Пошли в дом, – предложил Алик.
– Обожди. – Оставив чемодан у подъезда, Саша обогнул дом и зашел в свой палисадник. Навечно врытый в землю, стоял на могучем столбе квадратный стол. И широкая, тоже врытая, лавка. Саша сел на нее, поставил локти на стол и взглядом отыскал древний свой автограф, оставленный перочинным ножом. «Саша» – было вырезано в доске. Он потрогал надпись пальцем и сказал самому себе: – Я дома.
И дома, в узкой вытянутой комнате с одним окном, все было по-старому: зеркальный шкаф, перегораживающий комнату, комод под вязаной крахмальной салфеткой, мамина кровать с горой подушек у окна и Сашин диван за шкафом.
Вечерело. Саша выпил и устал, и поэтому, не долго думая, разделся, лег на свой диван и тотчас уснул.
Яростно рванул орудийный залп. Саша, еще просыпаясь, мгновенно сел в кровати. Комната на секунду осветилась разноцветьем, и тут же донеслось озорное детское «ура!». И снова залп.
Саша вышел во двор, где угадывалось невидимое многолюдье. Опять залп, и сверкающие букеты поднялись в небо. Рядом оказался мальчонка. Саша спросил у него:
– Это что такое?
– Салют! Наши город взяли!
– Какой город-то?
– Большой! Двадцать залпов! – объяснил мальчонка и исчез в темноте. Саша стоял неподвижно и слушал мирные залпы.
В восемь утра Алик барабанил в Сашино окно и декламировал:
– Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!
Саша как был в трусах подошел к окну, распахнул его и осведомился хрипло:
– Который час?
– Восемь. Господи, перегаром-то несет! Ну, теперь я за тебя возьмусь!
– Что-то ты, пескарь, разговаривать много стал, – мрачно отметил Саша.
– Разговаривать мне некогда. Вот ключ, пойдешь к нам. Я картошки сварил, кастрюля у меня под подушкой. Подсолнечное масло и капуста на столе.
– Ваши когда появятся?
– А я знаю? Я доктор? Я их неделями не вижу.
– Ах, а мне Иван Павлович позарез нужен, посоветоваться!
– Со мной посоветуешься. Будь. В школу опаздываю.
– Бывай, двоечник!
Алик побежал, размахивая портфелем, на ходу обернулся, поинтересовался:
– На свой вечерний прием ты меня приглашаешь?
– Ты же все равно припрешься, – безнадежно догадался Саша.
– Приглашенье с благодарностью принимаю! И уж будь уверен – много пить тебе не дам! – издалека почти пропел Алик и исчез. Саша сморщил нос от счастья и стал одеваться.
То был его второй дом. Сюда он первый раз вошел пятнадцатилетним подростком, влюбленным в старшую сестру Алика Ларису. Потом он полюбил их всех, а Ларка стала просто хорошим дружком. Безотцовщина, шпана, он, таясь и стесняясь, признал для себя в Иване Павловиче тот мужской отцовский авторитет, без которого так часто ломается мальчишеская душа.
Саша осмотрел обе комнаты. Чистенько, уютно, бедновато. Книг, правда, много. Он подошел к полкам, ласково погладил коленкоровые корешки. Что спасло его от уголовщины? Вот этот дом и книги из этого дома.
Под Алькиной подушкой он нашел завернутую в полотенце и запеленутую в газету кастрюлю. Развернул ее и открыл крышку. От картошки пошел легкий пар и дьявольский аромат.
Бритый, умытый, сытый, с оранжевым томиком «Водителей фрегатов» в руке, он не спеша шествовал пустынным Амбулаторным к Тимирязевскому лесу. В коломянковых брюках, в вельветовой довоенной курточке боевой капитан стал юнцом. Студент-первокурсник по виду.
Саша вышел к путям Московско-Рижской железной дороги и только переступил первый рельс, как раздалось:
– Стой! И назад! Прохода нет!
Солдатик с длинной винтовкой наперевес грозно глядел на него.
– А как к лесу пройти? – недоуменно спросил Саша.
– В обход! – И все тут. В обход так в обход. Саша пошел в обход. У платформы Красный Балтиец тропинка к лесу была просто перекрыта могучей рогаткой из колючей проволоки. Пришлось возвращаться назад.
Лишь через Большой Коптевский проход был открыт. Перейдя пути, Саша поднялся на высокую опушку леса. Опушку грело скромное апрельское солнце, и потому отсюда не хотелось уходить. Саша нашел кучу нешкуреных сосновых бревен, уселся, предварительно рукой проверив чистоту округлой поверхности, на теплый янтарный ствол и огляделся. Вдали и внизу, забитые десятками вагонов, были разъездные пути, по которым безнадежно и бестолково мыкалась маневровая «овечка».
– Отдыхаем, Сашок? – задали вопрос за спиной. Саша обернулся.
С ведром в руках стоял мальчик-старичок Семеныч и улыбался.
– А ты все трудишься. Апрель, а ты уже по грибы…
– Мои грибы для согрева костей. – Семеныч наклонил полузаполненное ведро с угольной крошкой. – Ты-то при паровом, а мне печь топить надо.
– И пускают к путям?
– Так кто ж к добру пустит? Ох и добра здесь! Туда, – Семеныч махнул, рукой на запад, – продовольствие и боеприпасы, оттуда – и станки, и мануфактура, и бог знает что! Государственные трофеи. Ты-то трофеев много привез?
– Где уголь берешь? – Про трофеи Саша будто и не слышал.
– На выезде, у бункеров. Паровозам крошка ни к чему, а мне как раз.
– И разрешают?
– Разрешают, Саша, разрешают. Допросил? Тогда я пойду.
Он взглянул на Сашу немигающими осторожными насмешливыми глазами. Старичок как старичок. В стеганке, в жеваной полосатой рубашке, в штанах из чертовой кожи, заправленных в кирзу. Саша ответил пугающим (он это знал) взглядом не то сквозь, не то мимо и апатично зевнул. Но Семеныч не убоялся и, мягко улыбнувшись, еще раз предопределил свой уход вопросительно:
– Так я пошел?
Он ушел. Саша вздохнул жалобно и раскрыл «Водителей фрегатов». С гравюры на него грозно, совсем как тот путейский часовой, смотрел неистовый искатель Джеймс Кук.
– А ты убивал? – жестко спросил Сергей.
– Что ты орешь? Приходилось, конечно. На то война. – Саша потянулся к шикарной пачке «Герцеговины Флор», достал длинную папиросу. За обильным и даже изысканным столом – ветчина, икра, рыба, колбасы – сидели Саша, Сергей, Петро, совсем пьяненький Миша и внимательный Алик. Допущенный в мир воинов, он хотел знать все, что было там.