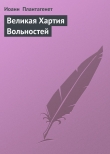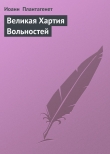Текст книги "Британия. Краткая история английского народа. Том 1."
Автор книги: Джон Ричард Грин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
Глубокое понимание характеров и общественных отношений, живость его фантазии и слога оказали на современников такое влияние, в котором с ним могли поспорить только Марло и Пиль. Он служит лучшим представителем молодых драматургов. Он покинул Кембридж для путешествия по Италии и Испании и принес оттуда распущенность одной и скептицизм другой. В покаянном слове, написанном им перед смертью, он изобразил себя пьяницей и хвастуном, добывающим средства бесконечными памфлетами и пьесами, чтобы тратить их на вино и женщин и пить чашу жизни до дна. Ад и будущая жизнь служили для него предметом постоянных насмешек. Если бы он не боялся судей королевских судов больше, чем Бога, говорил он со злой насмешкой, он часто занимался бы грабежом. Он женился и любил свою жену, но скоро бросил ее и снова погрузился в излишества, которые проклинал, но без которых не мог жить. Как ни распутна была жизнь Грина, его произведения отличаются чистотой. Он постоянно принимал сторону добродетели в беспрестанных любовных памфлетах и повестях, сюжеты которых были драматизированы образовавшейся вокруг него школой. Жизнь Марло была такой же бурной, а его скептицизм – еще смелее, чем у Грина. По всей вероятности, только ранняя смерть спасла его от преследования за безбожие. Его обвиняли в том, что он называл Моисея обманщиком и хвастался, будто если бы он задумал создать новую религию, она вышла бы лучше того христианства, которое он видел вокруг себя. Но как создатель английской трагедии он намного превосходил своих товарищей.
Родился Марло в начале царствования Елизаветы и был сыном кентерберийского башмачника, но воспитывался в Кембридже. В год, предшествовавший победе над Армадой он выдвинулся благодаря пьесе, которая сразу произвела переворот на английской сцене. Правда, пьеса отличалась напыщенностью и сумасбродством, достигшими высшей степени там, где пленные цари, «откормленные клячи Азии», тащили по сцене колесницу своего победителя; но в то же время «Тамерлан» не только показывал протест новой драмы против робкой пустоты эвфуизма, но и представлял образец той смелой фантазии, тайну которой Марло отдал своим последователям. Он погиб в 29 лет в постыдной драке, но за свою короткую деятельность успел наметить главные черты будущей драмы. Его «Мальтийский жид» служил провозвестником Шейлока. «Эдуардом II» он открыл ряд исторических драм, подаривший нам «Цезаря» и «Ричарда III». Его «Фауст» страдает беспорядочностью, комизмом, низкой страстью к удовольствиям, но это первая драматическая попытка затронуть великий вопрос об отношениях человека к невидимому миру, отразить силу сомнений в уме, зараженном суеверием, вызывающую смелость человека, доведенного до глубокого отчаяния. Положим, Марло сумасброден и неровен, в своем нескладном и плоском шутовстве он иногда унижался до смешного; но в его произведениях есть сила, сознательное величие тона и такая степень страсти, которая ставит его высоко над всеми современниками, кроме, быть может, одного – высшими качествами воображения, а также величием и прелестью своего могучего таланта он уступает только Шекспиру.
Несколько смелых острот, ссора и роковой удар – вот и вся жизнь Марло; но даже и таких сведений нет о жизни Уильяма Шекспира. Действительно, едва ли о каком другом великом поэте известно так мало. Из истории его молодости мы имеем одну или две пустячные легенды, да и те, почти наверное, ложны. Для выяснения его деловой жизни в Лондоне не существует ни одного письма, ни одной из острот, «произнесенных у Сирены», и остается один анекдот. Его взгляд и фигура в позднейшее время были сохранены бюстом над его могилой в Стратфорде, и через столетие после смерти его еще помнили в родном городе; но даже мелочная тщательность исследователей времени Георгов едва была в состоянии подобрать несколько частностей самого незначительного свойства, которые могли бы пролить свет на годы его уединения перед смертью. То обстоятельство, что, по видимому, в памяти его современников не оставила следа ни одна выдающаяся особенность, объясняется, может быть, гармонией и цельностью его характера; само величие его гения мешает открыть в его произведениях какие-либо личные черты. Его предполагаемые признания в сонетах так темны, что даже при самых смелых суждениях можно назвать только несколько черт. В драмах он живет во всех своих характерах, а его характеры охватывают все человечество. Нет ни одного характера, ни одного действия или слова, которые мы могли бы отнести к личности самого поэта.
Он родился в 1564 году, двенадцатью годами позже Спенсера, тремя – позже Ф. Бэкона. Марло был его ровесником, Грин, вероятно, несколькими годами старше. Бедность заставила его отца, перчаточника и мелкого арендатора в Стратфорде-на-Эйвоне, сложить с себя должность эльдормена, когда его сын достиг юности; быть может, гнет той же бедности был причиной, заставившей Уильяма Шекспира, в 18 лет уже бывшего мужем женщины старше него, уйти в Лондон и поступить на сцену. Едва ли он мог начать жизнь в столице позже чем в 23 года, это значит в замечательный год (1587), следовавший за смертью Сидни, предшествовавший прибытию Армады и видевший постановку «Тамерлана» Марло. Если принимать слова сонетов за выражение его личных чувств, то его новое занятие вызывало в нем только горькое презрение к себе. Он бранил судьбу за то, «что она дала ему для жизни только низкие средства, вызывающие низкие черты»; он страдал от мысли, что раскрасился на потеху подмастерьев, глазеющих в партере Блэкфрайерского театра. «Вот почему, – прибавлял он, – на имени моем лежит пятно, позорящее всю мою натуру».
Но реальность этих слов более чем сомнительна. Несмотря на мелкие ссоры с некоторыми из соперников по драматическому искусству в начале карьеры, гениальная натура новичка, по-видимому, принесла ему общую любовь его товарищей – актеров. В 1592 году, когда он был еще простым переделывателем старых пьес, его товарищ по занятию Четтл возражал в ответ на нападки Грина против него в тоне искреннего расположения: «Я знаю, что он ведет себя так же пристойно, как и отлично исполняет взятые на себя обязанности; кроме того, добросовестность его действий засвидетельствовали почтенные люди, что доказывает его честность, а веселая приятность его письма доказывает его искусство». Его компаньон Бёрбедж называл его после смерти «прекрасным другом и товарищем»; а Джонсон только передавал общее мнение эпохи, называя его истинно честным человеком с открытым и независимым характером.
Актерская профессия оказала ему существенную услугу в поэтической деятельности. Она не только дала ему понимание сценических условий, которое сделало его пьесы столь эффектными на сцене, но и позволила подвергать их, по мере того как он их писал, испытанию. Если верно утверждение Джонсона, что Шекспир никогда не вычеркивал ни строчки, то заключающееся в этом порицание его небрежности и легкомыслия несправедливо. Условия издания поэтических произведений в то время совсем отличались от современных. Представлявшаяся на сцене драма в течение ряда лет оставалась в рукописи и подвергалась постоянному пересмотру и исправлению; каждая репетиция и каждое представление оставляли множество замечаний, которыми, как известно, молодой поэт вовсе не пренебрегал. Случай, сохранивший первое издание его «Гамлета», показывает, как беспощадно мог переделывать Шекспир даже лучшие свои произведения. Через пять лет по прибытии в Лондон он уже славился как драматический писатель. Грин с горечью говорил о нем, под именем Шексина, как о «дерзкой вороне, украшенной нашими перьями»; эта насмешка выявляет или его известность как актера, или подготовку к более смелому полету – переделке для сцены пьес его предшественников. Скоро он стал пайщиком театра, актером и драматургом, и второе его прозвище, Iohannes Factotum (Иван на все руки), свидетельствует о его готовности браться за всякое честное дело, попадавшее ему в руки.
Поэмой «Венера и Адонис», «первым плодом моей фантазии», как называл ее Шекспир, для него начался период независимого творчества. Замечателен был год ее издания (1593). Только тремя годами раньше появилась «Царица фей», поставившая Спенсера, без соперников, во главе английской поэзии. С другой стороны, в это время внезапно умерли два главных драматурга эпохи. Грин скончался в бедности и раскаянии в доме бедного башмачника. «Долли, – писал он покинутой жене, заклинаю тебя нашей молодой любовью и покоем моей души, постарайся заплатить ему; если бы он и его жена не помогли мне, я умер бы на улице» «О, если бы мне можно было прожить еще год, – восклицал молодой поэт на смертном одре, – но я должен умереть, всеми отвергнутый! Не вернуть времени, прожитого беспутно! Моя жизнь прожита беспутно, и я погиб!» Год спустя смерть Марло в уличной драке устранила единственного соперника, который мог равняться талантом с Шекспиром. В это время последнему было около 30 лет, и 23 года, прошедшие с появления «Адониса» до его смерти, заполнены рядом мастерских произведений.
Всего характернее для его гения – непрерывная деятельность. За пять лет, последовавших за изданием его первой поэмы, он в среднем сочинял, по видимому, по две драмы в год. Но когда мы пытаемся проследить рост и развитие таланта поэта в порядке выхода его пьес, мы во многих случаях наталкиваемся на отсутствие точных сведений о времени их появления. Фактов, на которые могло бы опереться исследование, чрезвычайно мало. «Венера и Адонис» вместе с «Лукрецией» должны были быть написаны раньше их издания в 1593—1594 годах; сонеты, изданные только в 1609 году, были до некоторой степени известны его близким друзьям уже в 1598 году. Его ранние пьесы указываются списком, данным в 1598 году Фрэнсисом Мирсом в «Сокровище ума», хотя отсутствие пьесы в случайном каталоге такого рода едва ли дает нам право считать, что ее еще не было в то время. Какие произведения приписывались ему при смерти, это определяется, тоже приблизительно, изданием, выпущенным его товарищами – актерами.
Кроме этих скудных сведений и того, что некоторые из его драм были изданы при его жизни, все остальное недостоверно; а заключения, выведенные из них и из самих драм, а также из предполагаемого сходства с другими пьесами того периода или из намеков на них, могут считаться верными только приблизительно. Большинство легких комедий и исторических драм Шекспира можно с большой вероятностью отнести ко времени между 1593 и 1598 годами: в первый из них он был известен только как переработчик – интерпретатор, во второй они упоминаются в списке Мирса. Притом они носят на себе отпечаток молодости. В «Напрасных усилиях любви» молодой поэт прямо из своего Стратфорда попадает в блестящее общество, окружавшее Елизавету, и большей частью обращает внимание на его внешность, на его причуды и сумасбродства, остроты и капризы, пустоту и нелепые фантазии, скрывавшие его внутреннее благородство. Деревенский юноша может поспорить с кем угодно в остроумных колкостях и ответах; он смеется над пустым остроумием и надутым сумасбродством мысли и фразы, введенными Эвфуэсом в моду при тогдашнем дворе. Он разделяет восхищение жизнью, составлявшее столь заметную черту века; его забавляют ошибки, странности и приключения окружающих людей; его веселость доходит почти до крайности в проделках «Укрощения строптивой» и в бесконечной путанице «Комедии ошибок».
Пока в его пьесах еще мало поэтической возвышенности и страсти; но легкая прелесть диалога, ловкая обработка запутанного сюжета, естественная веселость тона и музыкальность стиха обещали сделать его мастером общественной комедии, если от внешних особенностей окружающего мира он обратится к изображению характеров и действий людей. В «Двух веронцах» картина нравов отличается такими мягкостью и идеальной красотой, которые служили настоящим протестом против жесткой, хотя и энергичной обрисовки характеров, введенной тогда в моду первым успехом Бена Джонсона с его комедией «У всякого человека – своя прихоть». Но тотчас вслед за этими легкими комедиями появились два произведения, в которых вполне воплотился его гений. Его поэтический талант, до сих пор сдерживавшийся, обнаружился с чрезвычайной силой в блестящих фантазиях пьесы «Сон в летнюю ночь», а страсть прорвалась бурным потоком в «Ромео и Джульетте».
Вместе с этими страстными мечтами, нежными образами и тонкими характеристиками в этот короткий период напряженной деятельности появились и его исторические драмы. С первого появления новой драмы не было, по-видимому, пьес более популярных, чем драматические изображения английской истории. В своем «Эдуарде II» Марло показал, каких трагических эффектов можно достичь в этой области; а мы уже видели, как естественно приспосабливание старых пьес, вроде «Генриха VI», к новым требованиям сцены приводило к тому же и Шекспира. В плане он еще следовал до некоторой степени старым пьесам на избранные сюжеты, но в обработке последних он смело сбросил с себя иго прошлого. В «Ричарде III», в «Фальстафе» или «Готспере» («Горячке») он обнаружил более широкое и глубокое понимание характеров, чем кто-либо из прежних драматургов; в «Констанции» и «Ричарде II» он изобразил человеческое страдание с такой силой, с какой не решался рисовать его даже Марло. Эти исторические драмы больше всех других пьес обеспечили Шекспиру прочную популярность среди соотечественников. Нигде дух английской истории не выражается с таким благородством. Если иногда произведения поэта и служат отражением национальных предрассудков и несправедливости, то они целиком пропитаны английским юмором, английской страстью к бою, английской верой в добро и в конечную гибель временно торжествующего зла, английским состраданием к павшим.
Шекспир далеко превзошел своих товарищей и как трагический, и как комический поэт. «Если бы музы захотели говорить по-английски, – заметил Мире, они заговорили бы изящным языком Шекспира». Его личная популярность достигла высшей степени. Его веселый характер и живое остроумие рано сблизили его с молодым графом Саутгемптоном, которому посвящены его «Адонис» и «Лукреция»; а различие в тоне этих посвящений свидетельствует о быстром переходе знакомства в пылкую дружбу. Его богатство и влияние также быстро росли. Он владел собственностью и в Стратфорде, и в Лондоне, а его сограждане поручили ему ходатайствовать перед лордом Берли об интересах города. У него было достаточно средств, чтобы помогать отцу и купить дом в Стратфорде, в котором он впоследствии жил. Предание о том, что Елизавета была так восхищена Фальстафом в «Генрихе IV», что приказала поэту изобразить его влюбленным, и этот приказ вызвал к жизни «Веселых виндзорских кумушек», – все равно, верно оно или нет – доказывает его популярность как драматурга. Когда умерла группа старших поэтов, они нашли себе преемников в Марстоне, Деккере, Миддлтоне, Гейвуде, Чепмене и всего более – в Бене Джонсоне; но никто из них не мог оспаривать первенства Шекспира. Приговор Мирса, что «Шекспир среди англичан наиболее выделяется в обоих видах драмы», представлял общее мнение современников.
Наконец он вполне овладел средствами своего искусства. По полноте сценического действия, тесной связи событий, легкости движения, поэтической красоте важнейших мест, сдержанному и сознательному пользованию поэзией, по пониманию и развитию характеров, но больше всего – по мастерству, с которым характеры и события сосредоточиваются вокруг фигуры Шейлока, «Венецианский купец» выявляет полное развитие его драматического таланта. Но поэт еще юн по характеру: «Веселые виндзорские кумушки» представляются взрывом веселого смеха, и смех более сдержанный, но полный чарующей прелести, встречает нас в «Как вам угодно». Но уже в печальном и задумчивом Джеке мы замечаем веяние нового, более серьезного настроения. До того поэта воодушевляла кипучая молодость; теперь она вдруг почти исчезла. Хотя Шекспиру было едва 40 лет, но в одном из его сонетов, написанном едва ли позже, есть указание на то, что он уже чувствовал приближение ранней старости. Внешний мир вдруг померк для него. Блестящий круг молодых вельмож, дружбой которых он дорожил, был разорван политической бурей, вызванной безумной борьбой графа Эссекса за власть. Сам Эссекс погиб на эшафоте, его друг и идол Шекспира – Саутгемптон – был заключен в Тауэр; Герберт, лорд Пемброк, младший покровитель поэта, удален от двора.
В то время как таким образом гибли друзья и исчезали надежды, Шекспир, по – видимому, переживал тяжкие страдания и тревоги. Несмотря на остроумие толкователей, трудно и даже невозможно извлечь из сонетов каких-либо данных о душевном состоянии поэта: «Странные изображения страсти, проносящиеся над волшебным зеркалом, как было тонко замечено, не имеют осязательной очевидности ни перед собой, ни за собой»; но само их появление служит доказательством тревоги и внутренней борьбы. Перемена в характере драм Шекспира, несомненно, отражает перемену в его настроении. Веселость в его ранних произведениях исчезает в таких комедиях, как «Троил» или «Мера за меру». Всюду представляются неудачи. В «Юлии Цезаре» доблесть Брута разбивается о его неопытность и отчужденность от людей; в «Гамлете» даже проницательный ум оказывается беспомощным, ввиду отсутствия энергии; яд Яго пятнает любовь Дездемоны и величие Отелло; могучая страсть Лира беспомощно борется против ветра и дождя; женская слабость лишает леди Макбет победного торжества; страсть и беспечность губят героизм Антония, гордость – благородство Кориолана. Но именно борьба и самоуглубление, обнаруживающиеся в этих драмах, и придали произведениям Шекспира неведомые дотоле глубину и величие. Это был век, когда характеры и таланты людей приобретали размах и энергию. Смелость авантюриста, философия ученого, страсть влюбленного, фанатизм святого достигали почти нечеловеческого величия. Человек начал осознавать громадность своих внутренних сил, беспредельность своего могущества, казалось, смеявшегося над тем тесным миром, в котором ему приходилось действовать. Это величие человечества и раскрывается перед нами, когда поэт изображает широкие взгляды Гамлета, страшное потрясение сильной натуры Отелло, ужасную бурю в душе Лира в гармонии с бурей в самой природе, беспредельное честолюбие, обагряющее руку женщины кровью убитого короля, неудержимую страсть, отдающую мир за любовь. Внушаемые этими великими драмами ужас и уважение несколько знакомят нас с грозными силами века, их породившего. Страсть Марии Стюарт, бесчеловечность Альбы, смелость Дрейка, рыцарство Сидни, широта мысли и дела у Рэли и Елизаветы становятся для нас понятнее, когда мы знакомимся с рядом великих трагедий, начавшимся «Гамлетом» и окончившимся «Кориоланом».
Три последние драмы Шекспира – «Цимбелин», «Буря», «Зимняя сказка» – открывают перед нами человека, примиренного с собой и миром; они были написаны среди полного довольства в его стратфордской усадьбе, куда он удалился через несколько лет после смерти Елизаветы. В них не заметно никакого отношения к окружающей современности; здесь мы переходим в область чистой поэзии. Этот мирный и спокойный конец жизни отличает Шекспира от величайших его современников. Всем сердцем он принадлежал веку Елизаветы и стоял теперь на перепутье двух великих эпох нашей истории: век Возрождения сменялся веком пуританства. Строгий протестантизм с его нравственностью, серьезностью и глубокой религиозностью придавал жизни энергию и благородство, но одновременно жесткость и узость. Библия заменяла Плутарха. «Упорные сомнения», преследовавшие избранные умы Возрождения, заключались в богословские формулы пуританства. Сознание всемогущества Божьего угнетало человека. Смелость, превращавшая англичан в племя удальцов, сознание неистощимости своих сил, кипучая свежесть молодости, чарующее стремление к красоте и веселью, сформировавшие Сидни, Марло, Дрейка, уступали место сознанию греховности и стремлению устроить жизнь по-Божьему. Вместе с новым нравственным миром развивался и новый политический порядок, более нормальный и национальный, но менее живописный, менее окутанный тайной и блеском, столь любезными поэтам. Прежде небольшие трещины время от времени расширялись и грозили гибелью строю, церковному и политическому, который создали Тюдоры и к которому были страстно привязаны люди Возрождения.
Шекспир оставался совсем чуждым этому новому миру мысли и чувства. Он не имел понятия о демократических устремлениях пуританства; а между тем, несмотря на крупные недостатки, оно было первой политической системой, признававшей значение народа как целого. Ряд его драм изображают междоусобицы. Войны Роз занимают его ум, как они занимали умы его современников. Только проследив ряд драм от «Ричарда II» до «Генриха VIII», мы оценим глубину влияния, оказанного на настроение народа борьбой Йорков и Ланкастеров, и силу оставленного ею страха перед междоусобицами, своеволием баронов и спорами о престолонаследии. Казалось, только корона могла избавить от такой опасности. Для Шекспира, как и для его современников, средоточием и охраной народной жизни все еще служила корона. Идеалом для него была Англия, собравшаяся вокруг такого короля, как его Генрих V, – прирожденный руководитель людей, окруженный преданным народом и побеждающий своих врагов. В общественном отношении поэт выражал аристократический взгляд на жизнь, разделявшийся лучшими умами века Елизаветы. Воплощением крупного вельможи являлся Кориолан; насмешки, которыми Шекспир в ряде пьес осыпал чернь, только передают общий дух Возрождения. Но он не выказывал симпатии к борьбе феодализма с короной. Он вырос в царствование Елизаветы; он знал только одного государя, очаровывавшего сердца всех англичан.
Боязнь неумелого управления исчезла; его мысли, как и умы соотечественников, были поглощены борьбой за национальную независимость, и увлечение этой борьбой не оставляло места для мыслей о гражданской свободе. Не принадлежали наступавшему времени и религиозные симпатии поэта. Другие обращались к богословским умозрениям; для Шекспира неисчерпаемым предметом интереса оставался человек и человеческая природа. К числу его последних созданий принадлежал Калибан. Невозможно определить, принадлежал ли он к католикам или к протестантам. Трудно даже сказать, были у него вообще религиозные убеждения или нет. Религиозные мысли, изредка попадающиеся в его произведениях, – немного больше, чем выражение сдержанного и мечтательного благоговения. Многозначительно его молчание о более глубоких основах религиозной веры. Он не говорил о загробной жизни; тем больше значения придают этому умолчанию сомнения Гамлета. Вероятно, для него, как и для Клавдия, смерть была «переходом неизвестно куда». Часто, обращаясь к тайне жизни и смерти, он оставлял ее тайной до конца и не обращал внимания на известные ему богословские толкования. «Мы – то же, что сновидения, и наша краткая жизнь заканчивается сном».
Противоречие между духом елизаветинской драмы и новым настроением нации сказалось еще резче, когда после смерти Шекспира руководство английской сценой перешло к Бену Джонсону, сохранявшему его почти до самой гибели драмы в бурях междоусобиц. Правда, Уэбстер и Форд превосходили его трагической возвышенностью, Мэссинджер легкостью и грацией, а Бомои и Флетчер поэтичностью и изобретательностью; но по широте драматического таланта, по умению владеть поэтическими красотами выше Джонсона был только Шекспир. Жизнь Джонсона до конца сохраняла мятежный, вызывающий отпечаток прежнего драматического мира, в котором он приобрел славу. Пасынок каменщика, он добровольцем принимал участие в Нидерландской войне, на виду у обеих армий убил противника на поединке и, вернувшись в 19 лет в Лондон, в поисках хлеба насущного поступил на сцену. В 45 лет он сохранил еще столько сил, что пешком совершил путешествие в Шотландию. Даже когда он состарился, его «толстое брюхо», лицо в шрамах и крупная фигура славились среди людей младшего поколения, собиравшихся у «Сирены» слушать его остроты и стихи, взрывы его хандры, великодушия, нежной фантазии, педантизма и бурного высокомерия.
Он вступил на сцену с гордым намерением преобразовать ее. Уже в молодые годы он приобрел большие познания и презрительно относился к писателям, которые, подобно Шекспиру, «были мало знакомы с латынью и еще менее с греческим»; в поэзии он хотел вернуться к классической строгости, к строгой разборчивости и вкусу. Он порицал сумасбродство, отличавшее современную поэзию; он изучал интриги своих драм, старался придать своим выражениям симметрию и правильность, своей речи краткость. Но творчество у него исчезает: в его общественных комедиях мы находим скорее качества и типы, а не людей, отвлечения, а не характеры. Его комедия – не гениальное отражение жизни, как она есть, а нравственное и сатирическое стремление преобразовать нравы. Только его удивительная веселость и истинно поэтическое чувство несколько смягчают весь этот педантизм. Он разделял энергию и кипучесть жизни, отличавшие школу, из которой он вышел. Его сцена кишит фигурами. Несмотря на его речи о правильности, только его удивительный талант мешал его эксцентричности становиться смешной.
Если он не умел создавать характеров, то богатство метких частностей придавало жизнь тем типам, которыми он заменял характеры. Притом его поэзия достигала огромной высоты: его лирика блещет чистейшей и легчайшей фантазией; его «маски» богаты роскошными образами; его пастораль «Печальный пастушок» дышит мягкой нежностью. Но, несмотря на сохраняемые ею красоту и силу, драма быстро клонилась к упадку. По мере приближения Великого мятежа интересы народа обращались к новым важным вопросам, и старания драматургов остановить это движение новыми впечатлениями только ускоряли гибель драмы. Позднейшая комедия отличалась невероятной грубостью. Почти так же невероятна страсть позднейших трагедий к ужасам кровосмешения и кровопролития. Ненависть пуритан к театру объясняется не только стремлением отомстить за насмешки, которыми он осыпал пуританство; это была главным образом искренняя ненависть богобоязненных людей к изображению в привлекательной поэтической форме гнуснейшего разврата.
Представителями поэтической жизни новой Англии являлись творцы «Гамлета» и «Царицы фей»; ее чисто рассудочная деятельность, широкое знакомство со всеми областями человеческого знания и поразительное искусство в использовании ими полнее всего сказались в произведениях Фрэнсиса Бэкона. Бэкон родился в начале царствования Елизаветы, тремя годами раньше Шекспира (1561 г.), и был младшим сыном хранителя печати, а также племянником лорда Берли. Уже в детстве живость и понятливость принесли ему расположение королевы. Елизавета очень любила разговаривать с ним и испытывать его вопросами, на которые он отвечал с недетской важностью и рассудительностью, так что Ее величество часто называла его «молодой лорд – хранитель». Еще ребенком в школе он выражал свое недовольство Аристотелевой философией, «так как она пригодна только для рассуждений и споров, но не дает произведений, полезных для жизни человека». Занявшись правом, он в возрасте 21 года в статье о «Величайшем создании эпохи» изложил уже систему индуктивного исследования, которой хотел заменить логику Аристотеля.
Исследования молодого мыслителя были прерваны надеждами на успех при дворе, но скоро эти надежды рассеялись. Смерть отца оставила его в бедности, а недоброжелательство Сесилей помешало его карьере при дворе, и за несколько лет до прибытия Шекспира в Лондон он вступил в сословие адвокатов, где скоро стал одной из главных знаменитостей эпохи. В 23 года он был членом Палаты Общин, и его ум и красноречие сразу выделили его среди окружающих. По словам Бена Джонсона, «всякий, кто слушал его, боялся, что скоро он закончит свою речь». Его высокая репутация очень возросла с появлением в 1597 году его «Опытов», замечательных не только глубиной мысли и точным, удачным ее выражением, но и искусным приложением к человеческой жизни того опытного анализа, который впоследствии Бэкон сделал ключом к науке. Его известность на родине и за границей сразу выросла, но он не мог довольствоваться этой чистой славой. Он сознавал в себе большие таланты и стремления, полезные для общего блага, а время было такое, что эти стремления едва ли можно было осуществить не иначе как при посредстве короны; между тем перспективы политической деятельности чем дальше, тем больше от него отдалялись.
В начале своей парламентской карьеры он раздражал Елизавету упорным противодействием ее требованию субсидий, и хотя обида была заглажена униженными извинениями и отказом от всякого сопротивления политике двора, но Бэкону несколько раз отказывали в назначении на коронные должности, и только после издания «Опытов» он смог добиться незначительного места в Совете королевы. Лучшим оправданием нежелания королевы ввести в Совет лучшую голову Англии, – нежелания, странно противоречившего ее обычным приемам, – служила все более обнаруживавшаяся нравственная неустойчивость Бэкона. У людей, которыми пользовалась Елизавета, ум направлялся большей частью строгим сознанием политического долга. Их благоговение перед королевой иногда представляется нам чрезмерным, но оно всегда находилось под руководством и контролем пылкого патриотизма и серьезного религиозного чувства; при всем своем уважении к правам короны эти люди никогда не теряли из виду закона. Высота и оригинальность ума Бэкона отдаляли его от подобных людей в такой же степени, как и растяжимость его нравственных понятий.
В политике, как и в науке, он мало уважал прошлое. Право, конституционные вольности, религия представлялись ему только средствами для достижения известных правительственных целей, и если этих целей можно было достичь более коротким путем, он считал простым педантизмом отстаивание более сложных средств. Бэкон хотел осуществить крупные политические идеи – реформу и кодификацию права, цивилизацию Ирландии, очищение церкви, затем объединение Шотландии и Англии, преобразования в области воспитания и материальной жизни и другое; по его мнению, скорее всего и проще можно было осуществить эти цели, воспользовавшись властью короны. Такое понимание королевской власти могло быть очень соблазнительным для преемника Елизаветы, но для нее представляло мало привлекательного, и до конца ее царствования все усилия Бэкона сделать карьеру у нее на службе оставались безуспешными.