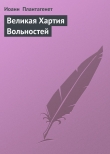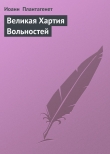Текст книги "Британия. Краткая история английского народа. Том 1."
Автор книги: Джон Ричард Грин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Аллегорическое и мистическое богословие, на создание которого средние века так бесплодно тратили свою духовную энергию, сразу пало, когда Колет отверг все, кроме исторического и грамматического смысла библейского текста. Величественное учение веры, созданное учеными средних веков, представлялось ему просто «схоластическим искажением». В жизни и изречениях основателя христианства он нашел простое и разумное учение, для которого лучшим выражением служил апостольский символ веры. «О прочем, говорил он с характерным неудовольствием, – пусть спорят, как им угодно, богословы». О его отношении к более грубым сторонам тогдашней религии ясно говорит его поведение перед знаменитой ракой святого Фомы в Кентербери. Когда он увидел блеск ее драгоценных камней, дорогие изваяния, изящные работы из металла, он с едкой иронией заметил, что святой, столь щедрый при жизни по отношению к бедным, наверное, предпочел бы, чтобы они владели богатством, окружавшим его после смерти. С гневным отвращением он оттолкнул от себя предложенные ему для поклонения одежды и обувь мученика. Серьезность, религиозный пыл, нетерпеливое и враждебное отношение к прошлому заметны у него в каждом слове и действии; то же выразилось и в лекциях о посланиях святого Павла, прочитанных им в Оксфорде. Даже самому критичному из его слушателей он представлялся «похожим на вдохновенного: голос его был громче, глаза блистали, вся его фигура и лицо изменялись, он казался вне себя». Внешне его жизнь отличалась суровостью: она сказывалась в его простом черном платье и скромном столе, которые он сохранил и впоследствии, достигнув высокого положения. Тем не менее его живая беседа, искренняя простота, чистота и благородство его жизни, даже резкие проявления его раздражительности привязали к нему группу ученых, среди которых прежде всего Эразм Роттердамский и Томас Мор.
«Греция перешла за Альпы!» – воскликнул изгнанник Аргиропул, услышав, как немец Рейхлин переводил Фукидида; но скоро слава Эразма затмила известность Рейхлина и его последователей из немецких ученых. Огромное трудолюбие и приобретенный запас классических знаний Эразм разделял с современными ему учеными. По знакомству с творениями отцов церкви он, пожалуй, уступал Лютеру, а по оригинальности и глубине мысли, несомненно, уступал Мору. Его богословские воззрения оказали на мир более сильное влияние, чем даже его ученость, но они почти без изменений были заимствованы у Колета. Оригинальным было в нем соединение широких знаний с тонкой наблюдательностью, проницательной критики с живой фантазией, врожденного остроумия со здравым смыслом, единство свойственных Колету искреннего благочестия и страстного стремления к разумной религии со спокойным беспристрастием к прежним учениям, сильной жаждой светского образования и гениальной свободой и игрой ума.
Эта особенность и сделала Эразма для германских народов представителем животворного влияния гуманизма в течение его долгой ученой жизни, начавшейся в Париже и окончившейся в уединении и печали в Базеле. Во время возвращения Колета из Италии Эразм был еще сравнительно безвестным юношей, но рыцарское воодушевление новой наукой заметно в его письмах из Парижа, куда он пришел учиться. «Я всей душой предался изучению греческого языка, – писал он, и как только достану немного денег, куплю греческих книг, а затем кое что из платья». Отчаявшись добраться до Италии, молодой студент отправился в Оксфорд как в единственное место за Альпами, где наставления Гросина могли содействовать его знакомству с греческой литературой. Но едва он прибыл туда, как всякое чувство сожаления исчезло. «Я нашел в Оксфорде, – писал он, – столько утонченности и учености, что совсем почти и не думаю о поездке в Италию, разве для того только, чтобы побывать там. Когда я слушаю моего друга Колета, мне кажется, я слушаю самого Платона. Кто не удивляется широкой учености Гросина? Кто может судить проницательнее, глубже и тоньше Линэкра? Когда природа производила более благородный, нужный и счастливый характер, чем у Томаса Мора?»
Новое движение далеко не ограничивалось стенами Оксфорда. В его пользу медленно, но верно работало время. Печатный станок сделал литературу собственностью всех. В последние 30 лет XV века в Европе, говорят, было выпущено 10 тысяч изданий книг и брошюр, из них наиболее важная часть, конечно, в Италии; до конца века любому студенту стали доступными все латинские авторы. В первые 20 лет следующего века были изданы почти все труды виднейших греческих писателей. Глубокое влияние, оказанное на мир этим приливом двух великих классических литератур, сразу дало себя почувствовать. «В первый раз, как живописно выразился Тэн, – люди открыли глаза и посмотрели вокруг».
Человеческий дух, казалось, почерпнул новую энергию из обозрения открывшихся перед ним возможностей. Он набросился на все области знания и все их преобразовал. Точные науки, филология, политика, критическое исследование религиозной истины – все они ведут свое начало от Ренессанса, этого «Возрождения» мира. Искусство утратило значительную часть чистоты и оригинальности, зато выиграло в деле свободы и бесстрашной преданности природе. Литература, на время подавленная сильным притяжением великих образцов Греции и Рима, скоро расцвела с никогда невиданным до того богатством форм и широким духом гуманности. В Англии влияние нового движения распространилось далеко за пределы той маленькой группы, в которой оно несколько лет назад, по видимому, сосредоточивалось. Его покровителями стали виднейшие прелаты.
Лангтон, епископ Уинчестерский, находил удовольствие в том, что каждый вечер экзаменовал молодых студентов своей свиты и наиболее многообещавших из них отправлял учиться в Италию. Еще более преданного друга нашла себе наука в архиепископе Кентерберийском Уорхеме. Хотя ему приходилось много заниматься государственными делами, но он был не просто политиком. Похвалы, расточавшиеся ему при его жизни Эразмом, – восхваление учености примаса, его искусства в делах, веселого характера, скромности, верности друзьям, – все это можно считать тем же, чем обычно бывает восхваление людей при жизни. Но трудно сомневаться в искренности горячей характеристики, написанной Эразмом тогда, когда смерть исключила всякое основание для лести. Суждение всех здравомыслящих современников подтверждается перепиской крупного прелата со странствующим ученым, сохранением в литературной дружбе полного равенства, несмотря на ряд проявлений щедрости с одной стороны, обращением к просвещенному благочестию примаса, которое Эразм высказал в своем предисловии к «Святому Иерониму».
В простоте своей жизни Уорхем представлял поразительную противоположность роскоши вельмож того времени. Он совсем не заботился о пышности, чувственных удовольствиях, охоте и игре в кости, чем так часто они увлекались. Час приятного чтения и спокойной беседы с ученым пришельцем только и прерывал бесконечный ряд светских и церковных дел. Немногие люди осуществляли с такой полнотой, как Уорхем, новое понимание умственного и нравственного равенства, перед которым должны были исчезнуть старые социальные различия. Его любимым развлечением было ужинать с кучкой ученых посетителей, забавляясь их шутками и отвечая на них шутками со своей стороны.
Но люди ученого мира находили за столом у примаса не только ужин и веселье. Его кошелек был всегда открыт для помощи им. «Если бы в юности я нашел себе такого покровителя, – писал Эразм много времени спустя, – меня тоже можно было бы относить к числу счастливцев». Во время второго посещения Англии (1510 г.) Эразм с Гросином поднялись вверх по реке до резиденции Уорхема в Ламбете, и, несмотря на неудачное начало, знакомство оказалось чрезвычайно удачным. Эразм писал домой, что примас полюбил его, как сына или брата, а его щедрость превосходит щедрость всех его друзей. Уорхем предложил ему доходное место, а когда Эразм от него отказался, назначил ему ежегодную пенсию в сто крон. Когда Эразм переселился в Париж, призыв Уорхема вернул его в Англию. Прочие покровители оставляли его голодать на кислом кембриджском пиве, а Уорхем прислал ему 50 золотых с изображением ангела. «Я хотел бы, чтобы их было 30 легионов», – добродушно пошутил примас.
Как ни существенно было развитие науки, но группа ученых, представлявшая в Англии гуманизм, оставалась в царствование Генриха VII немногочисленной. С восшествием на престол его сына для них, употребляя их собственное восторженное выражение, взошла заря «нового порядка вещей». При своем вступлении на престол Генрих VIII едва достиг 18 лет, но его красота, сила, искусство владеть оружием, казалось, соответствовали его откровенному и великодушному характеру и благородству его политических устремлений. Он сразу прекратил вымогательства, практиковавшиеся под предлогом исполнения забытых законов, и привлек к суду финансовых помощников своего отца по обвинению в измене, чем подал надежду на более популярное управление.
Никогда вступление нового государя на престол не возбуждало больших ожиданий в народе. Злейший враг Генриха VIII, Поль, признавал впоследствии, что характер короля в начале его царствования «давал право ожидать всего лучшего». Уже своими ростом и силой он превосходил окружающих; он был сильным борцом, смелым охотником, прекрасным стрелком, на турнирах побеждал одного противника за другим. С этим физическим превосходством молодой монарх соединял широту и гибкость ума, которые должны были составлять отличительную черту начавшегося века. К гуманизму он относился с несомненным и сердечным расположением; Генрих VIII не только сам был прекрасным ученым, но даже в детстве своим остроумием и познаниями удивлял Эразма. Великий ученый поспешил назад в Англию, чтобы выразить свой восторг в «Похвале Глупости» гимне торжества над старым миром невежества и ханжества, которому предстояло исчезнуть перед светом и знанием нового царствования. В этой забавной книжке Глупость в дурацком колпаке восходит на кафедру и своей сатирой бичует нелепости окружающего мира – суеверие монаха, педантизм грамматика, догматизм школьных ученых, эгоизм и тиранию королей.
Иронию Эразма поддержал серьезный гуманист Колет. За четыре года до того он был вызван из Оксфорда и назначен настоятелем собора святого Павла, где стал великим проповедником своего времени, предшественником Латимера по простоте, прямоте и силе. Он воспользовался этим, чтобы начать реформу обучения, и основал собственную латинскую школу (1510 г.) рядом с собором святого Павла. О стремлениях ее основателя свидетельствует то, что над кафедрой учителя располагалось изображение младенца Иисуса с начертанными над ним словами: «Его послушайте», «Поднимите ваши белые ручки за меня, молящего Бога о вас», – писал своим ученикам Колет, выказывая нежность, таившуюся под его суровой внешностью. В новой школе были осуществлены все педагогические планы реформаторов. Старые приемы обучения заменили новые грамматики, составленные для школы Эразмом и другими учеными. Во главе ее был поставлен Лилли, оксфордский студент, изучивший греческий язык на Востоке. Предписания Колета предусматривали соединение разумной религиозности со здравой ученостью, упразднение схоластической логики и широкое распространение обеих классических литератур.
Более фанатичная часть духовенства тотчас подняла тревогу. «Неудивительно, – писал Мор Колету, – что ваша школа вызывает бурю: она походит на деревянного коня, в котором, на гибель варварской Трое, были скрыты вооруженные греки». Но призыв духовенства остался без ответа. Изучение греческого языка не только постепенно проникало в существовавшие школы, но примеру Колета последовала и масса подражателей. Говорят, в последние годы царствования Генриха VIII было основано больше латинских школ, чем за три предыдущих века. Стремление к этому только усиливалось, по мере того как ослабевало прямое влияние гуманизма. Латинские школы Эдуарда VI и Елизаветы – одним словом, та система воспитания средних классов, которая в конце XVI века изменила внешний вид Англии, – это следствие школы святого Павла, основанной Колетом. Но «вооруженные греки» Мора нашли себе еще более широкое поле деятельности в реформе высшего образования.
Влияние гуманизма на университеты как будто воззвало их от смерти к жизни. Эразм описывал перемену, произошедшую в Кембридже, где он сам некоторое время был преподавателем греческого языка: «Всего 30 лет назад здесь преподавались только «Parva Logicaliae» Александра, устарелые упражнения по Аристотелю и «Quaestiones» Скотта. С течением времени к этому присоединились новые лучшие науки, математика, новый или несколько обновленный Аристотель и греческая литература. Что же из этого вышло? Университет теперь так процветает, что может соперничать с лучшими современными университетами». Латимер и Крок вернулись из Италии и продолжали дело Эразма в Кембридже, где им оказывал сильную поддержку Фишер, епископ Рочестерский, сам бывший одним из лучших представителей нового направления.
В Оксфорде гуманизм встретил большее сопротивление. Спор принял вид мальчишеских драк, в которых юные сторонники и противники гуманизма выступали греками и троянцами. Сам король должен был вызвать к себе одного из злейших противников нового течения и положить конец нападкам, раздававшимся с университетской кафедры. Проповедник ссылался на то, что им руководит Дух. «Да, – возразил король, – дух, но не мудрости, а безумия». Но даже и в Оксфорде спор скоро подошел к концу. Первый греческий курс учредил там в своем новом колледже Тела Христова Фокс, епископ Уинчестерский, а позднее кафедра греческого языка была учреждена короной. «Студенты, – писал очевидец, – просто набрасываются на греческую литературу; при изучении ее им приходится переносить бодрствование, пост, труд и даже голод». Венцом всего дела было основание великолепного колледжа Кардинала, на кафедры которого Уолси приглашал самых выдающихся современных европейских ученых и для библиотеки которого обещал достать копии всех рукописей Ватикана.
Гуманизм требовал преобразования не только школы, но и церкви. Уорхем все еще оказывал ему постоянное содействие; по его поручению Колет обратился к собранию духовенства с речью, с беспощадной строгостью излагавшей религиозный идеал гуманизма. «О, если бы хоть раз, – разразился пылкий оратор, – вы вспомнили ваше имя и звание и подумали о преобразовании церкви. Никогда не было оно более необходимым, никогда ее состояние не требовало боль усилий». «Нас тревожат еретики, – продолжал он, – но никакая их ересь не опасна для нас и для всего народа так, как порочная и распутная жизнь духовенства. Это худшая из всех ересей». Реформа епископата должна была предшествовать реформе духовенства, а преобразование жизни духовенства должно было привести к оживлению религиозного чувства во всем народе. Духовенство должно было отказаться от скопления должностей, от роскоши и светской жизни. Епископы должны были стать деятельными проповедниками, покинуть двор, трудиться в своих епархиях. Нужно было заботиться о посвящении и возвышении более достойных служителей, требовать присутствия их на местах, поднимать уровень нравственности духовенства.
Очевидно, что представители гуманизма стремились не к преобразованию учения, а к реформе образа жизни, не к перевороту, который устранил бы презираемые ими старые суеверия, а к возрождению религиозного чувства, перед которым суеверия должны были неизбежно исчезнуть. Вскоре епископ Лондонский обвинил Колета в ереси, но Уорхем защитил его, а Генрих VII, которому был подан донос, велел ему смело идти вперед. «Каждый может иметь своего наставника, – сказал молодой король после длинного разговора, – и каждый может ему покровительствовать, а это мой наставник».
Но для успеха новой реформы, которую можно было осуществить только при спокойном распространении знаний и постепенном просвещении человеческой совести, необходим был мир; между тем молодой король, на помощь которого рассчитывала группа ученых, уже мечтал о войне. Хотя между обеими враждовавшими сторонами давно уже был заключен мир, но короли Англии, в сущности, никогда не отказывались от своих видов на французскую корону, и Генрих VIII с гордостью вспоминал о старых притязаниях Англии на Нормандию и Гиень. Эдуард IV и Генрих VII следовали мирной политике, прерванной только тщетными усилиями спасти Бретань от французского нашествия. Но благодаря политике Людовика XI расширение владений и укрепление власти французских королей, присоединение крупных уделов и введение административной централизации сильно возвысили Францию над ее соперниками.
В сущности, противовесом ее могуществу служила только мощь Испании: благодаря союзу Кастилии и Арагона она образовала великую державу, которую холодный и осторожный Фердинанд еще более упрочил, выдав свою дочь и наследницу за эрцгерцога Филиппа, сына императора Максимилиана. Считая Англию слишком слабой для борьбы с Францией один на один, Генрих VII в союзе с Испанией видел гарантию против «наследственного врага»; союз был скреплен браком его старшего сына Артура с дочерью Фердинанда Екатериной. Этот брак был разорван смертью молодого новобрачного, но Фердинанду удалось выхлопотать у папы для Екатерины разрешение выйти замуж за брата ее покойного супруга. В борьбе Франции с Испанией Генрих VII старался поддержать равновесие между ними и потому отказывался от союза; но едва Генрих VIII наследовал своему отцу в 1509 году, как брак был заключен. В первые годы его царствования всю его энергию, казалось, поглощали турниры и пиры; но в действительности Генрих VIII ожидал для возобновления старой борьбы только повода, который должно было предоставить ему честолюбие Франции.
При преемниках Людовика XI усилия французских королей были направлены на завоевание Италии. Поход Карла VIII за Альпы и приобретенное им с одного удара господство над Италией сразу поставили Францию выше окружавших ее государств. Два раза французы были изгнаны, но при преемнике Карла VIII Людовике XII они сохранили господство над Миланом и большей частью Северной Италии; а разгром Венеции Камбрейской лигой сокрушил последнее государство, которое могло противодействовать их видам на весь полуостров. Для изгнания французов из Италии Фердинанду, при посредстве его родства с императором, помощи Венеции и папы Юлия II, а также воинственного Генриха VIII, удалось создать «Священную лигу», названную так от присоединения к ней папы. Говоря словами Юлия II, «варвары были изгнаны за Альпы»; но Фердинанд, со своей бессовестной хитростью, воспользовался английским войском, высадившимся при Фонтарабии с целью нападения на Гиень, только для прикрытия завоевания Наварры. Войско взбунтовалось и отплыло домой; все смеялись над неловкостью англичан в войне.

Рис. Генрих VIII.
Но мужество Генриха VIII возрастало вместе с нуждой. Он лично высадился на севере Франции, и внезапное бегство французской конницы в схватке близ Гинегэта, от ее бескровного характера получившей название «битвы шпор» (1514 г.), подарило ему крепости Теруан и Турнэ. Молодой победитель уже мечтал о завоевании своего «французского наследства», как вдруг отказ Фердинанда и распад союза оставили его в одиночестве. Однако он многого достиг. Могущество Франции было сломлено, папству была возвращена свобода, Англия снова выступила перед Европой в качестве великой державы. Зато миллионы, оставленные Генрихом VII, были истрачены, а подданные обременены тяжелыми налогами, и потому, как бы ни был Генрих VIII раздражен изменой Фердинанда, ему все таки пришлось заключить мир.
Для надежд гуманистов этот внезапный порыв воинского духа, это превращение монарха, от которого они ожидали «нового порядка», в простого завоевателя было горьким разочарованием. Колет с кафедры собора святого Павла провозгласил, что «несправедливый мир лучше справедливейшей войны» и что «когда люди из ненависти и честолюбия сражаются и губят один другого, они борются под знаменем не Христа, а дьявола». Эразм покинул Кембридж со злой сатирой на окружавшее его «безумие». «Народ, – сказал он, строит города, а безумие государей разрушает их», и его слова должны были поразить современников. Государи его времени представлялись ему похожими на хищных птиц, клювом и когтями истребляющих с трудом добытые богатства и знания человечества. «Божественными называют королей, – восклицал он с горькой иронией, – которые едва заслуживают называться людьми; они остаются непобедимыми, хотя убегают с поля каждой битвы; светлейшими, хотя в буре войны поворачивают мир вверх дном; славными, хотя пребывают в неведении всего высокого; католическими, хотя следуют всему, чему угодно, только не учению Христа. Изо всех птиц мудрые люди сочли представителем царской власти одного орла, а между тем он не отличается ни красотой, ни музыкальностью и непригоден в пищу; это птица жестокая, жадная, ненавистная для всех, всеми проклинаемая; ее страшную способность причинять зло превосходит только ее стремление творить его».
В первый раз в новой истории религия обособлялась от честолюбия государей и ужасов войны; в первый раз дух критики отваживался не только сомневаться, но и прямо отрицать то, что прежде представлялось основными истинами политического порядка. Мы скоро увидим, какое значение придал новым взглядам более глубокий мыслитель; в данный момент внезапный мир обратил негодование гуманистов на более практические цели. Хотя Генрих VIII и обманул их надежды, но он все еще оставался их другом. При всех поворотах в его бурной жизни его двор постоянно оставался прибежищем для науки. Малолетний сын Генриха VIII Эдуард IV отлично знал оба классических языка, его дочь Мария писала прекрасные письма на латыни. Елизавета начинала каждый день чтением в течение часа греческого Евангелия, трагедий Софокла или речей Демосфена. Придворные дамы переняли привычки семьи короля и принялись усердно изучать диалоги Платона.
Как сильно ни отличались министры Генриха VIII один от другого, все они сходились в том, что разделяли и поощряли новое просвещение. Поэтому опасения ученого кружка скоро исчезли. Избрание папой Римским Льва X, товарища Линэкра и друга Эразма, считалось, обещало гуманизму влияние на всю церковь. Времена беспокойного честолюбивого Юлия II, казалось, прошли безвозвратно, и новый папа высказался за всеобщий мир. «Лев, – писал английский агент при его дворе, – желает покровительствовать литературе и искусствам, заниматься постройками и вступать в войну не иначе как по принуждению». Этим словам последующие события придали особенное значение. При новом министре Уолси Англия воздерживалась от всякого активного вмешательства в дела материка и так же, как и Лев X, поддерживала мир. Колет был занят своей учебной реформой; Эразм отправлял в Англию работы, которые английская щедрость позволяла ему выполнять за границей. Уорхем так же великодушно помогал ему, как защищал Колета. При поддержке Уорхема Эразм во время своего пребывания в Кембридже начал издание творений блаженного Иеронима, и оно вышло с посвящением архиепископу на заглавном листе.
Полное сочувствие примаса высшим стремлениям гуманизма проявилось в том, что Эразм мог искать в его имени защиту для произведения, смело призывавшего христианство на путь здравой библейской критики, что он мог обращаться к нему с такими ясными словами, как в его предисловии. Нигде дух исследования не восставал с такой твердостью против притязаний авторитета. «Синоды и декреты, и даже соборы, – писал Эразм, – по моему суждению, вовсе не самые подходящие средства для устранения ошибок, если только истина зависит не просто от авторитета. Напротив, чем больше догматов, тем обильнее почва для ереси. Никогда христианская вера не была чище или незапятнаннее, чем когда мир довольствовался простым исповеданием, и притом кратчайшим из известных нам».
Даже теперь трогательно слышать такое обращение к разуму и образованию от той волны догматизма, которая скоро должна была наводнить христианство «Аугсбургскими исповеданиями», символами папы Пия IV, Вестминстерскими катехизисами и 39 статьями. Те начала, на которых Эразм настаивал в своем предисловии к Иерониму Пражскому, были выдвинуты с еще большими ясностью и силой в произведении, послужившем основой для Реформации; это было издание греческого текста Нового Завета, над которым он начал работать в Кембридже и которое обязано было своим завершением почти исключительно ободрению и помощи английских ученых.
Само по себе это издание было смелым нарушением богословского предания. Оно оставляло в стороне латинский перевод Вульгаты, заслуживший всеобщее признание церкви. Эразмов способ толкования основывался не на установленных догматах, а на буквальном смысле текста. Его настоящей целью было то, что имел в виду Колет в своих «Оксфордских лекциях». Эразм желал на место церкви поставить самого Христа, от учений богословов вернуть людей к учениям основателя христианства. Для него все значение Евангелия заключалось в той живости, с которой оно передает впечатление от личности самого Христа. «Если бы мы видели его нашими собственными глазами, мы не имели бы о нем такого ясного понятия, какое нам дает Евангелие: он говорит, исцеляет, умирает и воскресает как будто в нашем присутствии».
Все суеверия средневекового богослужения исчезали при свете этого почитания личности Христа. «Если нам где-нибудь показывают следы ног Христа, мы преклоняем колена и поклоняемся им. Почему мы не преклоняемся скорее перед полным жизни изображением Его в этих книгах? Из любви ко Христу мы украшаем золотом и драгоценными камнями деревянные и каменные статуи; но ведь они представляют нам только внешний Его вид, а эти книги дают нам живое изображение Его Святого Духа». Таким же образом настоящее учение Христа должно было заменить таинственные догматы древнейшего церковного учения. «Как будто Христос учил таким тонкостям, – восклицал Эразм, – тонкостям, которые едва могут понимать немногие богословы, или как будто сила христианской религии состоит в том, чтобы люди ее не знали! Может быть, благоразумнее, – продолжал он с присущей ему иронией, – скрывать политические тайны королей, но Христос желал, чтобы Его таинства распространялись всюду возможно больше». Эразм утверждал, что нужно еще положить основание преобразованному христианству распространением в массе знакомства с учением Христа.
Со времени Уиклифа английская церковь считала перевод и чтение Библии на народном языке ересью и преступлением, влекущим за собой сожжение; теперь, при молчаливом одобрении примаса, Эразм смело выражал желание сделать Библию доступной и понятной для всех. «Я желаю, чтобы даже слабые женщины читали Евангелия и Послание святого Павла. Я хочу, чтобы они были переведены на все языки, чтобы их могли читать и понимать не только шотландцы и ирландцы, но даже и сарацины и турки. Но первый шаг к тому, чтобы их читали, – это сделать их понятными читателю. Я жду того времени, когда пахарь будет петь стихи Писания, следуя за плугом, когда ткач будет напевать их под стук своего челнока, а путник евангельскими рассказами будет коротать скуку своего путешествия».
Новый Завет Эразма (1516 г.) стал предметом всеобщих разговоров: его читали и обсуждали двор, университеты, все семьи, куда проникло новое направление. Но как ни смел казался его язык, Уорхем не только выразил свое одобрение, но и рекомендовал издание, по словам его письма к Эразму, одному епископу за другим. Самый влиятельный из его викариев, Фокс, епископ Уинчестерский, объявил, что один перевод стоит десяти комментариев; а один из виднейших ученых, Фишер Рочестерский, принимал Эразма у себя в доме.
Как ни смелы и многообещающи были эти усилия гуманизма в области учебной и церковной реформ, еще большее значение имели его политические и социальные взгляды, выразившиеся в «Утопии» Томаса Мора. Уже при дворе кардинала Мортона, где он провел свое детство, его способности рано породили большие надежды. «Кто доживет, – говорил обычно седовласый политик, – тот увидит, что из этого мальчика, теперь прислуживающего за столом, выйдет необыкновенный человек». Мы знаем, как в Оксфорде Колета и Эразма очаровывали его удивительная ученость и любезный характер; едва он покинул университет, как уже был известен в Европе как один из самых выдающихся представителей нового движения.
Резкое неправильное лицо, серые беспокойные глаза, тонкие подвижные губы, спутанные темные волосы, небрежные походка и одежда, изображенные на полотне Гольбейна, отражают внутреннюю сущность человека, его живость, неутомимый и всепоглощающий ум, едкое и даже беспощадное остроумие, его добродушный полупечальный юмор, смехом и слезами прикрывавший глубокие и нежные чувства. Мор лучше Колета представлял в Англии религиозное направление гуманизма, так как он подавал его в более мягкой и задушевной форме. Молодой юрист смеялся над суеверием и аскетизмом современных монахов и в то же время носил на теле волосяную рубашку и налагал на себя епитимьи, желая подготовиться к поступлению в орден картезианцев. Для Мора характерно, что из всех веселых и распутных ученых итальянского Возрождения он выбрал себе предметом подражания ученика Савонаролы Пико делла Мирандолу.
Хотя ханжи, слушавшие его смелые речи, и называли его свободным мыслителем, но когда он говорил с друзьями о Небе и будущей жизни, его глаза загорались, а голос начинал дрожать. Принимая должность, он прямо поставил условием «слушаться сначала Бога, и затем уже короля». Но в его внешности не было ничего монашеского или отшельнического. Молодой ученый с его веселой беседой, приятным общением, беспощадными эпиграммами, страстной любовью к музыке, всепоглощающим чтением, оригинальными взглядами, насмешками над монахами, юношеской страстью к свободе казался воплощением блеска и свободы гуманизма.
Но события скоро должны были показать, что под этим веселым характером скрывалась суровая непреклонность сознательного решения. Флорентийские ученые писали декламации против тиранов и в то же время своей лестью прикрывали тиранию дома Медичи. Едва Мор вошел в парламент, как вескость его доводов и строгое чувство справедливости привели к отклонению ходатайства короля о тяжелых налогах. «Безбородый юноша, – говорили придворные (а Мору было только 26 лет), – расстроил план короля». В остальные годы царствования Генриха VII молодой юрист счел более благоразумным держаться в стороне от общественной жизни, но это мало повлияло на его неутомимую деятельность. Он сразу выдвинулся в адвокатуре. Он написал «Жизнь Эдуарда V», первое произведение, в котором представлена новая английская проза, отличающаяся чистотой и ясностью стиля, свободная от устаревших форм выражения и классического педантизма. Место аскетических мечтаний заняли семейные привязанности.