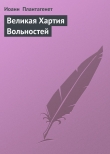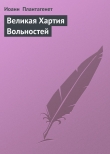Текст книги "Британия. Краткая история английского народа. Том 1."
Автор книги: Джон Ричард Грин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
В описываемый момент казна папы Римского была истощена долговременной борьбой с императором Фридрихом II, и Рим становился все более назойливым в своих требованиях. В особенности доставалось Англии, на которую папа Римский смотрел как на вассальную страну, обязанную помогать своему сюзерену. Бароны, однако, отвергли требование помощи от мирян, и тогда папа Римский обратился к духовенству. Он потребовал у него десятой доли всей движимости, а угроза отлучением подавила всякий ропот. Вымогательство следовало за вымогательством, права светских властей были оставлены без внимания, а под именем «резерваций» в Риме продавали вакансии на английские бенефиции, и итальянское духовенство заняло все наиболее доходные должности. Всеобщее недовольство нашло себе наконец выражение в широком заговоре: вооруженные люди распространяли но стране воззвания «от всей массы тех, кто предпочитает смерть покорности папскому грабежу», захватывали собранные для папы и иноземного духовенства деньги и раздавали их бедным, били папских агентов, топтали ногами папские буллы. Жалобы Рима выявили всего только народный характер движения, но по мере расследования в движении обнаружилось и участие юстициария. Шерифы спокойно смотрели на производимое перед ними насилие; мятежники показывали королевские грамоты, одобрявшие их действия.
Папа Римский открыто приписал взрыв тайному потворству Губерта де Борга. Обвинение это пришло в ту минуту, когда король был в явном раздоре с министром, которому он приписывал неудачу своих попыток возвратить континентальные владения предков. Вследствие представлений Губерта было отклонено приглашение баронов Нормандии, а когда король собрал большую армию для похода в Пуату, то ее пришлось распустить из Портсмута вследствие недостатка перевозочных средств и провианта. Тогда молодой король обнажил меч и бешено кинулся на Губерта, обвиняя его в измене и подкупе французами, но ссора была улажена и поход отложен на год. Неудача экспедиции следующего года в Бретань и Пуату снова была приписана проискам Губерта, своим сопротивлением помешавшего решительному сражению.
Обвинения папы Римского переполнили чашу терпения короля. Губерта вытащили из Брентвудской часовни и приказали кузнецу заковать его в кандалы. «Я скорее умру любой смертью, чем надену цепи на человека, освободившего Англию от чужестранцев и отстоявшего Дувр от французов», – отвечал кузнец. Увещевания епископа Лондонского заставили короля вернуть Губерта в его убежище, но голод принудил его сдаться. Его посадили в Тауэр, и хотя вскоре освободили, но он лишился всякого влияния на дела. Его падение отдало Англию в полное распоряжение самого Генриха III.

Рис. Генрих III.
В характере Генриха III были черты, привлекавшие к нему людей даже в худшие дни его правления. Памятником его художественного вкуса служит храм Вестминстерского аббатства, которым он заменил неуклюжий собор Исповедника. Он был покровителем и другом художников и литераторов, сам был знатоком «веселой науки» трубадуров. В нем не было и следа жестокости, распутства и нечестия его отца, но зато он почти совсем не унаследовал и политических талантов своих предков. Расточительный, непостоянный, порывистый и на доброе и на злое, несдержанный в действиях и словах, смелый в обидах и насмешках, Генрих III любил суетную роскошь, а его понятия об управлении сводились к мечте о неограниченной власти.
При всем своем легкомыслии король с упорством слабого человека держался в политике определенного направления. Он лелеял надежду возвратить себе заморские владения своего дома, он верил в неограниченную власть короны и смотрел на Великую хартию как на обещания, которые были вырваны силой и силой же могли быть взяты назад. Притязания королей Франции на неограниченную власть, исходящую от Бога, освещали в уме Генриха III его притязания, находившие, к тому же поддержку у любимых им членов Королевского совета. Смерть Лангтона и падение Губерта позволили ему окружить себя зависимыми министрами – простыми орудиями королевской воли.
Толпы голодных итальянцев и бретонцев были тотчас вызваны для занятия королевских замков, а также судебных и административных должностей при дворе. Вслед за браком короля с Элеонорой Прованской последовало прибытие в Англию дядей королевы. Название дворца на Стренде «Савойским» напоминает о Петре Савойском, прибывшем пять лет спустя, чтобы на время занять главную должность в Королевском совете; его брат, Бонифаций, занял первое после короля место в Англии – архиепископа Кентерберийского. Молодой примас, подобно своему брату, принес с собой довольно странные для английского народа обычаи: его вооруженные слуги грабили рынки, а собственный кулак архиепископа сбил с ног приора храма святого Варфоломея, что в Смитфилде, когда тот воспротивился его ревизии. Лондон пришел в негодование от такого поступка, а после отказа короля в правосудии шумная толпа граждан окружила дом примаса в Ламбете с криками мщения, и «изящный архиепископ», как величали его приверженцы, очень обрадовался возможности бежать за море.

Рис. Элеонора Прованская.
За этим роем провансальцев последовало в 1243 году прибытие в Англию из Пуату родственников супруги Иоанна, Изабеллы Ангулемской. Эймер был назначен епископом Уинчестерским, Вильгельм Валанский получил графство Пемброкское. Даже шут короля был родом из Пуату. За крупными баронами пришли искать счастья в Англию сотни их вассалов. Прибывшая из Пуату знать привезла с собой много невест, искавших женихов, и король женил на иностранках трех английских графов, состоявших под его опекой. Вся правительственная машина перешла в руки невежественных людей, относившихся с пренебрежением к началам английского управления и закона. Их управление было чистой анархией: королевские слуги превратились в настоящих разбойников, грабивших иностранных купцов в ограде дворца; в среду судей проник подкуп, и один из юстициариев, Генрих Батский, был изобличен в том, что открыто брал взятки и присуждал в свою пользу спорные имения.
Беспрепятственное продолжение таких беспорядков, вопреки постановлениям Хартии, объясняется разъединением и вялостью английских баронов. При первом прибытии иностранцев сын великого регента, граф Ричард Маршалл, выступил с требованием удаления иноземцев из Королевского совета; хотя большинство баронов его покинуло, но он разбил высланный против него иноземный отряд и принудил Генриха III вступить в переговоры о мире. В этот момент интрига Петра де Роша заставила его уехать в Ирландию; там он пал в незначительной стычке, и бароны остались без предводителя. В это время кентерберийскую кафедру занимал Эдмунд Рич, бывший профессор Оксфорда; он вынудил короля удалить Петра от двора, но настоящей перемены в системе не произошло, и дальнейшие предложения Рича и епископа Линкольнского Роберта Гросстета остались без результатов.
Затем наступил долгий период беспорядочного управления, когда финансовые затруднения заставили короля обращаться к одному налогу за другим: лесные законы стали средствами вымогательства, места епископов и аббатов оставались незамещенными, у прелатов и баронов вымогались деньги взаймы, сам двор во время путешествий жил всюду на даровых квартирах. Однако всех этих средств далеко не хватало для покрытия расходов расточительного короля. Шестая часть его доходов тратилась на пенсии иноземным фаворитам; долги короны в четыре раза превышали ее годовой доход. При таких условиях Генрих III вынужден был обратиться к Великому совету королевства, разрешившему произвести сбор, но под условием подтверждения Хартии. Хартия была подтверждена, однако позже король стал упорно ее нарушать; негодование баронов выразилось в решительном протесте и отказе королю в дальнейших субсидиях.
Несмотря на это, Генрих III собрал достаточно средств для большого похода с целью вернуть Пуату. Попытка окончилась позорной неудачей. При Тальебуре войска Генриха III позорно бежали перед французами, и только внезапная болезнь Людовика IX и эпидемия, сокращавшая его войско, помешали им взять город Бордо. Королевская казна была истощена, и Генрих III снова обратился за помощью к баронам. Бароны твердо решили добиться порядка в управлении и потребовали, чтобы подтверждение Хартии сопровождалось избранием в Великом совете юстициария, канцлера и казначея и чтобы при короле находился постоянный совет для выработки плана дальнейших реформ. Эта идея, однако, разбилась о сопротивление Генриха III и запрет папы Римского. Бремя папских вымогательств страшно отягчало духовенство.
После тщетных представлений королю и папе Римскому архиепископ Эдмунд в отчаянии удалился в изгнание, и на несчастное духовенство стали набрасываться все новые сборщики, уполномоченные отлучать от церкви, отрешать от должностей и назначать на церковные места. Страшный грабеж вызвал всеобщее сопротивление. Пример подали оксфордские студенты, изгнавшие из города папского легата с криками: «Лихоимец! Святокупец!» Фульк Фиц-Уоррен от имени баронов приказал папскому сборщику убираться из Англии. «Если вы промедлите еще три дня, – прибавил он, – то вы и вся ваша свита будете изрублены в куски». На время сам Генрих III был увлечен потоком народного негодования. Вместе с баронами и прелатами он послал письма в Рим с протестами против папских вымогательств и издал указ, которым запрещался вывоз денег из государства; но угроза отлучением скоро вернула его к политике грабежа, в которой он шел рука об руку с Римом.
История этого беспорядочного периода сохранена для нас летописцем, страницы записок которого озарены новым взрывом патриотического чувства, вызванного общим угнетением народа и духовенства. Матвей Парижский является величайшим и, в сущности, последним из наших монастырских летописцев. Правда, Сент-Олбанская школа существовала еще долгое время, но ее писатели превратились в простых летописцев, кругозор которых ограничивался оградой монастыря, а произведения были бесцветными и сухими. У Матвея, наоборот, широта и точность рассказа, обилие сведений о местных и общеевропейских делах, правдивость и справедливость замечаний соединяются с патриотическим пылом и энтузиазмом. Он наследовал ведение монастырских летописей после Рожера Уэндовера, и его «Большая хроника», а также ее сокращенный вариант, приписывавшиеся Матвею Вестминстерскому, «История англичан» и «Деяния аббатов» составляют лишь небольшую часть написанных им объемных произведений, свидетельствующих о его огромной работоспособности.
Он был не только писателем, но и художником, и многие из сохранившихся рукописей украшены его собственными иллюстрациями. Широкий круг корреспондентов – епископы вроде Гросстета, министры вроде Губерта де Борга, духовные судьи вроде Александра Суэрфорда – сообщали ему подробные сведения о политических и церковных событиях. Паломники с Востока и папские агенты приносили в его кабинет в Сент-Олбансе известия об иностранных событиях. Он имел доступ к государственным актам, грамотам, реестрам казначейства и часто ссылался на них. Посещения аббатства королем приносили ему массу политических известий, и сам Генрих III давал материал для «Большой хроники», сохранившей с такой ужасающей правдивостью память о его слабостях и злоупотреблениях. В один из торжественных праздников король узнал Матвея, посадил его на ступеньки трона и попросил написать историю современных событий. В другое посещение Сент Олбанса он пригласил его в свою комнату к столу и перечислил ему для сведения названия двухсот пятидесяти английских баронств.
Но все эти любезности короля оставили мало следов в произведениях летописца. «Задача историка тяжела, – говорил Матвей, – повествуя правду, он восстанавливает против себя людей; утверждая ложь, грешит перед Богом». С полнотой материалов, присущей придворным историкам (вроде Бенедикта или Гоудена) Матвей Парижский в своих трудах соединял чуждый им дух независимости и патриотизма. С одинаковой беспощадностью он изобличал притеснения и папы Римского, и короля. Точка зрения, которой он придерживался, – не придворная и не церковная, а общеанглийская, и этот новый для летописца тон являлся лишь эхом национального чувства, которое наконец объединило баронов, крестьян и духовных особ в один народ, решившийся добиться свободы у короны.
Глава VI
НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА
От утомительного рассказа о беспорядочном управлении и политическом слабодушии, тяготевших над Англией в течение сорока последних лет, мы с удовольствием обращаемся к истории нищенствующих орденов.
Никогда еще власть церкви над христианским миром не была так беспредельна, как в эпоху папы Римского Иннокентия III и его непосредственных преемников, но ее духовное влияние слабело день ото дня. Старое почтение к папству не могло не исчезать при виде его политических притязаний, злоупотреблений интердиктами и отлучениями для чисто мирских целей, обращения самых священных чувств в орудие денежных вымогательств. В Италии борьба, начавшаяся между Римом и императором Фридрихом II, породила такой дух скептицизма, что эпикурейские поэты Флоренции дошли до отрицания бессмертия души и стали подкапываться под самые основы веры. В Южной Франции, в Лангедоке и Провансе, появилась ересь альбигойцев, отвергавшая всякое подчинение папству.
Даже в Англии, где еще не было признаков религиозного возмущения и где политическое влияние Рима в общем способствовало проявлениям свободы, существовало стремление противодействовать его вмешательству в национальные дела; стремление, выразившееся во время борьбы с Иоанном. «Светские дела не касаются папы», – отвечали лондонцы на интердикт Иннокентия III. Внутри английской церкви многое требовало преобразования. Ее роль в борьбе за Хартию, равно как и последующая деятельность примаса, сделали ее более чем когда-либо популярной, но ее духовная энергия была слабее политической. Отвыкание от проповедей, превращение монашеских орденов в крупных землевладельцев, невежество приходских священников – все это лишало духовенство нравственного влияния.
Злоупотребления были так огромны, что притупляли энергию даже таких людей, как епископ Линкольнский Гросстет. Его наставления запрещали духовенству посещать таверны, вести азартные игры, участвовать в кутежах, вмешиваться в разгул и разврат, царившие среди дворян; но такие запреты только указывали на распространенность зла. Епископы и деканы отрывались от своих церковных обязанностей для деятельности в качестве министров, судей, послов. Бенефиции скапливались сотнями в руках королевских фаворитов вроде Джона Манзеля. Монастыри отнимали у приходов десятины, снабжая их полуголодными вивариями, а купленные в Риме привилегии защищали скандальную жизнь каноников и монахов от дисциплинарных взысканий епископов. Кроме этого, существовала группа светских политиков и ученых, которая не решалась, правда, на открытую борьбу с церковью, но с ядовитой насмешкой выявляла ее злоупотребления и ошибки.
Возвращение мира под власть церкви и составляло цель двух монашеских орденов, возникших в начале XIII века.
Религиозный пыл испанца Доминика пробудился при виде надменных прелатов, старавшихся огнем и мечом возвратить альбигойцев к покинутой ими вере. «Ревности должна быть противопоставлена ревность, – воскликнул он, – смирению – смирение, ложной святости – истинная святость, проповеди лжи – проповедь правды». Его пламенное рвение и непреклонная преданность вере встретили отклик в мистической набожности и мечтательном энтузиазме Франциска Ассизского. Жизнь Франциска освещает каким-то нежным светом мрак того времени. Во фресках Джотто и стихах Данте мы видим его обручающимся с нищетой. Он отказывается от всего, бросает к ногам отца свое платье, чтобы остаться наедине с природой и Богом. В трогательных стихах он называл луну своей сестрой, а солнце – братом, призывал брата-ветра и сестру-воду. Последним слабым восклицанием Франциска был привет сестре-смерти.
Как ни различались по своим характерам Франциск и Доминик, но цель у них была одна – обращение язычников, искоренение ереси, примирение науки с религией, проповедь Евангелия бедным. Этих целей можно было достичь полной реорганизацией прежнего монашества, поиском личного спасения в стремлении спасти своих братьев, заменой отшельничества проповедью и монахов – нищенствующими братьями. Чтобы поставить новых «братьев» в полную зависимость от тех, в среде которых им приходилось работать, их обет бедности был обращен в суровую действительность: «нищенствующие монахи» должны были существовать исключительно подаянием; они не могли владеть ни деньгами, ни землями; даже дома, в которых они жили, содержались для них другими.
Народное сочувствие ко вновь появившимся братьям заглушило антипатию Рима, недоброжелательство старых орденов, оппозицию приходского духовенства. Тысячи братьев собрались за несколько лет вокруг Франциска и Доминика, и нищенствующие проповедники, одетые в грубые шерстяные рясы, подпоясанные веревками, с босыми ногами, отправлялись в качестве миссионеров в Азию, боролись с ересью в Италии и Франции, читали лекции в университетах, проповедовали и грудились среди бедных.
Появление «братьев» произвело целый переворот в религиозной жизни городов. Городские священники составляли наиболее невежественную часть духовенства, существовавшую исключительно на подаяния прихожан за исполнение треб. Религиозным поучением для купцов и ремесленников должны были служить лишь пышные церковные обряды да картины и скульптуры, украшавшие стены церквей. Поэтому можно удивляться тому взрыву восторга, с которым были встречены странствующие проповедники с горячими воззваниями, грубым остроумием, простой речью, перенесшие религию на ярмарки и рыночные площади. С одинаковым восторгом встречали горожане и черных доминиканцев, и серых францисканцев.
Прежние ордена предпочитали деревню, новые селились в городах. Едва высадившись в Дувре, они направились прямо в Лондон и Оксфорд. По незнанию местности два первых «серых брата» сбились с пути в лесах между Оксфордом и Балдоном и, испугавшись ночи и непогоды, повернули в сторону, на хутор абингдонских монахов. Их оборванные платья и странные жесты, с какими они просили себе приюта, дали повод привратнику принять их за жонглеров, шутов и фокусников того времени; известие о таком нарушении монотонной монастырской жизни привлекло к воротам настоятеля, ризничего и эконома, пожелавших приветствовать их и посмотреть на фокусы. Сильно разочарованные, монахи грубо вытолкали прибывших за ворота и принудили их искать себе на ночь приют под деревом.
Прием горожан всюду служил странникам наградой за недоброжелательность и противодействие духовенства и монахов. Работа «братьев» была не только нравственной, но и физической; быстрый рост населения городов опередил санитарные порядки средневековья, и горячка, чума и еще более страшный бич – проказа – гнездились в жалких лачугах предместий. На такие-то притоны и указывал Франциск своим ученикам, и «серые братья» сразу стали селиться в самых плохих и бедных кварталах городов. Поприщем для их главной работы были отвратительные лазареты; места для своих поселений они обычно выбирали среди прокаженных. В Лондоне они поселились на Ньюгетском рынке, в Оксфорде – на болоте, между городскими стенами и протоками Темзы. Бревенчатые хижины и землянки, не лучше окружавших их лачуг, строились внутри грубой изгороди и рва, окружавших это жилье.
Орден Франциска вел упорную борьбу с присущим этому времени пристрастием к пышным постройкам и личному удобству. «Не затем поступил я в монахи, чтобы строить стены», – сказал английский провинциал своей братии, попросившей у него более просторного помещения, а Альберт Пизанский приказал срыть до основания построенный для них жителями Саутгемптона каменный монастырь. «Вам не нужно маленьких гор, чтобы поднимать головы к небу», – презрительно ответил он на требование подушек. Только больным разрешалось носить обувь. Один брат в Оксфорде нашел утром пару башмаков и проносил их до заутрени. Ночью ему приснилось, что в опасном месте, между Глостером и Оксфордом, на него напали разбойники с криком: «Бей, бей его!» «Я босоногий монах!» – закричал насмерть перепуганный брат. «Лжешь, – был немедленный ответ, – ты ходишь обутый». Монах в опровержение поднял ногу, но на ней оказался башмак. В припадке раскаяния он проснулся и выбросил башмаки за окно.
Не так успешно боролся орден со страстью к знаниям. Буквально понимаемый основателями обет нищеты не позволял братьям иметь в своем распоряжении ни книг, ни учебных пособий. «Я ваш требник, я ваш требник!» – воскликнул Франциск, когда послушник попросил у него Псалтырь. Когда же он услышал в Париже о приеме в орден одного великого ученого, он изменился в лице. «Я боюсь, сын мой, – сказал он, – чтобы подобные ученые не погубили моего виноградника; настоящие ученые – это те, которые со смирением мудрости совершают добрые дела для назидания своих ближних». Мы знаем, как впоследствии Роджеру Бэкону не позволяли иметь ни чернил, ни пергамента, ни книг, и лишь приказы папы смогли освободить его от строгого соблюдения этого правила.
Одну отрасль знания почти навязывали ордену его задачи. Популярность проповедников скоро привела их к более глубокому изучению богословия. Спустя немного времени после их поселения в Англии было уже около тридцати лекторов в Херефорде, Лестере, Бристоле и других городах и множество преподавателей при каждом университете. Оксфордские доминиканцы читали богословие в своей новой церкви, а философию – в монастыре. Первый провинциал «серых братьев» построил школу в их оксфордском доме и убедил Гросстета читать там лекции. Влияние Гросстета после назначения его на Линкольнскую кафедру было постоянно направлено на распространение знаний в среде братьев и на утверждение их в университете. К тому же стремился и его ученик Адам Марш, или де Мариско, при котором францисканская школа в Оксфорде приобрела известность во всем христианском мире. Лион, Париж и Кёльн брали себе из нее профессоров, и благодаря ее влиянию Оксфорд в качестве центра схоластики едва ли уступал тогда самому Парижу. Среди его преподавателей были три самых глубоких и оригинальных схоласта – Роджер Бэкон, Дунс Скотт и Уильям Оккам; за ними следовал ряд наставников, едва ли менее славных в те дни.
Результаты этого могущественного движения вскоре оказались роковыми для более широкой умственной деятельности, до того отличавшей жизнь университетов. Богословие в его схоластической форме вернуло себе преобладание в школах; его единственными соперниками оставались практические науки, вроде медицины и права. Сам Аристотель, который так долго считался опаснейшим врагом средневековой веры, превратился теперь, через применение его логического метода к обсуждению и определению богословских догматов, в неожиданного союзника. Это тот самый метод, который вел к «бесполезной изощренности и утонченности» и который лорд Бэкон считал главным недостатком схоластической философии. «Но, замечал дальше о схоластах великий мыслитель, несомненно и то, что если бы эти ученые с их страшной жаждой знания и неустрашимым остроумием соединяли разностороннее чтение и размышление, они оказались бы превосходными светочами и содействовали бы успехам всякого рода учености и знания».
Несмотря на все заблуждения, несомненная заслуга схоластов состояла в том, что они настаивали на необходимости строгого доказательства и более точного употребления терминов, ввели в обиход ясное и методичное рассмотрение всех обсуждаемых вопросов и, что еще важнее, заменили безусловное подчинение авторитету обращением к разуму. Благодаря этому критическому направлению, а также ясности и точности, приданным исследованию схоластика, несмотря на частое занятие пустыми вопросами, в течение двух ближайших веков сообщила человеческому духу направление, которое позволило ему воспользоваться великими научными открытиями эпохи Возрождения.
Тому же духу смелого исследования и народным симпатиям, возбужденным самим устройством новых орденов, надо приписать и влияние, которое они несомненно оказали на предстоявшую борьбу между народом и короной. Они занимали ясное и вполне определенное положение в течение всего спора. Оксфордский университет, подчинившийся их руководству, первым восстал против папских вымогательств и в защиту английской свободы. Городское население, на котором влияние новых орденов сказалось сильнее всего, было стойким защитником свободы во время «войны баронов». Адам Марш был ближайшим другом и поверенным Гросстета и графа Симона де Монфора.
Глава VII
«ВОЙНА БАРОНОВ» (1258—1265 гг.)
Однажды, катаясь по Темзе, король был захвачен грозой и поспешил укрыться от нее во дворце епископа Дергемского. В это время в гостях у епископа находился граф Симон Монфор, который, встретив королевскую шлюпку, стал уверять Генриха III, что гроза прошла и что бояться решительно нечего. «Если я и боюсь грозы, то Вас, граф, я боюсь больше всех громов на свете», – остроумно отвечал ему король.
Человек, которого Генрих III боялся как защитника английской свободы, сам был иностранцем, сыном того Симона Монфора, имя которого прославил в истории кровавый поход против альбигойцев в Южной Франции. От своей матери молодой Симон унаследовал графство Лестерское, а тайный брак со вдовой второго Уильяма Маршалла Элеонорой, доводившейся сестрой королю, породнил его с королевским домом. Недовольное этим браком с иностранцем дворянство восстало против Симона, и восстание окончилось неудачей только из-за отступничества его главы, графа Ричарда Корнуоллского. С другой стороны, против этого брака восстала и церковь, основываясь на данном Элеонорой после смерти первого супруга обете вдовства, и только путешествие в Рим с трудом уладило это дело.
Вернувшись, Симон увидел, что и непостоянный король отдалился от него, и гнев Генриха III заставил его покинуть Англию. Вскоре, однако, милость короля вернулась и Симон стал одним из первых патриотических вождей. В 1248 году король назначил его правителем Гаскони, где его суровое правосудие и тяжелые налоги, необходимые для поддержания порядка, навлекли на него ненависть беспокойных баронов. Жалобы гасконцев привели к открытому разрыву с королем. Когда граф предложил отказаться от своего места, если, как раньше было обещано, ему будут возмещены все произведенные на службе издержки, то король гневно ответил, что не считает себя связанным обещанием, данным лживому изменнику. Симон тотчас изобличил Генриха III во лжи: «Если бы ты не был королем, то плохо пришлось бы тебе в тот час, когда у тебя вырвалось такое слово!» Потом они, однако, примирились, и граф вернулся в Гасконь, но еще до наступления зимы должен был уехать во Францию.
Как высока была уже в это время его репутация, видно из того, что вельможи предложили ему управлять Францией, впредь до возвращения Людовика IX из крестового похода, но Симон отказался от этой чести. Генрих III сам взялся за умиротворение Гаскони, но в 1253 году с удовольствием передал неудавшееся ему дело ее прежнему правителю. Характер Симона тогда окончательно сформировался. Он унаследовал строгую суровую набожность своего отца, постоянно днем и ночью посещал церковные службы, был другом Гросстета и покровителем новых орденов. Из его переписки с Адамом Маршем мы видим, что во время смут в Гаскони он находил себе утешение в чтении Книги Иова. Он вел нравственную и чрезвычайно воздержанную жизнь и был весьма умерен в пище, питье и сне. В обществе он был любезен и шутлив; его характер был живым и пылким, чувство чести – сильно развитым, а речь – быстрой и резкой. Его нетерпимость и горячий характер, действительно, были большими препятствиями в его дальнейшей карьере.

Рис. Симон де Монфор и король Генрих III.
Но самой характерной чертой его было то, что его современники называли «постоянством», – твердая готовность жертвовать всем, даже жизнью, ради верности праву. Девиз Эдуарда I «держись правды» гораздо больше подходил графу Симону. Из его переписки мы видим, как ясно понимал он все внутренние и внешние затруднения, когда «счел позорным отклонить от себя опасности такого подвига», как умиротворение Гаскони, и как, взявшись за дело, он стоял на своем, несмотря на оппозицию, отсутствие помощи из Англии и даже отступничество короля, и стоял на своем до тех пор, пока дело не было сделано. Та же сила воли и определенность цели характеризуют и патриотизм Симона. Письма Гросстета показывают, как рано начал граф сочувствовать восстанию епископа против Рима; в разгар спора он предлагал Гросстету поддержку – свою и своих единомышленников.
Он за собственной печатью послал Адаму Маршу трактат Гросстета «Об управлении государством и о тирании». Он терпеливо слушал советы друзей относительно своей деятельности и характера. «Терпеливый человек лучше сильного, – писал почтенный Адам Марш, – а тот, кто умеет управлять самим собой, выше того, кто берет приступом город. Что толку заботиться о мире сограждан и не поддерживать мира в своем доме?» По мере того как волна неурядиц возрастала, граф в тишине учился обеспечивать «мир своим согражданам», и результат этой подготовки обнаружился, когда наступил кризис. В то время как другие колебались, смущались и отступали, народ отнесся с восторженной любовью к строгому, серьезному воину, который «стоял подобно столпу», не поддаваясь ни обещаниям, ни угрозам, ни страху смерти и руководствуясь только данной им клятвой.
Дела в Англии шли все хуже. Папа Римский продолжал угнетать духовенство; два торжественных подтверждения Хартии не заставили короля следовать ее постановлениям. В 1248, в 1249 и в 1255 годах Великий совет безуспешно продолжал требовать настоящего управления; решимость баронов добиться хорошего управления все росла, и они предложили королю субсидии, а условием, чтобы главные сановники короны назначались Советом. Генрих III с негодованием отверг предложение и продал королевскую посуду гражданам Лондона, чтобы покрыть издержки своего двора. Бароны роптали и становились все смелее. «Я пошлю жнецов и велю убрать Ваши поля», – пригрозил король отказавшему ему в помощи графу Бигоду Норфолкскому. «А я отошлю Вам назад головы Ваших жнецов», – возразил граф.
Стесненный мотовством двора и отказом в субсидиях, Генрих III не имел ни гроша, а между тем предстояли новые расходы, так как он принял предложение папы Римского возвести на престол Сицилии своего второго сына Эдмунда. В это же время позор покрыл английское оружие: старший сын короля Эдуард был позорно разбит на границах Левелином Уэльским. Недовольство усилилось из-за голода и перешло всякие границы, когда в начале 1258 года Рим и Генрих III предъявили новые требования. На собрание, созванное в Лондоне, бароны явились вооруженными. Истекшие пятьдесят лет выявили сильные и слабые стороны Хартии: она была важна как основа объединения для баронов и как определенное утверждение прав, к признанию которых нужно было принудить короля; ее слабая сторона заключалась в том, что она не объясняла средств для проведения ее постановлений на деле. Несколько раз клялся Генрих III исполнять Хартию и тотчас же бессовестно нарушал свою клятву. Бароны обеспечили свободу Англии; тайна их долготерпения в 12-е царствование – царствование Генриха III – заключалась в трудности обеспечить стране надлежащее управление.