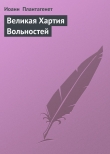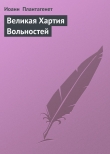Текст книги "Британия. Краткая история английского народа. Том 1."
Автор книги: Джон Ричард Грин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
В деле освобождения, таким образом, героизм соединялся с ужасной жестокостью, но оживление страны шло своим путем. Разорение Брюсом Бечэна после поражения его владельца, присоединившегося к английской армии, повернуло, наконец, колесо фортуны в его сторону. Эдинбург, Роксбург, Перт и большинство шотландских крепостей одна за другой перешли в руки короля Роберта. Духовенство созвало собор и признало Брюса своим законным государем. Постепенно вынуждены были подчиниться и шотландские бароны, бывшие еще на стороне Англии, и Брюс счел себя достаточно сильным, чтобы осадить Стирлинг, – последнюю и важнейшую из шотландских крепостей, еще державших сторону Эдуарда II.
Стирлинг действительно был ключом к Шотландии, и его опасное положение заставило англичан забыть о своих внутренних раздорах и собрать все силы, чтобы не выпустить из рук добычи. Главную силу огромной армии, двинувшейся за Эдуардом II на север, составляли тридцать тысяч всадников; к ним на помощь были вызваны толпы диких мародеров из Ирландии и Уэльса.
Армия, собранная Брюсом для противодействия вторжению, состояла почти из одной только пехоты и расположилась к югу от Стирлинга, на возвышенной местности, обрамленной небольшим ручьем Беннокберном, давшим свое имя битве. Как и при Фалкирке, здесь снова встретились лицом к лицу две системы тактики, так как Роберт, подобно Уоллесу, поставил свое войско в густые колонны копейщиков. Англичане с самого начала были смущены неудачей своей попытки освободить Стирлинг и исходом поединка между Брюсом и Генрихом де Богуном – рыцарем, бросившимся на Брюса, когда он спокойно ехал вдоль фронта своего войска. Роберт ехал на маленькой лошадке и держал в руке только легкий боевой топор, но, отклонив копье противника, он раскроил ему череп таким страшным ударом, что рукоятка сломалась в его руке.
В начале боя англичане пустили вперед стрелков с целью разредить ряды врагов, но стрелки не имели подкрепления и были легко рассеяны отрядом конницы, который Брюс держал для этого в резерве. Затем на фронт шотландцев кинулась масса конницы, но ее нападение было стеснено узким пространством, по которому приходилось двигаться, а упорное сопротивление каре скоро привело рыцарей в беспорядок. «Раненые кони, – с торжеством говорил шотландский писатель, – метались и сильно бились». В момент неудачи вид толпы обозных слуг, принятых по ошибке за неприятельское подкрепление, посеял в английской армии панический страх. Она обратилась в беспорядочное бегство. Тысячи блестящих рыцарей валились в ямы, вырытые нарочно на низинном левом фланге армии Брюса, или бешено неслись к границе; но достигнуть ее успели лишь немногие счастливцы. Самому Эдуарду II с пятьюстами всадниками едва удалось добраться до Денбара и моря. Цвет его рыцарства попал в руки победителей, а бегущие ирландцы на конях и пехотинцы были безжалостно перебиты поселянами. Богатая добыча, захваченная в английском лагере, на целые века оставила свой след в сокровищницах и ризницах замков и аббатств всей Нижней Шотландии.
Как ни ужасно было это поражение, все же оно не могло заставить Англию отказаться от своих притязаний на Шотландию. Брюс с таким же упорством отказывался от всяких переговоров, пока ему отказывали в королевском титуле, и настойчиво стремился к возвращению своих южных владений. Наконец Бервик был вынужден сдаться и потом отразил отчаянную попытку англичан вернуть его; в то же время варварские набеги порубежников с Дугласом во главе опустошили Нортумберленд. Новый перерыв в борьбе Эдуарда II с баронами позволил двинуть на север большую армию, но Брюс уклонялся от битвы, пока голод не принудил пришельцев к бедственному отступлению из опустошенной страны. Эта неудача заставила Англию в 1323 году заключить перемирие на тринадцать лет и признать за Брюсом королевский титул.
Низложение Эдуарда II юридически прерывало перемирие. Обе стороны собрали войска, а Эдуард Баллиол, сын бывшего короля, был торжественно принят при английском дворе в качестве вассального короля Шотландии. Проказа не позволяла Брюсу лично выйти на войну, но оскорбление побудило его снова послать своих мародеров под предводительством Дугласа и Рандольфа за границу. Вот как очевидец тех событий изображал шотландскую армию в походе: «Она состояла из четырех тысяч воинов, рыцарей и оруженосцев на хороших конях, и двадцати тысяч человек, сильных и выносливых, вооруженных по обычаю их страны, на маленьких лошадках, которых они никогда не привязывают и не чистят, а прямо после дневного перехода пускают на траву или на поля. Они не берут с собой обоза ввиду того, что в Нортумберленде им приходится переходить через горы, и не везут с собой запасов хлеба и вина, ибо на войне они так умеренны, что могут долгое время питаться полусырым мясом без хлеба и пить речную воду без вина. Поэтому они не нуждаются ни в горшках, ни в мисках, так как, ободравши скотину, они готовят мясо в ее же шкуре, и поскольку они уверены, что найдут в изобилии скот в стране, куда они направляются, то и не гонят его с собой. Под краями седла каждый воин везет широкий металлический лист, а сзади – небольшой мешок с овсяной мукой. Когда они съедят много вареного мяса, а желудок кажется слабым и пустым, они ставят эти листы на огонь, месят муку с водой и, когда лист нагреется, кладут на него немного теста в виде тонкого пирожка, похожего на бисквит, и тотчас глотают его, чтобы согреть желудок. Неудивительно поэтому, что они могут делать гораздо большие переходы, нежели другие солдаты».
Перед подобным врагом английская армия, вышедшая под предводительством мальчика-короля для защиты границы, оказалась совершенно беспомощной. Однажды она заблудилась в обширных пограничных пустынях; в другой раз потеряла всякий след неприятеля, и король обещал тому, кто откроет местонахождение шотландцев, рыцарское звание и сотню марок. Найденная, наконец, за Уиром позиция противника оказалась неприступной; после смелого нападения на английский лагерь Дуглас ловким отступлением расстроил планы англичан отрезать ему путь внутрь страны. Английская милиция в унынии разошлась, а новое вторжение в Нортумберленд принудило короля заключить мир в Нортгемптоне, по которому Шотландия была формально признана независимой, а Роберт Брюс стал ее королем.
Гордость англичан была, однако, слишком задета борьбой, чтобы легко примириться с подобным унижением. Первым результатом договора было падение заключившего его правительства, ускоренное надменностью его главы, Роджера Мортимера, и отстранением прочих вельмож от всякого участия в управлении королевством. Первые попытки поколебать могущество Роджера оказались безуспешными: союз, руководимый графом Ланкастерским, распался без результата. Прежде чем в борьбу вмешался юный король, на эшафот был возведен его дядя, граф Кентский. Тогда Эдуард III вошел в залу Совета в Ноттингемском замке с отрядом, проведенным им через тайный проход в скале, на которой стоял замок, собственноручно схватил Мортимера, предал его казни, а ведение дел взял в свои руки.
Его первой заботой было восстановить порядок в Англии, пришедшей при последних правителях в полное расстройство, и развязать себе руки для дальнейших мероприятий на севере Англии, заключением мира с Францией. Счастье, по-видимому, наконец снова повернулось лицом к Англии. Через год после Нортгемптонского договора Брюс умер, и шотландский престол перешел к его сыну, восьмилетнему мальчику, а внутренние затруднения привели к междоусобной борьбе. Для крупных баронов как Англии, так и Шотландии последний мир приносил серьезные потери: многие англичане владели большими поместьями в Шотландии и наоборот; и хотя договор оговаривал их права, фактически они оставлялись без внимания.
Недовольством баронов по этому поводу и объясняется неожиданный успех попытки Баллиола захватить шотландский престол. Несмотря на запрет Эдуарда III, Баллиол отплыл из Англии во главе кучки баронов, добивавшихся возвращения своих поместий на севере, высадился на берегах Файфа и, отразив (с большим уроном) напавшую на него близ Перта армию, короновался в Сконе. Давид Брюс, не видя другого выхода, бежал во Францию. Эдуард III не принимал открытого участия в этом предприятии, но успех раздразнил его честолюбие, и он добился от Баллиола признания английского верховенства. Это признание оказалось, однако, роковым для самого Баллиола. Его тотчас изгнали из Шотландии, а Бервик, который он обещал сдать Эдуарду III, – сильно укрепили. Англичане вскоре осадили город, но на выручку к нему явилась шотландская армия под командой регента Дугласа, брата знаменитого сэра Джеймса, и напала на осаждающих, занявших сильную позицию на Галидонской горе.
Однако английские стрелки поддержали славу, впервые приобретенную ими при Фалкирке и затем увенчанную победой при Кресси. Шотландцы пробрались через болото, прикрывавшее фронт англичан, только затем, чтобы быть осыпанными градом стрел и пуститься в беспорядочное бегство. Эта битва решила судьбу Бервика: с тех пор он остался навсегда в руках англичан как единственное приобретение Эдуарда III, сохраненное английской короной. Как ни был незначителен Бервик, англичане всегда смотрели на него, как на представителя всего государства, частью которого он некогда являлся. Как и вся Шотландия, он имел своих канцлера, камергера и других государственных сановников. Особый заголовок парламентских актов, издаваемых для Англии и «города Бервика на Твиде», до сих пор сохраняет память о его необычном положении.
Баллиол, которого победители восстановили в праве на престол, отплатил им за помощь формальной уступкой Нижней Шотландии. В течение следующих трех лет Эдуард III продолжал усвоенную им политику: он поддерживал свою власть над Южной Шотландией и помогал в ряде походов своему вассалу Баллиолу против отчаянных усилий баронов, еще стоявших за дом Брюса. Его упорство едва не увенчалось успехом; Шотландию спас только взрыв войны с Францией, отвлекший силы Англии на другую сторону Ла-Манша. Патриотическая партия в Шотландии снова собралась с силами; покинутый всеми, Баллиол бежал ко двору Эдуарда III, а Давид вернулся в свое королевство и возвратил главные крепости низменности. Свобода Шотландии была, в сущности, обеспечена. Из завоевательной войны и патриотического сопротивления борьба между Англией и Шотландией превратилась в мелкие ссоры враждующих соседей, служившие простыми эпизодами в великой борьбе Англии с Францией.
РАЗДЕЛ V
СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1336—1431 гг.)
Глава I
ЭДУАРД III (1336—1360 гг.)
В середине XIV века могучее движение к объединению нации, начавшееся при последнем из нормандских королей, достигло, повидимому, своей цели. Признаком полного слияния покоренных и завоевателей явилось отвыкание, даже среди высших классов, от французского языка. Несмотря на усилия грамматических школ и влияние моды, употребление английского языка при Эдуарде III все больше распространялось, а при его внуке оно восторжествовало окончательно. «Дети в школе, – говорил писатель начала царствования Эдуарда III, – вопреки привычке и обычаю всех других народов, вынуждены забывать свой родной язык, готовить уроки и писать сочинения по-французски, и так ведется с первого прибытия нормандцев в Англию. Точно так же дети дворян учатся говорить по-французски с того возраста, когда их еще качают в колыбели и они учатся разговаривать и забавляться игрушками; сельские жители также хотят походить на дворян и с большим трудом стараются говорить по-французски, чтобы о них больше судачили».
«Этот обычай, – добавлял переводчик времен Ричарда, – был в большом ходу до первого мора (чумы 1349 года), а с тех пор несколько изменился; учитель грамматики, Джон Корнуол, изменил обучение в грамматических школах и заменил французский язык английским. Этот способ обучения у него заимствовал Ричард Пенкрайч, а от него – другие. Так что теперь (в 1385 году) во всех школах Англии дети оставили французский язык и обучаются по-английски». Более ясным доказательством перемены служило введение в 1362 году английского языка в суды «на том основании, что французский язык многим неизвестен»; по английски же произнес речь в следующем году канцлер при открытии парламента. Епископы начали проповедовать по английски, а английские сочинения Уиклифа снова сделали его литературным языком.
Это стремление к общему пользованию народной речью сильно повлияло на литературу. В начале XIV века влияние французской поэзии способствовало тому, чтобы единственным литературным языком стал французский; в Англии это влияние поддерживалось французским тоном двора Генриха III и трех Эдуардов. Но в конце царствования Эдуарда III длинные французские поэмы нужно было переводить даже для слушателей-рыцарей. «Пусть духовные лица пишут по-латыни, – говорил автор «3авещания любви», – пусть французы излагают также на своем языке свои любезности: он родной для их уст; мы будем передавать наши фантазии словами, которым научились из языка матери».
Новая национальная жизнь предлагала теперь английской литературе сюжеты более высокие, чем «фантазии». Вместе с завершением дела национального объединения закончилось и дело народного освобождения. При Эдуарде I парламент отстоял свое право контроля над налогообложением, при Эдуарде II он от удаления министров дошел до низложения короля, при Эдуарде III он стал подавать свой голос по вопросам мира и войны, контролировать расходы, руководить ходом гражданского управления. Общественная жизнь Англии проявилась в широком распространении торговли и вообще, в ускорении торговли шерстью, в частности, в увеличении числа мануфактур после поселения на восточном берегу фламандских ткачей, в укреплении городов, в победе ремесленных цехов, в развитии земледелия вследствие дробления земель и в возвышении класса земельных арендаторов и фригольдеров. Еще более значительным для английского общества было пробуждение по призыву Уиклифа духа национальной независимости и нравственной строгости. Новые мысли и чувства, которым суждено было оказывать влияние на все эпохи позднейшей истории Англии, пробили себе выход сквозь кору феодализма и сказались в социалистическом движении лоллардов, а внезапный всплеск военной славы вдруг озарил своим блеском век Кресси и Пуатье.
Это новое радостное настроение великого народа и выразилось в произведениях Джеффри Чосера. Чосер родился около 1340 года в семье лондонского виноторговца, жившего на улице Темзы; в Лондоне он и провел большую часть жизни. Его семья, хотя и не дворянская, по-видимому, имела некоторое влияние, так как с самого начала карьеры Чосер был в тесной связи с двором. В шестнадцать лет он стал пажом жены Лайонела Кларенса (3-го сына Эдуарда III), в девятнадцать – впервые участвовал в походе 1359 года, но имел несчастье попасть в плен и после своего освобождения по договору в Бретиньи больше не принимал участия в военных действиях. По-видимому, он вернулся к службе при дворе; в это время и вышли первые его поэмы, а его покровителем стал Джон Гонт. Семь раз его посылали с дипломатическими поручениями, вероятно, связанными с финансовыми затруднениями короны; три раза эти поручения приводили его в Италию. Он посетил Геную и блестящий двор Висконти в Милане; во Флоренции, где еще жива была память о Данте, «великом учителе», о котором он с таким почтением отзывался в своих стихах, он мог встретиться с Боккаччо; в Падуе, подобно оксфордскому студенту, он мог слышать из уст Петрарки историю Хризеиды.
Он был деятельным практическим человеком: таможенным контролером в 1374 году, контролером мелких сборов в 1382, членом Палаты общин в парламенте в 1386 году, а в 1389—1391 годах он в качестве секретаря королевских работ был занят постройками в Вестминстере, Виндзоре и Тауэре. Единственный сохранившийся портрет изображает его с раздвоенной бородой, в платье темного цвета, с ножом и пеналом за поясом; этот портрет мы можем дополнить несколькими живыми чертами, взятыми у самого Чосера. Хитрое, лукавое лицо, быстрая походка, плотная осанистая фигура выявляли его веселый и насмешливый характер, но люди подсмеивались над его молчаливостью и любовью к книгам. «Ты смотришь, как будто хочешь найти зайца, – замечает трактирщик в «Кентерберийских рассказах», – и даже я вижу, ты впиваешься взором в землю». Он мало слушал разговоры своих соседей, когда заканчивались служебные дела. «Ты тотчас идешь к себе домой и немой, как камень, сидишь за книгой, пока совсем не потемнеет в глазах, и живешь ты отшельником, хотя, – прибавляет он лукаво, – ты не очень воздержан».

Рис. Джефри Чосер.
Но в его стихах незаметно следов невнимания к своим собратьям. Никогда поэзия не носила более человечного характера; никто не относился так свободно и весело к читателю. Первые звуки песни Чосера – звуки свежести и веселья, и впечатление радости остается таким же свежим и теперь, несколько веков спустя. Историческое значение поэзии Чосера сразу бросается в глаза: она резко противоречит той поэтической литературе, из глубины которой вышла. Длинные французские романы были продуктом века богатства и довольства, праздного любопытства, мечтательного, поглощенного собой чувства. Из великих стремлений, придававших жизнь средним векам, религиозный энтузиазм выродился в жеманные фантазии культа Мадонны, а военный – в рыцарские сумасбродства.
Любовь, однако, осталась, и только она давала темы трубадурам и труверам; но это была любовь утонченная, с романтическими безрассудствами, схоластическими рассуждениями и чувственными наслаждениями, – скорее забава, чем страсть. Природе приходилось отражать веселую беспечность человека: песнь трубадура воспевала вечный май, трава всюду зеленела, с поля и из кустов раздавались песни жаворонка и соловья. Поэзия упорно избегала всего, что в жизни человека есть серьезного, нравственного, наводящего на размышление; жизнь представлялась слишком забавной, чтобы быть серьезной, слишком пикантной и сентиментальной, слишком полной интереса, веселья и болтовни. Это был век болтовни: «Нет ничего приятного, – говорил трактирщик, в том, чтобы ехать по дороге немым, точно камень».
Трувер стремился просто к тому, чтобы быть самым приятным рассказчиком своего времени. Его романы и поэмы полны красок, фантазии, бесконечных подробностей; поэт относился с горделивым равнодушием к самой их растянутости, к мелочности описания внешних предметов, неопределенности очертаний, когда заходила речь о тонкостях внутреннего мира. С этой литературой Чосер познакомился сначала, ей он и следовал в своих ранних произведениях.
Но со времени поездок в Милан и Геную симпатии влекли его не к умирающей поэзии Франции, а к пышно расцветающей вновь поэзии Италии. Орел Данте взирал на него с солнца. «Франческо Петрарка, увенчанный лаврами поэт», – для него один из тех, «чья риторическая сладость осветила всю Италию поэзией». «Троил и Хризеида» Чосера представляет собой распространенный английский пересказ «Филострата» Боккаччо; рассказ рыцаря носит на себе легкие следы влияния «Тезеиды». Саму форму «Кентерберийских рассказов» подсказал Чосеру «Декамерон». Но даже изменяя под влиянием итальянцев форму английской поэзии, Чосер сохранял свой почерк.
Посмеиваясь в стихах о сэре Топазе над томительной пустотой французского романа, он сохранил все заслуживавшие внимания особенности французского характера: быстроту и легкость движений, свет и блеск описаний, живую насмешливость, веселость и добродушие, холодную рассудительность и самообладание. Французское остроумие более, чем у какого-либо другого английского писателя, оживляет тяжелый смысл и резкость народного характера, умеряет его эксцентричность, облегчает его несколько тяжеловесную мораль. С другой стороны, отражая веселую беззаботность итальянской повести, поэт умерял ее английской серьезностью, а так как он следовал Боккаччо, то все изменения направлены в сторону скромности. «Троил» флорентийца заканчивается старой насмешкой над изменчивостью женщины, а Чосер приглашал нас «воззреть на Бога» и распространялся о неизменности Неба.
Но что бы ни заимствовал Чосер из обеих литератур, его гений был глубоко английским, а с 1384 года все следы иноземного влияния исчезают. Его главное произведение, «Кентерберийские рассказы», было начато после его первых поездок в Италию, а лучшие произведения написаны между 1384 и 1391 годами. В последние десять лет своей жизни он прибавил к ним немного творений; силы его слабели, и в 1400 году он успокоился от трудов в своем последнем жилище, в саду часовни Святой Марии в Вестминстере. Сюжет этой поэмы – путешествие на богомолье из Лондона в Кентербери – не только давал автору возможность связать в одно целое ряд стихов, написанных в разное время, но и удивительно соответствовал главным особенностям его поэтического таланта, драматической гибкости и широте увлечений.
Его рассказы охватывают все области средневековой поэзии: церковная легенда, рыцарский роман, чудесный рассказ путешественника, широкий юмор «фабльо», аллегория и басня. Еще более широкий простор для своего таланта он находил в личностях, передающих эти истории, – тридцати богомольцах, отправляющихся в майское утро от гостиницы «Табарды» в Саутуорке и представляющих собой тридцать образов из всех классов английского общества, от дворянина до пахаря. Мы видим «благородного рыцаря» в военном плаще и кольчуге, за ним – кудрявого оруженосца, свежего, как майское утро, а позади них – смуглолицего крестьянина в зеленом кафтане и шапочке, с прекрасным луком в руке. Группа церковников представляет средневековую церковь: смуглый монах, любитель охоты, у которого узда звенит так же громко и ясно, как церковный колокольчик; распутный нищенствующий монах – первый попрошайка и арфист во всем графстве; бедный священник, оборванный, ученый и набожный («он возвещал учение Христа и двенадцати апостолов и сам первый следовал ему»); церковный пристав с огненным взглядом; продавец индульгенций с сумкой, «до верху полной отпущений, привезенных из Рима совсем горячими»; веселая игуменья с ее придворной французской картавостью, мягкими розоватыми губками и девизом «Любовь побеждает все», вырезанным на брошке.
Наука представлена здесь солидной фигурой доктора медицины, озабоченного чумой; делового судебного пристава, «который всегда казался более занятым, чем был»; оксфордского студента со впалыми щеками, у которого любовь к книгам и резкие приговоры заслоняют скрытую нежность, прорывающуюся, наконец, в истории Гризельды. Вокруг них масса типов английской промышленности: купец, помещик, у которого в доме «еды и питья, сколько снегу зимой», моряк —прямо от битв в Ла-Манше, веселая мещанка из Бата, широкоплечий мельник, мелочный торговец, плотник, ткач, красильщик, обойщик, – каждый в кафтане своего цеха, и наконец – честный пахарь, готовый для бедняка даром косить и пахать.
В первый раз в английской поэзии мы встречаем не характеры, аллегории или воспоминания прошлого, а живых людей, различных по характеру и чувствам, а также по наружности, костюму и способу выражения; это отличие поддерживается в течение всей истории тысячей оттенков в речах и поступках. Впервые также встречаем мы драматический талант, который не только создал каждый характер, но и скомбинировал его с подобными, который не только приспособил каждый рассказ или шутку к характеру персонажа, их произносящего, но и свел все это в одно поэтическое целое. Здесь нас окружает жизнь с ее широтой, разнообразием и сложностью. Правда, от некоторых из этих стихов, написанных, без сомнения, в более раннее время, веет скукой старого романа или педантизмом схоластики; но в целом поэма – произведение не литератора, а человека дела. Свое воспитание, не книжное, а житейское, Чосер получил на войне, в судах, на работе, в путешествиях, и он любил жизнь – тонкость чувства, широту иронии, смех и слезы, нежность Гризельды или смехотворные приключения мельника и клерков. Эта сердечная широта, эта бесконечная терпимость позволяли ему изображать человека так, как не изображал его никто, кроме Шекспира, описывать его так живо, с тонким пониманием и добродушным юмором, которых не превзошел сам Шекспир.
Странно, что такой голос не нашел отзвука у последующих певцов, но первые звуки английской песни замерли вместе с Чосером так же внезапно и надолго, как надежды и слава его века. Столетие, последовавшее за мимолетным блеском Кресси и «Кентерберийских рассказов», время глубочайшего мрака; в истории Англии нет эпохи более печальной и мрачной, чем период между правлением Эдуарда III и подвигами Жанны д’Арк. Трепет надежды и славы, охвативший в начале его все классы общества, в конце превратился в бездействие или отчаяние. В материальном отношении жизнь, правда, развивалась, расширялась торговля, но это не имело ничего общего с благородными началами национального благополучия. Города снова стали замкнутыми олигархиями; крепостные, стремившиеся к свободе, снова попали в зависимость, еще тяготевшую над землей. Литература снизошла до наинизшего уровня. Религиозное возрождение лоллардов было потоплено в крови, а духовенство превратилось в эгоистичное и корыстолюбивое жречество. В шуме междоусобиц политическая свобода почти исчезла, и век, начавшийся «добрым парламентом», кончил деспотизмом Тюдоров.
Объяснения этих перемен следует искать в роковой войне, которая в течение более ста лет истощала силы и извращала характер английского народа. Мы проследили борьбу с Шотландией до ее неудачного конца, но еще прежде она вовлекла Англию в новую войну, к которой мы должны теперь вернуться и которая оказалась еще более разорительной, чем война, начатая Эдуардом I. Из войны с Шотландией вытекала столетняя борьба с Францией. С самого начала Франция следила за успехами своей соперницы на севере частью из естественной зависти, но еще более – в надежде воспользоваться этим как предлогом для приобретения крупных герцогств на юге – Гиени и Гаскони, – единственного остатка из наследства Элеоноры, еще сохраненного ее потомками. Едва Шотландия начала сопротивляться притязаниям своего сюзерена Эдуарда I, как Франция нашла предлог к явной ссоре в соперничестве моряков Нормандии и «Пяти портов», которое в то время привело к большому морскому сражению, стоившему жизни восьми тысячам французам.
Эдуарду I так хотелось предупредить ссору с Францией, что его угрозы вызвали со стороны английских моряков характерный ответ. «Да будет хорошо известно Совету короля, – гласило их послание, – что если нам каким-нибудь образом будут причинены, вопреки справедливости, обида или вред, мы скорее покинем своих жен, детей и все имущество и пойдем искать на морях такое место, где нам можно будет рассчитывать на выгоду». Поэтому, несмотря на усилия Эдуарда I, спор продолжался, и Филипп IV воспользовался случаем, чтобы вызвать короля к себе на суд в Париж для ответа за обиды, причиненные ему как сюзерену. Эдуард I снова попытался предупредить столкновение, формально передав на сорок дней Гиень в руки Филиппа IV, но отказ последнего вернуть ее по истечении срока не оставил ему никакого выбора.
В то же время отказ баронов Шотландии явиться по призыву короля в английское войско и возмущение Баллиола показали, что захват герцогств был только первой частью давно задуманного плана атаки. Сначала у Эдуарда не хватало сил для нападения на Францию, а когда первое завоевание Шотландии развязало ему руки, его союз с Фландрией для возвращения Гиени оказался беспомощным из-за его спора с баронами. Перемирие с Филиппом позволило ему обратиться против новых смут на севере, но даже после победы при Фалкирке угрозы Франции и вмешательство ее союзника, папы Бонифация VIII, еще на шесть лет сохранили независимость Шотландии, и только ссора этих двух союзников позволила Эдуарду I закончить подчинение страны. Восстание Брюса снова поддержала Франция и возобновила старый спор из-за Гиени, – спор, мешавший Англии во время царствования Эдуарда II и косвенно повлиявший на его ужасное падение.
Вступление Эдуарда III на престол привело к временному миру, но новое нападение на Шотландию, ознаменовавшее начало его царствования, снова возбудило вражду: молодой король Давид нашел себе убежище во Франции, и для его поддержки из ее гаваней стали присылать оружие, деньги и людей. Это вмешательство Франции разрушило надежды Эдуарда III на подчинение Шотландии именно тогда, когда успех казался уже обеспеченным. Торжественное заявление Филиппа IV Валуа о том, что трактаты (договоры) обязывают его оказывать деятельную помощь своему старому союзнику, и сбор французского флота в Ла-Манше отвлекли силы Эдуарда III с севера на юг, где уже нельзя было предупредить столкновение переговорами.
С самого начала война захватила и другие государства. Слабость Империи и пленение пап в Авиньоне оставили Францию среди держав Европы без соперников. По численности и богатству население Франции далеко превосходило своих соседей за Ла-Маншем. Англия едва могла насчитать четыре миллиона жителей, Франция хвалилась двенадцатью. Эдуард III мог иметь только восемь тысяч всадников; Филипп VI мог явиться во главе сорока тысяч, хотя третья часть его войска была занята в другом месте. Вся энергия Эдуарда III была направлена на создание против Франции коалиции держав; его планам помогал страх, который ближайшим князьям Германии внушали завоевательные стремления Франции, а также ссора императора с папой Римским.
Предвосхищая позднейшую политику Годольфина и Питта, Эдуард III стал казначеем бедных князей Германии; его субсидии предоставили ему помощь Геннегау, Гельдерна и Юлиха; шестьдесят тысяч крон достались герцогу Брабанта; самого императора обещание трех тысяч золотых флоринов побудило выставить две тысячи всадников. Однако переговоры и щедрые подачки принесли Эдуарду III мало пользы, кроме титула наместника империи на левом берегу Рейна: то отступал император, то отказывались идти союзники, а когда войско перешло, наконец, границу, оказалось невозможным вызвать на сражение короля Франции. Расчеты на союз с империей не оправдались, но у Эдуарда III появилась новая надежда. Его естественной союзницей была Фландрия.
Англия была на Западе главным производителем шерсти, но шерстяных тканей в ней вырабатывалось немного. Число цехов ткачей показывает, правда, что этот промысел постепенно расширялся, и в самом начале своего царствования Эдуард III принял меры для его поддержания. Он пригласил фламандских ткачей поселиться в Англии и принял под свое покровительство новых поселенцев, которые выбрали своим местопребыванием восточные графства. Но английские мануфактуры еще переживали период детства, и девять десятых английской шерсти шло для станков Брюгге или Гента. О быстром росте этого вывоза свидетельствует, что король от пошлин с одной шерсти получал в год более 30 тысяч фунтов. Прекращение ее вывоза лишило бы работы половину населения главных городов Фландрии; но не только интересы промышленности привлекали ее к союзу с Англией, но и демократичный дух городов, резко сталкивавшихся с феодалами Франции.