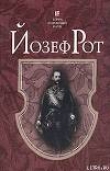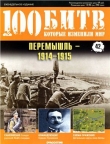Текст книги "Австрийский моряк (ЛП)"
Автор книги: Джон Биггинс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Совместный перевод Александра Яковлева ( http://csforester.ru ) и группы «Исторический роман» ( https://vk.com/translators_historicalnovel ), 2017 год.
Над переводом работали: Александр Яковлев, victoria_vn, gojungle, nvs1408 и Oigene .
Поддержите нас: подписывайтесь на нас В Контакте!
Эта книга посвящается всем тем, чьи истории никогда не были рассказаны
Образованная в 1867 году Австро-Венгерская империя представляла собой объединение двух почти независимых государств под скипетром одного монарха, императора Австрийского и короля Венгерского, из которых титул последнего имел только номинальный статус. Остальная часть монархии расплывчато обозначалась под именем «Австрии» – своего рода умозрительное сокращение для скопища провинций, распростершихся не совсем правильным полукругом от Украины до Далмации, до самого конца империи не имевшего официального наименования.
В этой связи в течение пятидесяти одного года практически все учреждения и многие чиновники этого составного государства имели пред своим названием инициалы, обозначающие их принадлежность к той или иной части державы. Совместные австро-венгерские институты обозначались как «императорские и королевские»: «kaiserlich und königlich», или «k.u.k.» для краткости. Те, что относились к австрийской части монархии, именовались «императорско-королевскими»: «kaiserlich-königlich», или просто «k.k.», в дань уважения статусу государя как императора Австрии и короля Богемии. Тем временем чисто венгерские ведомства назывались «королевскими венгерскими»: «königlich ungarisch» («k.u.») или “kiraly magyar” (“k.m.”).
Если читатель найдет эту схему несколько запутанной, то может утешаться тем, что она с равным успехом ставила в тупик и современников.
Австро-венгерский флот следовал принятой на Европейском континенте практике измерять морские расстояния в милях (1 852 м), сухопутные в километрах, боевые дистанции в метрах, а калибр артиллерийских орудий в сантиметрах. Однако он придерживался бытовавшего в Англии до 1914 года обычая отмерять время двенадцатичасовыми интервалами. С 1850 года и далее надводные корабли обозначались как «Seiner Majestäts Schiff» – «S.M.S.». Подводные лодки официально именовались как «Seiner Majestäts Unterseeboot», или “S.M.U.» , но на практике почти всегда сокращались до просто «U», как в кайзеровском германском флоте.
Географические названия
Аббация – Опатия, город в Хорватии на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря.
Адельсберг – Постойна (Словения).
Аграм – Загреб (Хорватия).
Бреслау – Вроцлав (Польша).
Брюнн – Брно (Чехия).
Будуа – Будва (Черногория).
Будвайс – Ческе-Будеёвице (Чехия).
Сансего – Сусак (небольшой песчаный остров в заливе Кварнер. Располагается на севере адриатического побережья Хорватии).
Кастельнуово – Герцег-Нови, город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря.
Каттаро – г. Котор в Черногории, на берегу Которского залива Адриатического моря.
Цериго – остров Китира (Греция).
Цериготто – остров Антикитира (Греция).
Черзо – Црес (остров в Адриатическом море, в северной части Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер).
Комиса – Комижа (Хорватия).
Курцола – остров Корчула (Хорватия).
Дигнано – Воднян (Хорватия).
Дивакка – Дивача (Словения).
Дураццо – Дуррес (Албания).
Фано – остров Отони (Греция).
Фиуме – город Риека в Хорватии, в северной части Далмации, рядом с полуостровом Истрия.
Дженович – Дженовичи (Черногория).
Гравоза – Груж (Хорватия).
Германнштадт – Сибиу (Румыния).
Инкороната – остров Корнат (Хорватия).
Кашау – Кошице (Словакия).
Клаузенбург – Клуж/Коложвар (Румыния)
Кронштадт – Брашов (Румыния).
Лаги – мыс Кеп и Лагит (Албания).
Лагосто – остров Ластово (Хорватия).
Лайбах – Любляна (Словения)
Лейтмеритц – Литомержице, старинный город в Чехии, расположенный в долине Эльбы и Огрже, примерно в семидесяти километрах от Праги.
Лемберг – Львов (Украина).
Лесина – остров Хвар (Хорватия).
Лингетта – мыс Кеп и Гюхеза (Албания).
Лисса – остров Вис (Хорватия).
Луссин-Гранде – Вели-Лошинь (остров в Адриатическом море, в северной части Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер).
Марбург – Марибор (Словения).
Марош – река Муреш (Румыния).
Медолино – Медулин (Хорватия).
Меледа – Молат (остров в Адриатическом море, в центральной части Хорватии, к северо-западу от города Задар).
Мерлера – остров Эрикуса (Греция).
Одерберг – Богумин (Чехия).
Олмуц – Оломоуц (Чехия).
Оппельн – Ополе (Польша).
Пали – мыс Кеп и Палит (Албания).
Паренцо – Пореч (Хорватия).
Паксос – остров Пакси (Греция).
Пилзен – Пльзень (Чехия).
Пола – Пула, город в Хорватии, на западном побережье полуострова Истрия в Адриатическом море.
Порто-Росе – Росе (Черногория).
Пунто д'Остро – мыс Остри Ртич (Хорватия).
Рагуза – Дубровник (Хорватия).
Родони – мыс Кеп и Родонит (Албания).
Сан-Джованни ди Медуа – Шенджин (Албания).
Сан-Педро – Свети-Петар (Хорватия).
Санти-Кваранта – Саранда (Албания).
Сасено – остров Сазани (Албания).
Себенико – Шибеник (Хорватия).
Семани – река Семан (Албания).
Сансего – Сусак (небольшой песчаный остров в заливе Кварнер. Располагается на севере адриатического побережья Хорватии).
Скумбини – река Шкумбини (Албания).
Спалато – Сплит (Хорватия).
Страхниц – Стрхнице (Чехия).
Теодо – Тиват, город в Черногории на берегу Бока-Которского залива Адриатического моря.
Трау – Трогир (Хорватия).
Троппау – Опава (Чехия).
Валона – Влёра (Албания).
Вегила – остров Крк (Хорватия).
Занте – остров Закинф (Греция).
Зара – Задар (Хорватия).
Зенгг – Сень (Хорватия).
Глава первая
Зачем я вам все это рассказываю
Плас-Гейрлвид, Пенгадог
(недалеко от Ллангвинида, Западный Гламорган),
сентябрь 1986 г.
Полагаю, многие из моих слушателей склонятся к такому мнению: раз уж человек сто один год ждал, прежде чем поведать свою историю потомкам, так это потому, что ему и рассказать-то нечего. Боюсь однако, что к моему случаю это отношения не имеет. Поймите, пожалуйста, что я сижу здесь и диктую в эту маленькую машинку не только ради себя, но и ради вас тоже. Надеюсь, естественно, что эта моя болтовня имеет определенную историческую ценность, а быть может, способна развлечь вас, и даже позабавить. Но главное, к чему стремлюсь я, делая эту запись, так это попробовать самому все осознать. Провести, если угодно, последнюю сверку счетов, прежде чем мое затянувшееся плавание закончится, и меня отбуксируют к месту последней стоянки.
Думаю, времени у меня осталось не слишком много. Подобное утверждение вряд ли стоит называть откровением, когда слышишь его из уст человека, отпраздновавшего полгода назад свой сотый день рождения. Но дело в том, что призраки роятся вокруг меня денно и нощно в эти последние месяцы, начиная с момента появления этого альбома и моего приезда сюда, в место, название которого я не стану даже пытаться произнести. Впрочем нет, «призраки» – не совсем правильное определение. Нет ничего зловещего или угрожающего в этих неожиданных, ярких и совершенно непредсказуемых визитах, которые совершают события и люди семидесятилетней давности в мой сегодняшний мир. Совсем наоборот, теперь, когда я привык к ним, они приносят мне ощущение своеобразного покоя. Нельзя назвать их также неощутимыми и смутными – на деле они кажутся куда более реальными чем события, происходившие пару минут назад. Или по крайней мере то, что сходит за события в доме престарелых, полном жалких эмигрантов из Центральной Европы. Являются призраки мне, или это я являюсь им? А может, они находились здесь всегда? Честное слово, не берусь сказать. Знаю только, что время распалось на части: по мере того, как я дрейфую в вечность, день и ночь, прошлое и настоящее смешиваются, будто карточная колода.
Вчера ночью была гроза с теми могучими, сварливыми раскатами грома, которые прокатываются над облаками. Я лежал, полуспя-полубодрствуя, как будете дремать и вы, если доживете до моих жутко дряхлых лет. А потом вдруг, незнамо почему, я снова очутился на борту U-26 тем утром – где-то в мае 1917 года, когда английские эсминцы засыпали нас глубинными бомбами у Мальты. Это не был сон, уверяю вас. Я снова находился в тесной, душной рубке. Мы петляли, ныряли и путали следы в этих непроглядных зеленоватых сумерках, и подпрыгивали как лягушки в ведре всякий раз, когда от мозгодробительного разрыва меркли электрические лампы, а хлопья белой краски сыпались с переборок. Нет, это не был сон. Все были точно такими же, как в то утро. Вот мой старпом Бела Месарош – на лбу застыли капли пота, а пальцы, которыми он цепляется за край штурманского стола, побелели от напряжения. Вот рулевой, черногорец Григорович – высокий и бесстрастный как всегда, с яйцевидной формы лицом и нафабренными усиками. Он вжимается в кресло, установленное за рулевым колесом и картушкой гирокомпаса, и репетует мои команды с таким спокойствием, будто управляет паровой пинассой во время регаты в гавани Полы. Вот только до меня доносится его едва слышное бормотание: «Пресвятая Богородица, смилуйся… Право десять, герр коммандант… Вступись за нас грешных… (Ба-бах!) … теперь и в час кончины нашей…».
Что же, даже будучи скептиком по жизни, я вынужден признать, что вмешательство Пресвятой Девы очень пригодилось нам тем утром. Мы выжили тогда, чтобы умереть в какой-то другой день. Подозреваю, что все мои товарищи уже мертвы сейчас. Упокоились много лет тому назад, все, за исключением меня, человека, которому тогда был тридцать один год и которого они звали «der Alte» – «старик».
Однако непростительно разглагольствовать вот так, даже не представившись. Извольте: Оттокар Ойген Прохазка, рыцарь фон Штрахниц, бывший капитан-лейтенант императорского и королевского флота Австро-Венгрии, бывший командующий чехословацкой Дунайской флотилией, бывший адмиралиссимус республики Парагвай, коммодор польских ВМС и чрезвычайный атташе при польском и чехословацком правительствах в изгнании, кавалер рыцарского креста Военного ордена Марии-Терезии, золотых и серебряных Знаков отличия, рыцарского креста ордена Леопольда, ордена Железной короны первого класса, креста Военной службы с лаврами, немецкого Железного креста первого класса, оттоманского ордена Лиакат с перекрещенными саблями, ордена Полония Реститута, серебряного знака Виртути Милитари, ордена Белого Льва, парагвайского Золотого Армадилла с золотыми лучами и ордена за Выдающуюся службу с планкой.
Но если вы не сочтете за труд стряхнуть поблекший титул и соскрести позолоту с побрякушек, как слои старой краски и ржавчины со старой двери, то увидите перед собой просто Отто Прохазку – так меня звали в годы австрийской службы. Либо, если вам так предпочтительнее, Оттокара Прохазку, чешского крестьянина с тем угловатым лицом, что каждое утро смотрит на меня из зеркала. Лицо морщинистого богемского старика с острыми скулами и щетинистыми седыми усами, точь-в-точь такое, какое было у моего деда и всех предыдущих сорока с лишним поколений Прохазок, ходивших за запряженных волами плугом в деревушке Штрахниц, что в округе Колин, километрах примерно в шестидесяти к востоку от Праги. Предки наградили нас долгим веком. Мой дед прожил до девяноста семи лет, а отец, начальник почт и телеграфа в императорско-королевском округе, разменял бы, вполне возможно, и век, кабы не угодил под поезд.
Что до меня, то свой сотый день рождения я отметил в апреле. Мне не пришла обычная в таких случаях телеграмма от вашей королевы. Только не подумайте, что я жалуюсь. Насколько мне известно, поздравительную телеграмму надо заказать, и мать-настоятельница писала на этот счет в Букингемский дворец. Секретарь Ее Величества был исключительно вежлив, но ответил, что необходимо следовать определенным правилам, и затребовал в качестве доказательства свидетельство о рождении. Ну а кто ж скажет, где искать мое свидетельство о рождении? Быть может, гниет оно в каком-нибудь подвале в Праге, Брно или Вене. А скорее всего, сожжено и развеяно по ветру в сорок пятом. Нет, я более чем благодарен королеве Елизавете за то, что она и ее отец выделили престарелому беженцу без гроша в кармане местечко, где ему в течение последних сорока лет удалось дать покой своим дряхлым костям. А ведь с какой стати королеве заботиться обо мне? Я родился подданным императора Франца-Иосифа, и служил двенадцати разным государствам, не принося им присяги. Нет, единственную свою клятву верности я произнес в бытность розовощеким юным зеефенрихом тем утром на шкафуте старого «Бабенбурга», когда дал присягу всю жизнь служить императору и династии, и в первый раз застегнул черно-желтый шелковый пояс с кортиком, словно монахиня, принимающая клобук. С тех пор для меня все было едино: Австро-Венгрия, Чехословакия, Парагвай, Польша, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, империи, народные республики и тысячелетние рейхи. Все они были иллюзорны как дым и мимолетны как град, что налетает августовским вечером – тот грозный центральноевропейский град, что колет черепицу, убивает животных и уничтожает гектары посевов в полях, но тает прямо на глазах, стоит солнцу выглянуть из-за тучи.
Так уж вбивали в голову нам, кадетам императорской и королевской военно-морской академии в Фиуме: «Тот, кто одевает мундир габсбургского офицера, откладывает в сторону свою национальность». Вот только ни я, ни собратья-офицеры моего поколения не ожидали, что придет день, когда этот мундир грубо сорвут с нас, и нам придется вспомнить о национальной одежке. Если удастся, конечно. Многие обнаружили, что она не слишком идет их фигуре мужчины среднего возраста. Что до меня, то я так не смог подобрать себе подходящей. В последние тридцать пять лет, с тех пор как поляки забрали мой паспорт, а чешский режим приговорил к смерти заочно, я был человеком без родины, и могу заявить, что мне любое гражданство без разницы. Вот ведь ирония судьбы, если подумать: человек без отчизны, не знающий собственного имени, родившийся в городе без названия и приехавший умирать в место, наименование которого не способен даже произнести. Когда молодой доктор Уоткинс осматривал меня пару недель назад, я спросил, не может ли он выписать мне свидетельство о смерти заблаговременно, чтобы имелся хоть какой-нибудь документ, подтверждающий факт моего существования. Врач улыбнулся уклончиво и сделал вид, что не слышал.
***
Однако, мы отвлеклись от задачи, которая заключается в том, чтобы рассказать вам, почему я решил надиктовать свои воспоминания. Думаю, начать стоит с сестры Элизабет, или Эльжбеты, если величать ее принятым на службе польским титулом. В монастырь в Илинге она приехала в середине прошлого года, будучи откомандирована из своей родной обители Сестер Вечного Поклонения, располагающегося в местечке Тарнов в южной Польше. Я отлично помню этот скучный городок, потому как поблизости от него жили мои двоюродные братья. Ну, я ничего дурного не хочу сказать в адрес сестер – монахини приютили меня, не потребовав ни гроша, десять лет назад, когда моя жена умерла, и обо мне некому стало заботиться. Все эти годы они были добры ко мне насколько возможно, с учетом того, что им приходится заботиться о добрых девяти десятках престарелых, больных и сварливых беженцев из Польши. Если честно, мне даже неудобно, что я так зажился на свете и бессовестно злоупотребляю гостеприимством сестер. Все они очень добры и милы со мной. Но при всем том я оставался очень одинок, и то были трудные годы для меня. Во-первых, будучи вроде как чехом, я оказался отделен некоей дистанцией от «чистых этнических поляков», моих сожителей (я стараюсь не называть их «сокамерниками») по обители. Мать моя была полька, я говорю по-польски чище многих из них, а моя служба польскому государству говорит, как мне кажется, сама за себя. И все же между мной и ними всегда существовали и продолжают существовать некие отстраненность и напряжение. Причина и в возрасте, поскольку теперь я «самый старший наш постоялец». Так обращается ко мне мать-настоятельница: «И как поживает этим утром самый старший наш постоялец?» – как будто я за ночь свое имя забыл! Я теперь на девять лет старше следующего по дряхлости обитателя приюта, мистера Войцеховски, совершенно чокнутого, и на тридцать восемь лет самой зрелой из сестер. Возможно, все было бы проще, превратись мои мозги в суп, но боюсь, мой ум остается таким же острым. Вот только ему катастрофических не хватало пищи в последние два года, поскольку катаракта почти не дает мне читать.
Но сестра Элизабет совсем не похожа на остальных. Надо честно признать, внешность у нее непритязательная: маленькая женщина-мышка в очках из проволочной оправы и со ртом, полным железных зубов взамен потерянных от цинги и побоев в советском трудовом лагере в сороковом году. Но для меня она как родник чистой воды, обретенный после десяти лет скитаний по камням и пустыне. Она говорит со мной о вещах, которые известны и понятны нам обоим, и обращается со мной как с разумным существом, а не как с почти умалишенным. А еще с ней весело – это прирожденный анархист, наделенный убийственным талантом подражания и относящийся с очаровательной непочтительностью к церкви и прочим поставщикам истины в первой инстанции. Насколько понимаю, ее отец занимал важную гражданскую должность в императорском и королевском министерстве образования, отвечая за средние школы во всей австрийской Польше – регирунгсрат, не меньше. Элизабет родилась в 1924 году в бывшей провинциальной столице Лемберге, переименованном ныне в Львов. Но хотя родным ее языком был польский, сестра привыкла думать о себе как о слуге сгинувшей ныне династии и ее развеянных по миру подданных. Иными словами, она дочь Старой Австрии, не затрудняющая себя вещами столь вульгарными, как национальность. Элизабет рассказывала, что одним из первых ее воспоминаний было как отец баюкает дочь, напевая «Gott Erhalte» Гайдна – чудесный старинный имперский гимн, имеющий версии на всех одиннадцати официальных языках монархии. Монахини очень заняты на кухне, но все же Элизабет находит время посидеть со мной и потолковать о местах, которые мы оба знали, о людях, которые там жили до того как грянул потоп и смел всех.
Именно сестра Элизабет одним прекрасным утром в начале мая, когда зацветают лаймовые деревья вдоль Иддесли-роуд, а железные пташки из Хитроу начинают громыхать над головой каждые три минуты, вернула мне тот альбом. Этот был день накануне моего отъезда сюда, в Южный Уэльс. Я сидел в своей комнате и смотрел как сестра Анунция пакует мой чемодан, и давит коленом на крышку, чтобы застегнуть замки. Работая, она бросала мне фразы поверх плеча в тоне, каким разговаривают с кошкой или страдающим крайней степенью дебилизма, в любом случае, с тем, от кого не ожидают ответа, да и не рассчитывают всерьез быть понятыми. Сестра рассказывала, как понравятся мне каникулы в Плас-Гейрлвиде.
– Честное слово, там, у моря, так замечательно! – щебетала она. – Пляж весь из белого песка, длиной в три километра, а волны огромные и день напролет разбиваются о берег. Вам там понравится – почти также мило, как в Сопоте.
Я собирался уже было поинтересоваться, не разрешат ли мне походить на веслах, но давно убедился, что чувство юмора совершенно не свойственно монахиням, но тут сквозь полуоткрытую дверь в комнату проникла своей слегка развалистой, бесшумной походкой сестра Элизабет. В руках у нее я заметил предмет, завернутый в пакет из магазина «Сейнсбери», а на лице ясно читались возбуждение и таинственность. Ее глаза за толстыми круглыми линзами улыбнулись, а раздвинувшиеся губы позволили полюбоваться на кошмар дантиста.
– Ах, Эльжбета, это ты? За покупками ходила, да? – спросила Анунция, но ответа дожидаться не стала. – Не присмотришь ли за старым хрычом пять минут, а то мне надо сбегать до прачечной?
Это как будто я, человек, способный читать газеты и вовсе не страдающий дряхлостью или маразмом, за двадцать секунд без присмотра залезу в розетку или захлебнусь в тазу! Когда торопливые шаги Анунции по застеленному линолеумом коридору стихли, сестра Элизабет аккуратно закрыла дверь и подошла к моему креслу.
– Вот, поглядите, что я вам принесла, – сказала она. – Наткнулась на эту вещь в лавке старьевщика на Хэнвел-Бродвей, и решила, что вам может быть интересно.
Порывшись в шуршащем полиэтиленовом пакете, монахиня извлекла большую толстую книгу в багровом муаровом переплете, сильно потрепанную. Она положила ее на стол передо мной и, отступив в сторону, стала наблюдать с видом человека, который поднес спичку к запалу старой петарды без ярлычка и ждет, что будет дальше: вылетит ли сноп синих и оранжевых искр, произойдет взрыв или просто раздастся тихий пшик.
– Спасибо, сестра Элизабет, – ответил я. – Вы слишком добры ко мне. Понятия не имею, что это такое. Не будете ли любезны передать мне очки с тумбочки у кровати?
Нацепив на нос очки, я принялся исследовать лежавший передо мной том.
Это явно был какой-то альбом: тяжелая книженция с уголками из потрепанного сафьяна и поломанным корешком. У меня представления не было, что это такое. Но едва коснувшись книги я, сам не знаю почему, ощутил вдруг волнующий сигнал: эта вещь была знакома мне раньше. Я более внимательно осмотрел книгу и заметил в нижнем левом углу передней обложки круглый вдавленный оттиск с изображением двуглавого орла в окружении надписи: K.K. HOFRAT J. STROSS-MAYER. FOTOGRAF. WIEN 7. MARIAHILFERSTRASSE 23. Когда я стал открывать книгу, руки мои задрожали, а в ушах раздался пронзительный звон. Потом взгляд мой упал на первую страницу, и мозг беспомощно затрепыхался, пытаясь примириться с тем, что перед ним.
Сомнений не было. Фотография была на некачественной, военного времени бумаге, уже потемнела и слегка искрошилась по краям. Но сомнений не оставалось: на фото был я, шестьюдесятью семью годами моложе; я стоял, опираясь на орудие, на баке идущей по морю подводной лодки, в окружении смеющихся парней, предъявляющих для проверки крашенное яйцо. Понизу шла надпись, сделанная моим собственным, некогда твердым почерком по-немецки: «U-26, Пасха 1918 г, 23 мили WNW от Бенгази».
Здесь были все, захваченные на миг, минувший вечность назад: я в морских сапогах и потрепанном сером армейском мундире с тремя нашивками линиеншиффслейтенанта на рукаве, вырезанными собственными руками из парусины; остальные в привычной для австрийских подводников смеси морской формы с облачением рыбака-далматинца; двое впередсмотрящих на рубке – Прерадович и Сувличка, если не ошибаюсь – осматривают горизонт через бинокли; наш рулевой, штейерквартермейстер Алоиз Пацак стоит за штурвалом управления в надводном положении и сурово смотрит вдаль, как подобает человеку, не имеющего времени на всякие там неуставные шалости.
Возможно, вы способны представить, какой был для меня удар оказаться лицом к лицу с самим собой, но без малого семьюдесятью годами моложе, смотрящим со страниц фотоальбома, который я в последний раз видел в своей квартире в румынском порту Браилов в 1922 году. На время я лишился дара речи, и решив, что этот маленький подарок меня-таки прикончил, сестра Элизабет вылетела в тревоге из комнаты, и вернулась через минуту со стаканчиком для вставных челюстей, полном воды с добавлением выпрошенного у дежурной поварихи спирта. Напиток вывел меня из ступора – главным образом по причине того, что я терпеть не могу водки. Но с возвращением чувств, воспоминания нахлынули с такой силой, будто во мне рухнула плотина. Плотина столь древняя, что все уже забыли о существовании за ней затянутого ряской озера.
Сейчас, пока я обращаюсь к вам, альбом лежит передо мной на столе, раскрытый именно на той фотографии. Да, все мы тут: здоровые, жизнерадостные парни в самом расцвете молодости, погожим весенним утром у берегов Африки, моряки империи, уже бредущей из последних сил к собственной могиле. Однако это фото обладает для меня не только сентиментальной или документальной ценностью, ведь оно едва не прикончило нас. Не прошло и пяти секунд как щелкнул затвор, как раздался крик впередсмотрящего по левому борту. Он заметил след торпеды, выпущенной по нам из находящейся в подводном положении субмарины, незаметно наблюдавшей за нами в течение доброго часа. К счастью, Пацак не растерялся и, не дожидаясь приказа, резко переложил руль, поэтому торпеда прошелестела у нас за кормой, пройдя буквально в паре метров. Но поздравлять друг друга было некогда: мы горохом посыпались в люк, совершив рекордное по срокам погружение, а разойдясь по местам, бросились на поиски нашего обидчика с целью вернуть должок. Однако, прорыскав с час зигзагами на перископной глубине, и не заметив даже следа противника, мы всплыли и легли на прежний курс. Враг попытался убить нас, мы, выпади шанс, поступили бы также, и что тут скажешь, кроме сдержанной записи в бортовом журнале: «9.27, 32? 24?сев. широты, 19? 01?; одиночная торпеда, выпущенная с неизвестной субмарины. Промах». Мы в очередной раз выжили, чтобы, быть может, подорваться полчаса спустя на дрейфующей мине. Кто мог за что-либо поручиться в те дни?
Глядя на эту группу смеющихся молодых людей, я ловлю себя на мысли, как всегда мало мне хотелось знать будущее. Неосведомленность о нем всегда казалась мне одним из немногочисленных анестетиков, дарованных Провидением нам, смертным. Бедняга Пацак, смотрящийся таким сильным и уверенным на своем посту в рубке – откуда мог он знать, что жить ему осталось не больше недели? А вот в задних рядах, с широкой улыбкой, в рубашке с коротким рукавом и рыбацкой шерстяной шапочке, стоит мой третий помощник, фрегаттенлейтенант Франц Ксавье Бодрен де ла Ривьер, граф д’Эрменонвиль, и пребывает в блаженном неведении о гестаповском застенке и проволочной петле, ожидающих его через четверть века. На самом деле, перелистывая истрепанные по углам страницы альбома, я не могу не думать об удивительной прихотливости судьбы: опустошен целый континент, погибли десятки миллионов людей, а этот жалкий клочок картона уцелел. И не просто уцелел, но приплыл, посредством неведомо каких течений и водоворотов, спустя шестьдесят с лишним лет, обратно в руки первоначальному владельцу. Разумеется, на следующий день сестра Элизабет снова посетила ту лавочку, но хозяин немногое помнил о том, как альбом попал к нему в руки. Он сказал, единственно, что недели три назад побывал в Норт-Эктоне с целью вычистить комнату, жильца которой, престарелого русского, украинца и кого-то вроде того, разбил паралич. Нет, он не помнит улицу или дом, только то, что там было полно грязи и мусора, вроде журналов для девочек и пустых бутылок. Единственными ценными предметами оказались старая кавалерийская сабля, которую через неделю купили, да обувная коробка с монетами и открытками. Торговец подумывал выкинуть альбом вместе с прочим мусором, но поразмыслив, выложил в картонной коробке на хромоногий стол перед лавкой, поскольку, как он сказал, не угадаешь, чем могут интересоваться люди в наши дни. Там альбом и лежал, среди выхлопных газов и под летней моросью, пока сестре Элизабет не случилось проходить заглянуть в лавку за паршивой олеографической репродукцией Сердца Христова, которая висит ныне в гостиной приюта.
Прежний владелец оставил в альбоме мало следов, если не считать пары фотографий женщины с резкими чертами лица и прической в стиле конца двадцатых годов, да открытки с видом марсельской гавани, отправленной неким Володей господину Душинскому в Антиб 20 июня 1932 года. В остальном причина, побудившая его приобрести альбом, хранить полсотни лет и тащить с другого конца Европы, остается полнейшей загадкой. Бесспорно, в альбоме есть несколько прекрасных изображений кораблей. Я всегда увлекался фотографией, и захватил одну из ранних моделей «Жуль-Эррио» с собой в первое океанское плавание, в бытность кадетом на «Виндишгреце» в 1901 г.
Ведение дневников в годы войны было, разумеется, запрещено, хотя Австрия есть Австрия, и на предписания там никто не смотрел. Однако мне на альбом было выдано особое разрешение, поскольку Военное министерство собиралось издать книгу под названием «Боевая служба подводной лодки императорского и королевского флота». Книга, естественно, не вышла, но фотографии для нее я сохранил, и не только их, но и немалое количество схем боевых столкновений, выдержек из журнала, записок о позиции и так далее. С четверть картинок выпала и потерялась, место, где они были, отмечали темные пятна на выцветших страницах. Однако их сохранилось достаточно, чтобы приковать меня к альбому на первые две недели пребывания в Уэльсе. Наконец приехала сестра Элизабет и немного отвлекла от потока нахлынувших воспоминаний о давно забытом мире.
Нет, забытом – это не совсем верное слово: я даже теперь, при всей своей телесной немощи, мало что забываю. Память у меня всегда была прекрасная: в бытность кадетом Морской академии я мог слету заучить задачник по навигации или справочник неправильных итальянских глаголов. Нет, дело в том, что за последовавшие за 1918 годы я почти целенаправленно старался не думать о своей восемнадцатилетней службе в исчезнувшем ныне императорском австрийском флоте. Та часть моей жизни никогда не забывалась, просто я скатал ее как ненужный, тронутый молью ковер, и засунул в дальний чердак мозга. Тут нет лукавства с моей стороны: я никогда не отрекался от прошлого, и не пытался, в отличие от иных моих соотечественников, состряпать с полдюжины фальшивых и противоречивых жизненных легенд. Но однажды я, тридцатитрехлетний кадровый морской офицер, оказался в нищей, потерпевшей поражение крошечной стране, у которой не имелось больше не только флота, но и береговой линии, которую необходимо защищать. В отличие от бедного отца сестры Элизабет и тысяч ему подобных, я никогда не верил и не надеялся на возвращение Габсбургов. Насмотревшись на упадок Старой Австрии, возрождение Дуалистической монархии я представлял картиной столь же маловероятной как мумию фараона, отплясывающую польку. Нет, как и десятки тысяч других обладателей черно-желтой портупеи, я старался устроиться как мог в этом жестоком новом мире голода и разрухи. Что было, то прошло, и нет смысла вспоминать о былых подвигах на службе благородной австрийской династии. Особенно в те дни, когда правительственные коридоры в Праге и Белграде заполняли толпы некогда Kaisertreu[1]1
Верноподданных императору (нем.)
[Закрыть] офицеров, каждый из которых размахивал предвоенным полицейским досье (как правило, сфабрикованным), в попытке доказать, что уже тогда был тайным националистом. А годы спустя, в Англии, мне приходилось принимать в расчет чувства второй моей жены, Эдит. В результате атаки подводной лодки в 1916 году она лишилась брата, ходившего третьим механиком на лайнере «Персия». Эдит знала, что я служил в австрийском флоте на субмарине, но была женщиной тактичной и никогда не допытывалась о моей жизни в те годы.