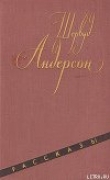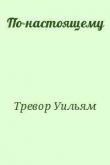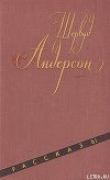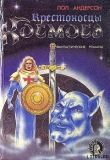Текст книги "Лицедеи"
Автор книги: Джессика Андерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
2
Тед Китчинг проснулся в комнате с грязными розовыми стенами и поблекшими занавесками на окнах, никогда не видевших солнца. За туалетным столиком спиной к нему сидела девушка-вьетнамка, с которой он провел ночь.
Подняв руки, она укладывала и подкалывала длинные волосы. Уже почти час сидела она голая на стуле, дожидаясь, когда Тед проснется, но сейчас старалась не встретиться в зеркале с его глазами и делала вид, что не подозревает о его присутствии. Американцам было трудно произносить ее настоящее имя, поэтому они называли ее Джеки. Позднее из любви к французскому она взяла себе фамилию Тон, а так как, исходя из правил английской фонетики, Тон иногда произносили как Тан, она добавила еще одно «н» и стала Джеки Тонн.
Джеки было двадцать пять лет, но большинство австралийцев и американцев охотно верили, что ей восемнадцать. Подколов волосы, Джеки наклонилась вперед, почти касаясь своего отражения в зеркале. С величайшим вниманием и осторожностью она прикоснулась мизинцем к уголку глаза, будто достала соринку. Потом повернулась на стуле, выпрямила спину в струнку, всунула ноги в туфли на высоких каблуках и встала. Решительным шагом она подошла к стулу, где поверх ее дорогого завлекательного вечернего одеяния лежали трусики и платье, приготовленные на сегодняшний день.
Тед оглядел комнату.
– Будь я проклят, если помню, как здесь оказался.
Джеки не обратила ни малейшего внимания на это глубокомысленное замечание. Натягивая трусики, она нагнулась, показывая Теду, что даже в этой позе ни единой складочки не появляется у нее на талии, а груди остаются неподвижными.
– Джеки! – вдруг вспомнил Тед.
– Да.
Джеки произнесла скорее «дя», пытаясь скрыть американский акцент, выдававший ее возраст, и заодно подчеркнуть, что торопится и ничуть не дорожит обществом Теда. Джеки попала в Сидней потому, что была смешлива и смазлива, но довольно скоро одна китаянка из Малайзии, научившаяся с неприступным видом и суровым взглядом править собственной машиной, объяснила ей, что смешливость и смазливость не приведут ее ровным счетом никуда. А по мнению этой китаянки, место, куда следовало попасть, должно походить на картинку в рекламных объявлениях журналов с глянцевитой обложкой.
– Как твоя фамилия, Джеки? – спросил Тед.
Джеки взяла в руки платье.
– Я тебе вчера сказала, – с полным безразличием ответила Джеки.
– Я забыл.
Джеки накинула платье на голову.
– Тонн, – громко сказала она.
Одно движение гибкого тела, и Джеки оказалась в плотно облегающем платье великолепного покроя холодного темно-синего цвета. Тед посмотрел, как она застегивает пояс, обвел взглядом комнату. Нахмурив брови, он снова взглянул на вечернее платье и лежавшие под стулом серебряные туфли.
– Что ты, черт побери, делаешь в этой берлоге? Или, вернее, что я тут делаю?
– Я жду возможности снять хорошую квартиру, – сказала Джеки. – Приличную квартиру трудно найти.
– Не хватает капиталов, да, Джеки?
Его улыбка заставила Джеки зажать рот рукой, чтобы не прыснуть в ответ, но Тед уже разразился громовым хохотом, повалил Джеки на кровать, и ее смешливость вновь одержала победу.
В полдень Розамонде позвонил Дуглас Мерримен и сообщил, что сегодняшний и, по крайней мере, завтрашний день Теду лучше провести вне пределов досягаемости, даже для Розамонды. Не смущаясь ее молчанием, он сказал, что завтра сам будет отвечать на вопросы, так как лучше Теда умеет разговаривать с репортерами.
– Как будет с телевидением, не знаю. Они, конечно, захотят снять дом и мальчиков. Тед просил не пускать мальчиков в школу, пусть сидят дома. Подходите к телефону, только если раздастся условный звонок. Тед будет звонить так: три звонка, потом еще три.
– Я не люблю бросать трубку, с кем бы я ни разговаривала, – сказала Розамонда. – Даже с вами.
– Вы, дорогая, зря считаете меня злым гением Теда. Моя жена думает то же про вашего мужа.
Розамонда положила трубку. Дома не было никого, кроме нее. Мальчики ушли очень рано, захватив непромокаемые костюмы и доски для серфинга. Забравшись с ногами в кресло, Розамонда полюбовалась на воскресные яхты, обкусала ноготь большого пальца и позвонила матери.
– Мама, я лучше скажу тебе сейчас, потому что завтра ты прочтешь об этом в вечерних газетах.
– Мы не получаем вечерних газет, родная. Я как раз собиралась тебе позвонить. Папе очень нехорошо.
– Ты считаешь, что ему стало хуже?
Грета говорила громко, безжизненным, ломким голосом:
– Началась кома.
– Боже мой! – едва слышно откликнулась Розамонда.
– Вчера он вел себя очень странно. Снял шляпу, швырнул на траву. Потом ему стало лучше, а потом, уже в доме, это случилось.
– Врач был?
– Конечно. Хотя непонятно зачем.
– Как ты сама, мама?
– Я… что ж… жду.
– Папа… он останется дома?
– Он так хотел. Ты знаешь, как он относится к больницам. Позвони, пожалуйста, Гермионе сама.
– Хорошо, – сказала Розамонда, – я тогда не стану ничего тебе рассказывать, это слишком длинный разговор.
– Если ты про Теда, не нервничай, Рози. Тот, кто нажил одно состояние, наживет и другое, а Тед еще молод. Дом вам, наверное, придется продать.
– Мама, – сказала Розамонда, – мне бы не хотелось…
– Пришел врач. Мне надо идти.
Розамонда сжала трубку обеими руками.
– Мама, одну минуту. Я завтра не буду подходить к телефону, если тебе что-нибудь понадобится, звони два раза: три звонка, потом еще три, тогда я сниму трубку.
– Три звонка, потом еще три, – с тупой покорностью повторила Грета. – Хорошо, родная. До свидания, не тревожься.
Розамонда положила трубку и расплакалась; вода в гавани заискрилась серебряными звездами. Розамонда уже давно не смотрела на гавань сквозь слезы, со времен первых ссор с Тедом, когда они еще только поженились и снимали квартиру на берегу Элизабет Бей. Розамонда вытерла глаза и позвонила Гермионе, но у Гермионы никто не ответил, тогда Розамонда позвонила Гарри. Выслушав ее, он вежливо, почти официально, сказал:
– Мне очень жаль, Рози.
– Судя по твоему тону, ты ничуть не удивлен.
– Видишь ли…
– Я одна. Тед скрывается, как в кино, – поторопилась добавить Розамонда, – приходите.
– Мы с Сильвией как раз собрались пойти к маме.
– Но захочет ли мама…
– Мне не понравился ее голос по телефону. Сильвия имеет право… Он умирает, ты знаешь.
– Знаю.
– Сильвия никак не может поверить. Не тоскуй, Рози. Где Мин?
– Я звонила, никто не отвечает.
– Позвони кому-нибудь из подруг.
– Скажи: «Мой муж отъявленный негодяй» – и посмотри, что будет? Одна сумеет этим пренебречь, может быть, две, но как раз их мужья наверняка не сумеют. Инстинкт. Так легче сохранить душевный покой, а заодно дом. Ничего, Гарри. Не беспокойся обо мне. Я сейчас снова позвоню Мин. Да, Гарри, если тебе что-то понадобится, звони два раза: три звонка, потом еще три, тогда я сниму трубку.
Розамонда снова набрала номер Гермионы, к телефону подошел Джейсон.
– Они все поехали смотреть дом, тетя Рози.
– В воскресенье?
– Частная продажа. Простите, тетя Рози, мне надо идти.
– Что случилось?
– Мы играем. Я играю с Николасом Смитом.
– Джейсон, попроси маму позвонить мне, когда она вернется. Скажи, что это важно.
– Хорошо.
– Скажи ей, пусть звонит два раза: три звонка, потом еще три.
В гавани начался шторм, на синевато-сером небе появились фиолетовые облака, по зеленой воде стремительно побежали сверкающие белые барашки. Через несколько минут в комнату с шумом ворвались промокшие возбужденные мальчики.
– Идите и обсушитесь, – сказала Розамонда, – мне нужно с вами поговорить.
– Мы же только переодеться, – сказал Доминик. – Мы идем к Дереку.
– Вы, кажется, хотели узнать о банкротстве отца? Я расскажу вам, когда вы переоденетесь.
Мальчики немедленно примолкли.
– Скажи сейчас, – попросил Доминик.
– Неприятностей нам и так хватит, незачем добавлять к ним еще воспаление легких. Идите и переоденьтесь.
Пока мальчики переодевались, дождь прекратился, ветер унес фиолетовые тучи, небо вновь радостно засияло.
– Так вот, – сказала Розамонда, отпив глоток джина, – некоторые из компаний отца оказались неплатежеспособными, но сам он не обеднел, ему не придется продавать дом.
– Это не имеет значения, – сказал Доминик.
– Если только он не мошенник, – неуверенно проговорил Метью.
– Этот вопрос вы зададите ему сами, когда он вернется.
– А когда он вернется? – спросил Метью.
– Да, и где он все-таки сейчас? – спросил Доминик.
– Его не будет дома ни сегодня, ни завтра. Я не знаю, где он. И еще, отец хочет, чтобы вы завтра не ходили в школу, потому что вас могут изловить репортеры или телевизионщики.
– Я не останусь дома, – заявил Метью. – Если человек не хочет, репортеры не могут заставить его говорить.
– Все-таки, наверное, могут, – неуверенно сказал Доминик.
– Я вас предупредила, – продолжала Розамонда. – Но это не все. Я ухожу от вашего отца. Я вам никогда ничего подобного не говорила, верно? – Доминик и Метью молчали. – Верно? – Они кивнули. – Значит, вы понимаете, что я говорю не просто так. А теперь идите.
Гарри и Сильвия вошли к Корнокам через садовую калитку. Грета сидела в кресле лицом к дому и не заметила их. Сильвия услышала шепот Греты, жестом остановила Гарри и посмотрела на него с немым вопросом.
– … тянулась за угол Пит и Кинг-стрит. Ювелирный магазин, где…
Листья акации вдруг зашелестели и заглушили голос Греты. Гарри сделал шаг вперед.
– Мама?
Грета обернулась и несколько мгновений смотрела на них невидящими глазами. Потом наконец улыбнулась и встала.
– Как Джек, мама? – спросил Гарри.
– Без перемен.
– Сидди с ним?
– Да. – Грета принялась за шитье. – Подшиваю новые кружева к нижней юбке. Сильвия, ты пришла посидеть с отцом? Что ж, иди. Только не отпускай Сидди – вдруг понадобится.
Сильвия вошла к отцу, кивком поздоровалась с Сидди. Он свертывал сигарету.
– Вы не возражаете, если я закурю, мисс?
Сильвию мутило от запаха его немытого тела. Она улыбнулась и сказала, что лучше бы ему покурить в другом месте.
– Я позову вас, Сидди, если что-нибудь понадобится.
Уступчивый, как всегда, Сидди тут же поднялся:
– Я буду перед домом.
С табаком на ладони и папиросной бумагой, висевшей для сохранности на нижней губе, Сидди на цыпочках вышел из комнаты, его грубые башмаки громко скрипели.
Сидя рядом с матерью в садовом кресле, Гарри положил руки на колени, сцепил пальцы, наклонился и заглянул матери в лицо.
– Мама, что ты тут шептала?
– Разве я шептала? – Грета разглядывала пришитые кружева, растянув их на ладони. – Прежде чем выбросить какую-нибудь вещь, мы с тетей Эдит выдергивали завязки, шнурки, срезали пуговицы, потом вырезали не слишком изношенные куски и пускали на тряпки.
– Про тетю Эдит мы все знаем. Ты шептала о чем-то другом.
– Да, про нее мы как-то уже разговаривали.
– Я не стал бы настаивать, но я не сомневаюсь, что тебе хочется с кем-то поговорить.
– Когда тебе хочется с кем-то поговорить, разве ты непременно приходишь ко мне?
– Нет.
– А я необязательно обращаюсь к тебе.
– Реже всего ко мне или к кому-нибудь из нас.
– Ах, вы же все время куда-то мчитесь. У вас так мало времени.
– У нас найдется время. У меня найдется время. Ты сама держишь нас… меня… да, всех нас… держишь на расстоянии.
– Ах, слишком поздно об этом говорить, – Гретой вдруг овладело нетерпение, – мне уже поздно менять привычки.
– Ну, тогда прости. – Гарри разжал пальцы и откинулся в кресле. – Ты знаешь о неприятностях Теда?
– Ах уж этот Тед с его неприятностями.
– Мама, Рози просила тебя позвонить сегодня или завтра.
– Конечно, конечно, – с сочувствием сказала Грета. – Бедная Рози. Я позвоню.
– Звони два раза: три звонка, потом еще три. Перед уходом я напишу в телефонной книжке.
– Ты разговариваешь со мной, будто я выжила из ума.
– У тебя столько забот. Такие записки очень помогают. Когда появились новые качели?
– Вчера. Сидди с Гаем повесили их как раз перед тем, как Джек почувствовал себя плохо. – Грета снова расправила кружева, внимательно их оглядела, потом покачала головой и опустила подбородок. – Сильвия, возможно, получит весьма значительную сумму. Она твердо решила вернуться в Рим?
– Да, – коротко ответил Гарри.
Грета улыбнулась, глядя на кружева.
– Вот видишь, стена между нами – это иногда совсем неплохо. Что ж, так или иначе, дорогой, Сильвии уже поздновато иметь детей. И в любом случае она не из тех женщин, которые к этому стремятся.
Гарри засмеялся.
– По-моему, ты права. Голос у тебя сейчас гораздо лучше, чем по телефону.
– Голос бывает лучше, бывает хуже. Ты из-за этого приехал? Из-за того, как я говорила по телефону?
– Отчасти, мама.
– Что ж, спасибо, Гарри. Как видишь, сейчас все в порядке. Не сочти меня неблагодарной, но мне нужен покой, я не хочу, чтобы меня тревожили.
– Сильвия имеет право…
– Конечно, – согласилась Грета с той же поспешностью, с какой привыкла уступать притязаниям Молли. – Вы ведь с ней не сиамские близнецы. Сильвия вполне может приехать одна.
– Она не нарушает твоего покоя?
– Это я в состоянии вынести, – сухо ответила Грета. – Поезда ходят достаточно часто. Пусть приезжает когда хочет. Хотя она ничего не может сделать. Ничего. Сегодня прекрасная погода. Поскольку она уже выполнила свой долг, почему бы тебе не поехать с ней куда-нибудь?
Гарри встал, положил руку на плечо матери. Когда он наклонился и поцеловал ее в щеку, Грета опустила шитье на колени и, на мгновение потеряв власть над собой, схватила его руку в свои.
– Прости, родной, – проговорила она.
– Ну что ты, – мягко ответил Гарри. – Пойду спрошу Сильвию, что она собирается делать.
В холле Гарри вырвал из блокнота страницу, заполненную Гретиными геометрическими узорами, и написал, как звонить Розамонде. Дверь в комнату Джека была полуоткрыта, Гарри постучал и вошел.
Увидав, что Сильвия стоит на коленях, засунув руку под платяной шкаф, Гарри поспешил к ней и только искоса взглянул на кровать. Джек Корнок лежал на смятых простынях, одна его рука свисала с края постели. Услышав шаги Гарри, Сильвия повернула к нему пылающее, мокрое от слез лицо и с трудом поднялась на ноги, сжимая в пальцах одну жемчужину. Она вынула из кармана оборванную нитку бус и, держа жемчуг в сложенных ковшиком ладонях, растерянно смотрела на Гарри.
– Ты подобрала все жемчужины? – тихонько спросил Гарри.
– По-моему, да.
– Где Сидди?
– В саду перед домом. Я сказала, что он может выйти, – Сильвия едва заметно улыбнулась. – Запах…
Гарри подошел к кровати, расправил простыни, положил руку Джека на одеяло и попытался нащупать пульс.
– Он был в сознании, когда сорвал бусы? – тихонько спросил Гарри.
– Вряд ли, – неуверенно ответила Сильвия и добавила ни с того ни с сего: – Он открыл глаза. Он открыл глаза…
– Лучше попросить Сидди вернуться.
Сильвия кивнула. Пока они шли к двери, она сказала:
– Он принял меня за Грету, когда открыл глаза.
– Почему ты так думаешь?
– Однажды я видела, как он смотрел на Грету такими же глазами.
За дверью Гарри остановился, задержал Сильвию и взял ее сложенные ковшиком руки в свои.
– Я боялся, что случится что-нибудь такое.
– Боялся за мать?
– Да.
– А она боится?
– Не этого. Думаю, что этого она не боится. Она осторожна, ничего больше. Очень осторожна.
– Грете все равно придется поместить его в больницу.
– Конечно.
Гарри и Сильвия посидели с Гретой еще минут десять, старательно поддерживая бессмысленный разговор, но когда Гарри сказал, что хорошо бы перевезти Джека в больницу, Грета в очередной раз оторвала нитку и пробормотала, что в этом нет никакой необходимости.
– Я пригласила опытную сиделку, – сообщила она.
Вдевая нитку в иголку, Грета подняла голову, и Гарри одновременно с Сильвией увидел у нее на шее синяк, закрытый прежде воротником.
– Зачем, собственно, нужна сиделка? – сердито спросил Гарри.
В это время в дверь позвонили, и через минуту Гарри впустил в дом плотного молодого мужчину с курчавыми рыжими волосами и курчавой рыжей бородой, которого никто никогда даже в страшном сне не принял бы за сиделку. Мягким, ласковым голосом мужчина сообщил, что его зовут Бенджамин Томас или просто Бен.
Гарри и Сильвия доехали до Карин-гей Чейз и пошли к морю по одной из узких тропинок, протоптанных на высоком плоскогорье среди жалкого низкорослого кустарника. Сильвия вспомнила, как приходила сюда когда-то со школьными друзьями, они тогда казались себе высокими, смелыми и могущественными, а потому дурачились, кричали и пели. Сегодня она хмурилась и сердилась, хотя не знала, на кого обратить свой гнев. Сначала они с Гарри беспорядочно обменивались впечатлениями о Грете и Джеке, но потом Гарри ушел вперед.
Постепенно настроение Гарри переменилось, он улыбался и кивал, а это означало, что ему здесь нравится. Тогда заулыбалась и Сильвия. Низкий кустарник уже не казался ей таким жалким. Под худосочными, покрытыми паутиной листьями росло много цветов, таких крохотных, что Сильвии приходилось садиться на корточки, чтобы их разглядеть. Только обилие этих цветов чуть нарушало однотонность зарослей кустарника. Гарри замедлил шаг, они снова шли рядом.
– Мама шептала что-то про угол Пит и Кинг-стрит, когда мы пришли. Это она вспоминала очередь, которую выстояла, чтобы получить работу.
– В ее возрасте большинство людей охотно рассказывают о трудностях, пережитых в молодости.
– Она никогда не говорит о своих унижениях.
– Ты видишь в этом какую-то закономерность?
– Да.
Когда дорога пошла вниз, они замолчали, тишину нарушал только звук их собственных шагов. Время от времени Сильвия останавливалась полюбоваться цветами или поднимала и пристально разглядывала какой-нибудь маленький желтовато-коричневый или бледно-голубой камушек, едва заметный на грязно-белой тропинке. В узкой промоине кустарник, высоко поднимавшийся по обеим сторонам тропинки, напомнил Сильвии клумбы Ботанического сада, и она невольно сравнила щедрое изобилие сада с неприветливой упрямой порослью рядом с собой и пряный аромат цветов в саду с едва ощутимым, часто пропадавшим запахом кустарника. Если Сильвия останавливалась, Гарри тоже останавливался, но поджидал ее с отсутствующим видом. Сильвия понимала, что он все еще погружен в мысли о матери, так же как и прежде, когда бы они ни заговаривали о Грете, Гарри каждый раз надолго умолкал и уходил в себя. Они начали размышлять об отношениях между Гретой и Джеком очень несмело, еще в ту пору, когда Гарри сел за руль своей первой машины. Они размышляли об этом уже смелее, бродя по городу, лежа на пляжах, на лужайках парков. Но только четыре года назад в Лондоне Сильвия, во время длинного разговора с участием жены Гарри Маргарет, робко упомянула о своей детской враждебности к Грете. Она сделала это после того, как Гарри признался в своих враждебных чувствах к Джеку, правда, Гарри добавил, что они с Розамондой настолько вошли в роль помощников Греты и опекунов двух младших детей, что, стараясь подавать им пример доброжелательности, он почти полностью преодолел себя.
Долгий разговор в Лондоне начался с того, что Гарри рассказал Сильвии и Маргарет, как газетное сообщение о разводе Джека и Молли Корнок своим тоном – сочетанием грубого юмора с претензиями на аристократизм – раздразнило его любопытство и привело к тому, что позднее, дожидаясь, пока ему принесут книги из хранилища, или закончив определенную часть работы, он стал просматривать газеты в зале периодики. Среди фотографий отмеченных наградами баранов и спортсменов, молодых женщин, ожидавших представления ко двору, политических деятелей, возлагавших венки к памятникам анзакам[6]6
Анзак (сокращение от Australian and New Zealand Army Corps) – Австралийский и Новозеландский армейский корпус в первой мировой войне; анзаки – солдаты этого корпуса.
[Закрыть], ему иногда попадались фотографии самих анзаков, и он неотступно думал об отце своей матери. Гарри просматривал объявления о распродаже товаров, выписывал цены, читал биржевые сводки не потому, что отыскивал какие-то нужные ему факты, он просто надеялся с помощью всех этих общих сведений понять сущность, разглядеть подлинные контуры прошлого. Он видел, как рубрика объявлений с предложениями работы хирела, а сообщений о продаже домов «по распоряжению кредиторов» становилось все больше. Гарри просматривал газеты и сравнивал свои впечатления с неиссякаемыми еженедельными рассказами Греты. По его просьбе Грета показывала фотографии матери и отца, сбереженные для нее тетей Эдит, и выцветшую фотографию тети Мод, которую едва помнила, так как жила у нее до того, как ее взяла к себе тетя Эдит. Для детей Греты жизнь матери начиналась с того времени, когда тетя Эдит забрала ее от тети Мод.
Тетя Эдит была старой девой и служила в судостроительной конторе. У Гарри сложилось впечатление, что, забрав Грету от Мод, тетя Эдит чуть ли не спасла ее от гибели. Во всяком случае, Грете, видимо, было очень хорошо у тети Эдит, так как она часто и с удовольствием о ней рассказывала, даже слишком часто, потому что в какой-то момент имя тети Эдит превратилось почти в символ, и Розамонда, так же как Сильвия, выбрасывая чулки со спущенными петлями, не забывала сказать, что тетя Эдит, конечно, просидела бы всю ночь и подняла бы все петли. Тетя Эдит и Грета вместе хлопотали по хозяйству, а по вечерам под звуки радио чинили, шили, вышивали или читали взятую в библиотеке книгу, сидя рядом за обеденным столом, причем в первые годы тетя Эдит не переворачивала страницу, дожидаясь, пока Грета дочитает до конца, а потом, когда Грета подросла, она дожидалась, когда дочитает тетя Эдит.
В тридцатом году тетя Эдит лишилась работы, об этом времени Грета рассказывала не так подробно, она только говорила, что, к счастью, была уже достаточно взрослой, чтобы оставить школу и начать работать.
Тетя Эдит призналась Гарри, что никому об этом не сказала и продолжала получать Гретины продовольственные талоны. В сад позади своего крошечного коттеджа в Питерсхэме она пускала лишь тех, кого хорошо знала, потому что боялась, как бы работники из отдела социального обеспечения не прослышали про ее огород и не лишили ее самое продовольственных талонов или пособия, когда вместо талонов начали давать деньги. Беспокоилась тетя Эдит напрасно, но ее рассказ показался Гарри весьма поучительным. Тетя Эдит твердила, что Грета поклялась никому не рассказывать про огород, но Грета со смехом заявляла, что совершенно этого не помнит.
И конечно, тетя Эдит первая сказала Гарри, что его отец вовсе не всегда был «со странностями». Хью Полглейз служил в той же судостроительной конторе, что и тетя Эдит. Тетя рассказала Гарри, что увлечение спиритизмом, столоверчением были очень модны в то время, поэтому никто не удивился, когда Хью Полглейз начал читать и цитировать книги индийских мистиков. Никому не могло прийти в голову, что он отрастит бороду, начнет носить домотканые рубахи и, после нескольких вежливых предупреждений, лишится работы. Когда тетя Эдит узнала, что Хью Полглейз хочет поселиться на ферме в окрестностях Парэметты вместе с людьми, которых он называл «своими последователями», она предложила Грете остаться у нее в Питерсхэме. Но Грета уехала с мужем.
Тетя Эдит пустила к себе жильца, бледного тихого юношу астматика, по имени Винсент. Он изредка возил тетю Эдит к Грете на своей машине, но тете Эдит было тяжело видеть, как живет Грета, и она приезжала к ней все реже и реже. Несмотря на требования мужа, Грета отказалась кормить детей только скудными дарами земли, арендованной на деньги последователей Хью Полглейза. Грета работала в бакалейной лавке в ближайшем поселке и отвозила Гарри в начальную школу по соседству на том же автобусе, на каком ездила в поселок. После школы Гарри приходил в магазин и сидел в подсобке среди коробок и ящиков, дожидаясь, пока Грета кончит работу и отвезет его домой. Он помнил, как они в темноте выходили из автобуса и с фонариками в руках пробирались домой по огороженным пастбищам. Когда Хью Полглейза посадили в тюрьму, небольшая коммуна продолжала жить, как прежде, в деревенском доме и нескольких сараях, но последующие события ненадолго вывели ее из безвестности, так как отказ Хью Полглейза от военной службы, его появление со своими единомышленниками в суде, их широкие рубахи, длинные волосы и своеобразная диета привлекли внимание прессы, и позднее Гарри с большим интересом прочел об этом процессе в старых газетах. После освобождения Хью Полглейза из тюрьмы преданные последователи восприняли крайнее истощение и другие перемены во внешности своего учителя как доказательства его святости, но когда было установлено, что Хью Полглейз болен лейкемией, они один за другим его оставили. Объяснения тети Эдит, что все они были страшно суеверны, неуравновешенны и разбежались, наверное, потому, что боялись заразиться, показались Гарри вполне правдоподобными. Грета привела Гарри и Розамонду в больницу попрощаться с отцом. Хью Полглейз положил руку на голову Гарри и произнес несколько слов о земле, которые Гарри тут же забыл. Розамонда спряталась под кровать, что Грета сочла за благо, поэтому Розамонде Хью Полглейз не сказал ничего. На следующий день он умер.
Настойчивость, с какой Грета – привлекательная, практичная, честолюбивая молодая женщина – пыталась сохранить этот брак, можно было объяснить только приговором, со вздохом вынесенным тетей Эдит: любовь, надежда, жалость. Маргарет, Сильвия и Гарри, тогда в Лондоне, единодушно решили, что Грета всей душой любила мужа, долго надеялась, что он вернется к нормальной жизни, а в последние годы жалела его так же сильно, как когда-то любила.
После смерти Хью Полглейза тетя Эдит приехала к Грете и снова предложила ей кров в Питерсхэме. Этот визит тети Эдит Гарри запомнил особенно хорошо. «Все будет как в прежние времена», – сказала тетя Эдит, а Грета ответила: «Нет, тетя, так уже не будет». Гарри ел пирог, привезенный тетей Эдит, и когда понял, что мать отказалась к ней переехать, громко разрыдался, крошки пирога веером разлетелись у него изо рта и обсыпали тетю и мать. Тетя Эдит уехала в машине Винсента, а Гарри долго топтался вокруг матери, хныкал и без конца спрашивал, почему они не могут поехать к тете, пока Грета вдруг сердито не приказала ему замолчать. Так Грета начала новую жизнь: она стала решительной, властной, скрытной и, почти не меняясь, осталась такой до конца своих дней. Только спустя много лет Гарри понял, что их переезд прогнал бы из дома Винсента, с которым тетя Эдит жила в добром согласии до самой смерти.
Грета, беременная Гаем, вернулась в Сидней с тремя детьми. Все, что было потом, Гарри и Розамонда уже прекрасно помнили. Гарри считал, что именно тогда Грета обратилась за помощью к семье Хью Полглейза и получила отказ. Он знал, что у него есть родственники в Сиднее, но в ответ на его вопрос Грета сказала, что она их не знает и знать не хочет.
После рождения Гая Грета работала в швейной мастерской, ее заработка вместе с комиссионными за проданные вещи кое-как хватало на содержание семьи. Но недавняя война вызвала страшную нехватку жилья. Люди платили тайком огромные деньги за возможность получить ключ от квартиры или от дома (и по крайней мере одно состояние было нажито в Сиднее именно таким образом). Грете, чтобы «получить ключ», нужно было потратить весь свой годовой заработок. Некоторые квартирные хозяйки относились к ним хорошо, и Гарри думал, что все они, наверное, пытались помочь их семье. Даже у той женщины, которую он ударил щеткой для чистки ковров, вначале, может быть, тоже были самые лучшие намерения. Но как-то так получалось, что шум и беспорядок, неизбежные при четырех детях, мокрые постели, ссоры, простуды, натянутые нервы вечно переутомленной, измученной заботами матери делали свое дело: хозяйки не выдерживали и превращались в злобных придир или тиранок. Когда в Лондоне, разговаривая с Маргарет и Сильвией, Гарри попытался представить себе, какие события повлияли на жизнь Греты, он понял, что в первую очередь это была вовсе не первая мировая война и не эпидемия инфлюэнцы, не годы депрессии или вторая мировая война, – нет, больше всего Грета пострадала от самого заурядного стечения обстоятельств: послевоенной нехватки жилья, когда она наверняка чувствовала себя как бездомная кошка со скулящими котятами. Сильвия и Маргарет не соглашались с ним, они говорили, что Гарри придает такое значение послевоенному жилищному кризису только потому, что помнит их собственные квартирные мытарства, но Гарри стоял на своем и постоянно восхищался матерью, так как в конце концов она сумела без чьей-либо помощи поселить их всех в приличной квартире и найти няню-испанку, о которой они с Розамондой всегда вспоминали с нежностью. При этих словах Сильвия неизменно умолкала, так как плата за Гретины труды – она ходила из дома в дом и предлагала косметику – казалась ей неправдоподобно высокой, и втайне она больше верила громогласным заявлениям Молли, утверждавшей, что Джек Корнок знал Грету дольше, чем говорил всем, и с начала их знакомства давал ей деньги.
Тропинка продолжала идти вниз, в конце глубокой промоины показался треугольник моря.
Догнав Гарри, Сильвия спросила: – Нам хватит времени спуститься к морю и вернуться к машине до темноты?
– Если поторопимся, хватит.
Но когда тропинка круто пошла вниз и в более глубоких промоинах им начали попадаться высокие деревья с гладкими стволами и густыми кронами, почти закрывавшими небо, на руки Сильвии упало несколько капель дождя. Гарри и Сильвия остановились, сквозь сплетение ветвей проглядывало все такое же голубое небо. И все-таки едва они пересекли плоское дно другой промоины, ураган, который на глазах Розамонды пронесся над гаванью, добрался до Чейза и обрушился на них. Гарри и Сильвия, скорчившись, укрылись под выступом огромной серебристо-серой скалы, нависшей над тропинкой, и смотрели, как потоки воды обрушиваются на кустарник, стекают с гребней пересекающих тропинку гряд песчаника и размывают землю.
Вскоре на тропинке появились двое юношей и две девушки. Им было лет по шестнадцать; судя по легкой одежде, дождь захватил их врасплох. Мокрые волосы у всех четверых слиплись, платья, рубашки облепили тела, но они беззаботно шли вперед, будто на небе все так же сияло солнце. Сильвии понравилась беспечность этой компании, ей стало стыдно, что они с Гарри так старательно оберегают себя и свою одежду. Гарри тем не менее ответил отказом на ее предложение покинуть их жалкое убежище и вернуться к машине, поэтому, когда снова появилось солнце и они тронулись в обратный путь (так как было уже поздно идти к морю), Сильвия погрузилась в молчание. Но на плоскогорье на них набросился ветер, и Сильвия обрадовалась, что не промокла. Ветер решительно не хотел подпускать их к машине, Сильвия и Гарри крепко обнялись, нагнули головы и, с трудом передвигая ноги, пошли вперед ему наперекор.