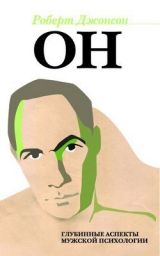
Текст книги "Призраки бизонов. Американские писатели о Дальнем Западе"
Автор книги: Джек Лондон
Соавторы: Уильям О.Генри,Марк Твен,Фрэнсис Брет Гарт,Макс Брэнд,Дороти Джонсон,Стивен Крейн,Джек Шефер,Уолтер ван Тилберг Кларк,Уилла Кэсер,Вэчел Линдсей
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
– Ни черта ты здесь не арендуешь, – произнес Король Джеймз. Срок твоей аренды вчера истек, и мой человек в земельном ведомстве разом переоформил ее на меня. Теперь ты в Техасе не владеешь ни травинкой. Вообще вам, овцеводам, надо отсюда сматываться, да поживее. Кончилось ваше время. Тут требуется разводить настоящий скот, крупный, а вам, шибздикам, нечего под ногами болтаться. Стало быть, где твои овцы нынче толкутся, это земля моя. Я ее обнесу колючей проволокой сорок на шестьдесят миль, и какая твоя овца окажется в загоне, та, считай, подохла. Неделю тебе даю, чтоб ни одной живой здесь не было. Какие останутся, пошлю человек шесть с винчестерами наделать из них баранины. А увижу здесь тебя – так и самому несдобровать.
И Король Джеймз многозначительно похлопал по казеннику своего ружья.
Элисон поехал дальше, к выгону Энкарнасиона. Он повздыхал, и морщины на его лице обозначились резче. Слухи, что старым порядкам приходит конец, доходили до его ушей. Значит, и свободные пастбища – дело уже прошлое. Но над ним и без того скопились напасти. Стада – нет, чтобы разрастаться – уменьшались; цена на шерсть падала от стрижки к стрижке; даже Бредшо, лавочник во Фрио, у кого он закупал провиант, и тот приставал, что вот, мол, за шесть месяцев не плачено, и грозил прекратить кредит. Так что последнее бедствие, которое обрушил на него страшный Король Джеймз, вконец старика подкосило.
Когда, уже в закатную пору, он вернулся к себе, то увидел, что Сэм Галовей полулежит на койке среди скатанных одеял и мешков шерсти.
– Привет, дядя Бен, – весело возгласил трубадур. – Что-то вы нынче рановато. А я тут пробовал испанское фанданго с новым перебором. Вот как раз вроде получилось, ну-ка послушайте.
– Красота, ну ничего себе красота, – сказал старик Элисон, сидя на кухонной приступочке и поглаживая седые терьерские баки. – По-моему, так ты, Сэм, давно заткнул за пояс всех музыкантов, сколько их есть на востоке и на западе, докуда дороги проложены.
– Ну, не знаю, – прикинул Сэм. – Но насчет вариаций я мастак, что да, то да. На чем другом, а на пяти бемолях им меня никак не одолеть. Сами-то вы чего-то не в себе, дядя Бен, выдохлись, что ли, к вечеру?
– Да, малость подустал; вот и все, вот и все, Сэм. У тебя ежели, может, игра на сегодня не кончена, сыграл бы ты мне эту мексиканскую штуку-то: «Huile, huile, palomita». Понимаешь, меня эта песенка вроде как утешает и обнадеживает после долгой поездки или чего прочего, разных там неприятностей.
– Само собой, seguramente, sefior, – сказал Сэм. – Сколько раз захотите, столько я вам ее оттарабаню. Кстати, пока я не забыл: дядя Бен, вы скажите веское слово Бредшо насчет последних-то окороков. А то ведь перекопченные прислал.
Если человеку шестьдесят пять лет и живет он особняком на ранчо и на него обрушились всевозможные невзгоды, какой тут спрос, коли не может он долго и толком притворяться? Вдобавок и трубадур был приметлив на чужие несчастья – они ведь нарушали его покой. И на другой день Сэм снова принялся расспрашивать старика: чего он печалится и почему рассеян? Тогда Элисон поведал об угрозах и распоряжениях Короля Джеймза и о том, что его избрали неповинной жертвой бледная печаль и яростный разор. Трубадур выслушал все это очень задумчиво. Про Короля Джеймза он и без того был довольно наслышан.
На третий день из семи пожалованных ему властелином здешних мест старик Элисон снарядил тележку во Фрио за припасами для ранчо. Бредшо был неуступчив, но не безжалостен. Он уполовинил список и согласился еще немного потерпеть с деньгами. Кстати же был затребован и получен новый в меру прокопченный окорок на усладу трубадуру.
По пути домой, на шестой миле от Фрио, старик повстречался с Королем Джеймзом, который ехал в город. Его величество был, как всегда, свиреп и грозен видом, однако в тот день его смотровые щели были как будто пошире обычного.
– День добрый, – хмуро поздоровался Король. – Вас-то мне и надо. Тут, слышно было, говорил вчера один скотовод из Сэнди, что будто вы родом с Миссисипи, из Джексонского округа. Это что, так и есть?
– Я там родился, – сказал старик Элисон, – и прожил до двадцати одного года.
Тот вчера говорил, – продолжал Король Джеймз, – будто вы вроде бы в родстве с Ривзами из Джексонского округа. Это как, правда?
Да, – сказал старик. – Вот, например, тетушка Каролина Ривз – она моя сводная сестра.
Она мне тетка, – сказал Король Джеймз. – Я сбежал из дома шестнадцати лет от роду. Так что ладно, у нас с вами был разговор четвертого дня, давайте-ка кой-чего обговорим заново. Я, конечно, такой, я и сякой; оно, может, и верно, только наполовину. На моей земле хватит места для ваших, сколько их там, овечек. Тетя Каролина, помню, лепила из теста барашков и выпекала для меня. В общем, где ваши овцы пасутся, то и пусть их, и пастбище все равно что ваше. С деньгами-то как?
Старик, не таясь, объяснил, как плохо у него с деньгами; объяснил с достоинством, сдержанно и подробно.
– Она, бывало, подкладывала мне в школьную сумку лишний кусок – это я про тетю Каролину, – сказал Король Джеймз. – Мне нынче во Фрио, а завтра заверну к вам на ранчо. Сниму-ка со счета две тысячи, завезу и скажу Бредшо, пусть не жмется, отпускает что надо в кредит. В наших-то местах, небось слышали, говорят, мол, Ривзы и Корроли всегда заодно, точно двойчатка каштанов. И со всяким Ривзом я – Корроль из-под Джексона. В общем, завтра я у вас буду так это примерно к закату, и вы больше ни о чем не волнуйтесь. Вот только засуха, а трава молодая, как бы не пожухла.
Старик Элисон радостно потрусил домой, и снова его морщины разошлись улыбками. Нежданно-негаданно, чарами родства и по волшебству добра, где-то укрытого во всех людских сердцах, он вдруг вылез из всех затруднений.
Сэма Галовея на ранчо не оказалось, только гитара его свисала с дерева на кожаном ремешке и постанывала под ветерком с залива, скучая по хозяйским пальцам.
– Сэм, он пони хватал, – объяснил кайова, – и говорил ехать Фрио, какой дьявол нон сабе. Говорил, сегодня вечером назад. Может, да. Вот все.
Высыпали первые звезды, и трубадур явился в свое пристанище. Пони он пустил на выгон и пошел в дом, воинственно бренча шпорами.
Элисон сидел за кухонным столом в ожидании ужина и со спокойным, довольным видом попивал кофе из жестянки.
– Здорово, Сэм, – сказал он, – вот молодец, что вернулся. Даже и не понимаю, как это мы тут жили-кисли, пока ты нас не растормошил, чего так поздно-то – не иначе загулялся во Фрио с тамошними девчонками?
Затем старик еще раз глянул Сэму в лицо и увидел, что перед ним вовсе не менестрель, а человек дела.
И пока Сэм отстегивает кобуру с шестизарядным револьвером старика Элисона, который тот, едучи в город, всегда оставлял дома, мы заметим в скобках, что если и когда трубадур откладывает гитару и берется за шпагу, то жди беды. Не точнейшего выпада Атоса, не холодного мастерства Арамиса, не железной руки Портоса – нет, жди гасконского бешенства, нападения неправильного и яростного – шпаги д Артаньяна, вот чего опасайся.
– Все, дело с концом, – сказал Сэм. – Затем я и съездил во Фрио. А то что же он с вами так, позволять это нельзя, дядя Бен. Я его нашел в салуне Саммера. У меня все было продумано. Я сказал ему на ухо пару ласковых слов, и он первый схватился за револьвер – из ребят человек шесть видели, что первый, – но я управился быстрее. Он схлопотал три пилюли в легкие – рядком, под одно блюдечко уместились бы. Словом, больше он вас, будьте уверены, не потревожит.
– Это, стало быть, ты про Короля. Джеймза говоришь-то? – спросил старик Элисон, прихлебывая кофе.
– Про кого же еще. Меня, конечно, повели к шерифу ну, свидетели-то, что он первый схватился за револьвер, они ведь тут как тут. Само собой, потребовали с меня триста монет залога, что явлюсь в суд, но сразу отыскались четыре не то пять поручителей. Так, дядя Бен, живите спокойно. Поглядели бы вы, как я ему аккуратненько всадил три пульки, одну к одной. Небось, когда разработаешь пальцы на гитаре, то и стрелять ловчей, а, дядя Бен?
Тихо-тихо стало в замке; толко скворчали ломти мяса на сковородке у повара-индейца.
– Сэм, – сказал старик Элисон, поглаживая дрожащей рукой свои белые баки, – ты бы, что ли, взял гитару и сыграл бы мне разок-другой эту вот «Huile, huile, palomita». Ежели человек устал и как-то выдохся, она очень помогает и утешает.
Что тут еще прибавить, кроме того, что история неправильно названа. Ей бы называться «Последний из баронов». А трубадурам переводу не будет: иногда кажется даже, что за бренчаньем их гитар не слышно, как глухо бьют кирки и бухают молоты работников всего нашего мира.

О. Генри
КВАДРАТУРА КРУГА
Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера.
Природа движется по кругу. Искусство – по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого.
Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении Искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных излияний Природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя?
Красота – это Природа, достигшая совершенства, округленность – это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в ссудную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от Природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки.
Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.
Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, – все это бросает холодный вызов кривой линии Природы.
Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.
Эта вендетта началась в Кэмберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, укокошив главу рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили.
Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны.
В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного дерева, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уже чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэлов.
Через год после этого Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер, вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах, Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий – родовое кладбище Фолуэлов.
Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кэбмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу.
На следующее утро последний из Фолуэлов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнес-сов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке; охотничий нож висел у него между лопаток, на полдюйма от воротника. Ему было известно одно – что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе и что он, Сэм Фолуэл, должен его убить, – и как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью и сердце загорелось жаждою мести.
Шум и грохот центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами.
К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями.
Сэм Фолуэл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его.
Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.
Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум.
– У Ранкинсов свиньи весили куда больше наших, да ведь в ихних местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас…
Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг.
Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки – она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за который можно было бы ухватиться.
Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро.
– Проходи! – сказал полисмен. – Ты здесь давненько околачиваешься.
На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина, без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрав ему колени. Кэб задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банановыми корками и приговаривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай!»
Кол Гаркнесс, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы.[8]8
«Небоскреб-утюг», имеющий в плане острый угол.
[Закрыть] В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя он увидел кровного врага всех своих родных и близких.
Он остановился как вкопанный и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолузл уже заметил его своими зоркими глазами горца.
Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул:
– Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть!
И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Камберленда пожали друг другу руки.

Уолтер Ван Тилберг Кларк
СЛУЧАЙ У БРОДА

1
Судя по солнцу, одолели мы с Джилом восточную гряду около двух часов пополудни. Мы придержали лошадей, чтобы поглядеть на городишко, расположившийся в просторной долине, на горы по ту сторону ее и на гребень Сьерра-Мадре, смутно видневшийся вдалеке, как ободок дневной луны. Но долго любоваться видом мы на этот раз не стали – после длительного пребывания на зимних пастбищах нам не терпелось поскорее добраться до городка. Когда лошади перестали дрожать после длительного подъема на последнюю гору, Джил снял сомбреро и, той же рукой откинув назад потные волосы, снова нахлобучил – привычный жест, означавший, что ему надоело бездействие. Мы свернули вправо и стали осторожно спускаться по крутому почтовому тракту. Дорога петляла, изрытая стоками тающих снежных лавин, да еще поросла низким кустарником, который начал пробиваться здесь, после того как дилижансы перестали пользоваться этим трактом. В излучинах дороги, защищенных от ветра красноземными кучами, весеннее солнце пригревало как летом и воздух был пропитан знойным и густым сосновым духом. Ручейки блестящими струйками сбегали вниз по откосам. Сойки перекликались резкими голосами в ветвях деревьев, юркая над освещенными солнцем прогалинками. Белки и бурундуки пощелкивали то в кустах, то в возникшем из-под снега буреломе. Там же, где дорога, сделав поворот, становилась открытой ветру, он быстро высушивал наши пропотевшие рубахи и попахивал уже не нагретой смолой, а заболоченной равниной. На западе из-за горизонта высовывались края отдельных тучек – тех, что приносит с собой ранняя жара, но они словно застыли на месте, а над нами небо было ясное и глубокое.
Хорошо оказаться на воле в такой вот денек, но за время зимовки в горах в душе человека много чего успевает накопиться, и одного весеннего отгона скота мало, чтобы все это выветрилось. Мы с Джимом работали в паре уже пять лет и притерлись друг к другу, однако, долгое сидение с глазу на глаз в заваленной снегом хижине кое-чему нас научило. Мы избегали много разговаривать: нужно было заново освоиться друг с другом. Подъехав к последнему пологому спуску в долину, мы отпустили поводья и вскоре скакали по равнине меж болотами, где в камышах, гнусаво перекликаясь, прыгали краснокрылые дрозды. По обе стороны, на широких лугах, росла осока. Сгибаясь под напором ветра, она вспыхивала на солнце, распрямившись же, тотчас темнела, словно погашенная пробегавшим облаком. Северный ветер доносил мычание коров. Смягченное расстоянием, оно казалось чем-то вроде пения валторны.
Было почти три часа, когда мы въехали в Бриджерс Уэлз. По правую руку стояла заколоченная церковь, на которой наполовину облупилась белая краска, дальше – дома под сенью тополей или меж рядами осин, из которых каждая четвертая засохла и оголилась. Большинство дворов заросло бурьяном, а строения были больше бревенчатые или дощатые, некрашеные. Попадались, однако, и кирпичные, и обшитые досками, покрашенные, с резными перильцами. Вокруг таких домов трава была подстрижена, а в тенечке буйно цвела сирень. Бриджерс Уэлз уже начинал терять вид почтовой станции, превращаясь постепенно в полузаброшенный поселок, где вся настоящая работа сосредоточена на прилегающих к ней землях, а большинство дворов приходят в запустение.
Кроме домов на главной улице и на боковой, от которой на север и на юг бежали тропинки к разбросанным вокруг ранчо, Бриджерс Уэлз мало чем мог похвастаться: мелочная лавка Артура Дэвиса, контора, принимавшая заявки на земельные участки и горные разработки, питейное заведение Кэнби, вытянутый в длину, покосившийся «Бриджерский Постоялый Двор» с двухъярусным крыльцом и еще одна церковь. Квадратная и без каких-либо украшений – как молитвенный дом в Новой Англии, – она стояла на западной окраине городка, будто нарочно старалась отодвинуться от другой церкви подальше, но не настолько, чтобы очутиться в полном одиночестве.
Улица почти высохла, но колеи, оставленные колесами фургонов, затвердели, так что с первого взгляда можно было определить, где упряжки увязали и как они бились, выбираясь из грязи. Гром от копыт поднялся немалый, когда мы въехали галопом, желая появиться с шиком. После всего, что мы навоображали об этом поселении, оно выглядело мертвым, как индейское кладбище. Несколько лошадей толклось у коновязи перед постоялым двором с питейным заведением, но лишь один человек оказался в поле нашего зрения. Это был Монти Смит – чумазый мужик, пузатый, с всклоченными седоватыми волосами до плеч, с жесткой седой щетиной на щеках, сквозь которую проглядывали малиновые воспаленные пятна чесотки. Когда-то Монти тоже работал объезчиком, хоть и без большой охоты, – но теперь он превратился в обыкновенного городского босяка и с одинаковым успехом то попрошайничал, то донимал всех своими наглыми, едкими шуточками. Любить его не любили, но так к нему привыкли, что без него городок был бы уже не тот. Монти стоял, прислонившись к столбику сводчатой галерейки перед заведением Кэнби, ковырял в зубах щепкой и плевался. Маленькие красные глазки внимательно оглядели нас с ног до головы, потом он с рассеянным видом кивнул и отвернулся. Мы его игнорировали. Можно было не сомневаться, что, как только мы войдем в бар, он к нам присоседится. По-видимому, эта мысль сильно раздосадовала Джила: он так резко осадил своего коня что мне пришлось круто завернуть вбок, чтобы Пепел не наскочил на него сзади.
– Полегче! – сказал я.
Джил ничего не ответил. Мы соскочили на землю, привязали лошадей, звеня шпорами прошли по дощатому настилу и поднялись по ступенькам к высокой и узкой двустворчатой двери со вставками из матового стекла, на каждой из которых стояло в венке из листьев имя Кэнби. Мы знали, что Смит не спускает с нас глаз, и шли не оборачиваясь.
Внутри было темно и прохладно, пахло прокисшим пивом и застоявшимся табачным дымом. Пол был посыпан опилками. Вдоль одной стены тянулась стойка, у другой стояли четыре покрытых зеленым сукном стола. Знакомые картины на стенах. Над стойкой в тяжеловесной золоченой раме, представлявшей путаницу из фруктов и музыкальных инструментов, висело огромное закопченное полотно – женщина, давно уже не девочка, с большим животом, широкобедрая и грудастая, разлеглась на кушетке, притворяясь, что играет с какой-то птицей, сидевшей у нее на руке, на самом же деле завлекая мужчину, подкрадывавшегося к ней из глубины комнаты, где сгустилась такая тьма, что видна была лишь его бледная, с кулачок, физиономия. У женщины между ногами была перекинута голубая тряпка, прикрывающая одно бедро. Я заходил как-то за стойку и знал, что к раме прикреплена небольшая медная табличка, сухо уведомляющая, что картина называется «Женщина с попугаем». Кэнби же называл ее «Шлюха к услугам». На противоположной стене висела пожелтевшая литография величиной с географическую карту, изображавшая прием в гостинице «Кристалл» в городе Вирджиния. Президент Грант, сенаторы, генералы, издатели газет и прочие именитые личности расставлены так, чтоб каждого можно рассмотреть во весь рост. Все пронумерованы, а из перечня внизу можно узнать, кто они такие. Висели еще цветастая раскрашенная гравюра с роскошной индейской принцессой у водопада, потом большая картина маслом – подъезжающий к остановке дилижанс, лошади все сытые, толстобрюхие, с короткими тоненькими ножками, бегущие все в ногу, почему-то над землей, и еще овальная картина углем, изображающая три лошадиные морды, белые, с безумными глазами и развевающимися гривами.
За самым дальним столиком под лампой четверо мужчин играли в покер. Никого из них я не знал. Казалось, играют они уже очень давно, погруженные в свое занятие, не проявляя никаких признаков жизни, разве что блеснет иногда глаз, или рука протянется за стаканом, или сбросит карту. Вели они себя тихо.
Кэнби стоял за стойкой – высокий, худой, медлительный человек с редкими седоватыми волосами, зачесанными так, чтобы скрыть лысину. Все черты у Кэнби широкие и грубые, кисти рук к тому же корявы и красны. Руки у него такие длинные, что он мог свободно протирать стойку, сидя на залавке, где хранились бутылки и стаканы. Стойка была чиста и суха, тем не менее он тщательно протер ее еще раз, пока мы шли от двери к нему. Он осмотрел нас, сперва одного, потом другого, но не сказал ни слова. Глаза у него водянисто-голубые – такие бывают иногда у старых пьяниц – только не безвольные, а жесткие и равнодушные. Они вполне соответствовали его лицу, испещренному жилками, рябоватому и в то же время туго обтянутому кожей, – лицу непомерно большому: со слишком большим носом, слишком большим ртом, слишком широкими скулами и бровями. Я в который раз подумал, откуда он такой взялся. У него был вид человека, который в прошлом что-то собой представлял. А вот что именно, никто, насколько мне известно, так никогда и не выяснил. Он много пил, но никогда ни о чем не говорил, кроме как о самых пустяковых вещах, и всегда смотрел на собеседника так, будто делает ему одолжение.

– Ну-с? – сказал он, поскольку мы молча глазели то на «Шлюху», то на бутылки.
Джил сдвинул шляпу назад, открыв рыжие курчавые волосы, и сложил руки на стойке, не сводя глаз со «Шлюхи». Лицо у Джила большое, бледное, веснушчатое, не поддающееся загару и совершенно бесстрастное, если не считать глаз, которые у него иногда вспыхивают, да и то главным образом от злости. Нос ему ломали трижды, рот с толстыми губами всегда плотно закрыт. Он легко ввязывается в драку, но злопамятства в нем нет, хотя говорит он всегда так, будто чем-то недоволен. Это у него юмор такой. Впрочем, у Кэнби такой же.
– И что этот парень никак до дела не доведет? – сказал Джил, продолжая рассматривать картину.
Кэнби смотрел не на картину, а на Джила.
– Жаль мне его, – сказал он. – Ведь кажется, только руку протянуть, да куда там…
Вечно затевали они подобный разговор, стоило нам войти в бар. Просто ритуал какой-то завели: Джил всегда держал сторону женщины, а Кэнби неизменно заступался за мужчину. Кэнби мог произнести целую речь по поводу подлого нрава женщины с попугаем.
– Я так полагаю, могла и получше кого найти, – сказал Джил.
– Будет тебе хвалиться, – сказал Кэнби и снова осведомился: – Ну-с?
– Ты меня не понукай, – сказал Джил.
– Пожалуйста, я не тороплюсь.
– Что-то я не вижу, чтоб тебя очень задергали. Уж и подождать не можешь.
– Не в том дело. Просто мне противно смотреть на человека, который не знает, чего хочет.
– А тебе какая печаль?
– В зависимости оттого, что человек пьет, мне приходится или укладывать его спать, или выслушивать его жалобы, – сказал Кэнби. Говоря, он приоткрывал рот самую малость. Казалось, ему очень приятно произносить слова и в то же время выталкивать их стоит больших усилий.
– Мне не требуется ни сна, ни утешения, – сказал Джил. – А если бы и потребовались, я бы их не здесь искал.
– Спасибо, ты меня успокоил, – сказал Кэнби. – Ну, что будешь пить? Виски?
– А что у тебя есть?
– Виски.
– Видал? – Джил обратился ко мне. – Я тут время трачу, думаю, а у него всего только и есть что виски! И небось дрянное? – спросил он Кэнби.
– Дрянное, – подтвердил тот.
– Два стакана и бутылку, – распорядился Джил. Кэнби поставил перед нами стаканы и откупорил бутылку.
– А что касается всего другого, у меня просто духу не хватает откупорить, – добавил Кэнби, снимая с полки бутылку вина и протирая ее тряпкой. – Я еще мальчишкой был, когда все эти бутылки тут стояли – те же самые.
Мы взяли в руки стаканы, и Джил разлил виски, которое мы тут же хлопнули. Виски было неразбавленное и вышибло у нас слезу – что, впрочем, неудивительно, после того как мы столько времени соблюдали сухой закон. С самого Рождества к спиртному не прикасались…
– Только что вернулись? – спросил Кэнби.
– Так точно, – радостно ответил Джил. Кэнби покачал головой.
– Чего это ты? – спросил его Джил. Кэнби посмотрел на меня:
– Он что, всегда у тебя такой непутевый? – Мне часто казалось, что Кэнби говорит с ухмылкой, хотя лицо у него оставалось постным, как у старого священника.
– Это еще что, – ответил я и рассказал ему о драке, которая кончилась тем, что Джил опрокинул меня на раскаленную печку. Разговаривая, мы продолжали потихоньку отхлебывать виски, и Джил слушал с вежливым видом, будто я рассказывал скучную историю, приключившуюся с кем-то посторонним. – Это все оттого, что мы просидели вдвоем взаперти столько времени, – закончил я, вспоминая крошечную лачугу с окном, почти доверху заваленным снегом, который все сыпал и сыпал, с сухим шуршанием ударяя в стекло, тоскливое завывание ветра, и нас с Джилом в разных концах комнаты, каждый со своей лампой. Перемирия были только на время еды. – Дошло до того, что он даже не хотел в объезд ехать вместе со мной. Мы по очереди объезжали стада и задавали скоту корм.








