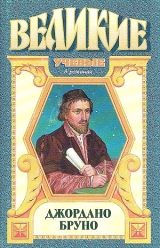
Текст книги "Адам нового мира. Джордано Бруно"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
XXV. Совпадение противоположностей
В самое знойное время лета его поместили в камеру над кухней, где было невыносимо жарко. Позднее, когда было замечено, что его раздражает шум, его перевели в камеру рядом с помещением, где постоянно стучали. Иногда ему по два-три дня не давали есть.
Потом наступило облегчение. О его присутствии в тюрьме как будто забыли. Ему отвели камеру, где было побольше воздуха, рядом с квартирой старшего тюремщика, и стали больше о нём заботиться. Теперь чаще всего приходил молодой тюремщик, который, вместо того чтобы швырять, как другие, хлеб в камеру и с грохотом захлопывать дверь, был, видимо, не прочь постоять в камере и поболтать с узником. Сначала Бруно недоумевал. Он уже забыл, что люди способны хорошо относиться друг к другу. Когда юноша в первый раз улыбнулся ему, он заплакал и долго не мог успокоиться. Ему казалось, что он изойдёт слезами, плакать было так сладко!
Юноша рассказал, что его зовут Джованни и он сын старшего тюремщика. Бруно радостно слушал всё, что тот говорил, лихорадочно торопился насладиться этой огромной радостью, потому что не верилось, что она ещё повторится. Он каждую минуту боялся, что юноша начнёт издеваться над ним, ударит его. Бруно слушал, словно не понимая, затем схватил тонкую, но сильную руку и покрыл её поцелуями. Джованни сделал попытку вырвать её. Но Бруно отчаянно цеплялся за его руку, и Джованни погладил его по голове и своим мягким, юношески звонким голосом попросил не пугаться.
– Я боюсь, что вы не придёте больше.
– Приду. Обещаю вам!
И с этого дня Джованни взял на себя почти все заботы о заключённом, делая то, что обычно делал раньше его отец. Кроме него, Бруно видел ещё только одного тюремщика, Паоло, неповоротливого малого лет двадцати с небольшим, с выступающими, как у бульдога, зубами. Теперь все чувства Бруно сосредоточились на Джованни и Паоло. Он проводил часы в нетерпеливом ожидании, ловя каждый звук, гадая, кто из двух сегодня придёт к нему в камеру. В первое время Джованни, видимо, смущало обожание Бруно, потом он стал принимать его без возражений и не мешал Бруно брать его за руку и гладить её. У Джованни была оливково-смуглая кожа, длинные гладкие чёрные волосы, напоминавшие Бруно Джанантонио, и доля той гибкой грации, которой отличался Джанантонио. Но во всём остальном они были совсем разные. Круглое лицо Джованни с узким лбом, прямым носом и маленьким ртом выражало обезоруживающее простодушие, прямоту и доверчивость. Он принял деятельное участие в судьбе Бруно, крал, что мог, из съестного, чтобы увеличить его паёк, подолгу оставался у него в камере, когда отец бывал занят чем-нибудь.
Зато Паоло, словно почуяв радость, которая наполняла теперь душу Бруно, становился всё грубее и грубее. Войдя, он всякий раз непременно лягал Бруно ногой и сделал себе привычку игриво хлопать его по губам своей большой волосатой рукой, ворча: «Ну что же, признаешься ты наконец?» Джованни всеми силами старался, чтобы Паоло не ходил в камеру, но он не мог действовать чересчур энергично, боясь обратить на себя внимание отца.
– Ничего, – говорил ему Бруно. – Пока вы меня навещаете, мне ничего не страшно. Я готов охотно и с благодарностью выносить какие угодно мучения и оскорбления от других, только бы мне знать, что потом буду говорить с вами.
Джованни прижал руку к щеке Бруно.
– Но отчего? Что я для вас? Сын тюремщика. Я ничему не учился. А вы – великий писатель...
– Я! – воскликнул Бруно. – Что вы знаете обо мне?
Джованни покраснел.
– Мне хотелось знать... Я спросил у отца. Ему тоже о вас немногое известно. Но я слыхал, как толковали между собой отцы монахи...
– А что же они говорили обо мне? – спросил Бруно, весь дрожа. Значит, о нём не забыли! Какие ещё пытки готовят ему?
– Я плохо слышал... Они говорили о ваших книгах. Один сказал, что в них ничего нет. Другой – что там страшная ересь, что вы могли бы натворить ужасающих вещей... Я не поверил им.
– Так вы меня не боитесь?
– Нет.
Бруно разозлился на того священника, который сказал, что в его книгах ничего нет. Он стал настойчиво выпытывать у Джованни новые подробности, но видя, что тот не хочет говорить об этом, оставил его в покое. Он поцеловал руку Джованни, и у него отлегло от сердца. Но когда он остался один, подозрения вспыхнули с новой силой. Может быть, этот Джованни – шпион, подосланный, чтобы вкрасться к нему в доверие и всё у него выпытать? Рассказ о подслушанном разговоре звучал не слишком убедительно...
Бруно ходил по камере, сгорая от нетерпения опять увидеть Джованни. Но вечером пришёл Паоло, от которого несло винным перегаром. Он ударил Бруно по щеке и рыгнул ему прямо в лицо.
На следующий день пришёл Джованни, и Бруно забыл о подозрениях, всю ночь не дававших ему уснуть. Он схватил и поцеловал дорогую руку. Но потом сомнения вернулись снова. И в первый раз он разговаривал с Джованни ворчливо и недружелюбно. Бруно с испугом увидел, как огорчён этим Джованни, но никак не мог совладать с собой.
Наконец Джованни дрожащим голосом спросил:
– Что я вам сделал? За что вы на меня обиделись?
– Нет, нет, – испуганно оправдывался Бруно. – Я просто боюсь, что вам наскучит приходить сюда.
– Пожалуйста, не говорите таких вещей!
Мольба в голосе Джованни смутила Бруно. Почему этот юноша так охотно приходит сюда и разговаривает с ним? Бруно с горечью пробормотал:
– Вас подсылают шпионить за мной.
– Кто?
– Да, да, вас научили, как говорить со мной. Я с ума сойду, если вы меня обманете! – Он схватился руками за голову и спросил жалобно: – Неужели вы ходите сюда, чтобы шпионить за мной?
– Да нет же, нет! – возразил Джованни. Они растерянно помолчали, оба глубоко несчастные. Им казалось, что всё испорчено. Джованни, сильно расстроенный, отвернулся, намереваясь уйти.
– Не уходите, – взмолился Бруно.
– Вы мне не доверяете.
– Право же, я вам доверяю, я знаю, что вам можно верить.
Джованни достал из-под куртки ломоть смятого пирога.
– А я вам принёс вот это. Но у него теперь очень уж неаппетитный вид, правда?
Оба неуверенно засмеялись. Джованни воротился от двери и протянул Бруно обе руки. Бруно пытался начать разговор, объяснить, кто он и почему Инквизиция его преследует. Сначала Джованни не хотел слушать:
– Я ничего не хочу знать. Мне всё равно, что бы вы ни сделали, я знаю, что вы хороший человек...
– Нет, это не я, а вы хороший....
Так они пререкались, пока Джованни не засмеялся своим тихим, звенящим, как колокольчик, смехом.
– Пожалуй, и вы и я не слишком хорошие, раз мы так легко выходим из себя.
Их дружба зрела, согретая теплом робких пожатий, бессвязными признаниями Бруно, опасениями, терзавшими его все ночи напролёт. Бруно постоянно мучил вопрос: зачем ходит к нему Джованни? Какой интерес может представлять для него старый человек, отупевший от страданий? Он беспрестанно задавал Джованни этот вопрос, рискуя надоесть юноше и оттолкнуть его от себя.
– Прихожу потому, что вы мне нравитесь, – отвечал Джованни. – Почему бы мне не приходить? Разве вам это неприятно?
– Господи! Вы же видите, что я умру, если вы перестанете приходить...
– Тогда не задавайте глупых вопросов.
Перед ним проносились картины, сохранившиеся где-то в глубине памяти. Какой-то калейдоскоп, мешанина образов. Одни мелькали мимо со странной, сверхъестественной быстротой. Другие были чётки и почти неподвижны. Все переживания последнего времени заслонялись картинами давнего прошлого. Жизнь в неаполитанских монастырях. Жизнь в Ноле, пока он одиннадцатилетним мальчиком не уехал в Неаполь учиться у Винченцо Колле. Всё плыло мимо, колыхаясь, как колышутся листья буков и лавров в те часы, когда (так он думал в детстве) эльфы[222]222
Эльфы (нем.) – в германских народных поверьях духи природы, населяющие воздух, землю, горы, леса, жилища людей и обычно благожелательные к людям.
[Закрыть] пляшут на холмах. Мессер Донезе, портной, испортил платье, которое он шил, и швырнул утюг на пол... Серо-коричневая сука на заднем дворе ощенилась в старой винной бочке... Виноградари у дороги во время сбора винограда бывали постоянно навеселе и задевали прохожих. Они кричали «Рогоносец!» или «Шлюха!» каждому, даже знатным господам, которые морщили нос и смотрели прямо перед собой, делая вид, что не слышат. Только один подвыпивший господин в шляпе с страусовым пером стал бросать крестьянам монеты и перекликаться с ними, а какая-то весьма пышная дама улыбалась и кивала головой, словно те, кто кричал ей «шлюха», величали её каким-нибудь громким титулом. На нивах по золоту хлебов ходили от ветра волны, и казалось, что это земля дрожит всей своей взъерошенной шерстью, как собака, когда у неё чешется спина... В Чикале он смотрел сквозь широкие листья винограда на тёмные склоны Везувия... У Францино на гряды дынь забрались крысы... Когда они были в гостях у Антонио Саулино, он, Фелипе, сидел на воротах и, услышав кукование кукушки, возвещавшей весну, спросил: «Кто это кричит? Лев?» И все смеялись над ним. Но кукушка куковала так громко и так близко...
Отец работал на огороде и методически осматривал листья капусты, обирая улиток. А старый Шипионс Саулино, двоюродный брат матери, хлопал по спине всех, даже малышей, и постоянно рассказывал о себе одно и то же: как он раз в год, в страстную пятницу, ходил исповедоваться к своему старому другу викарию и говорил: «Отец, сегодняшними грехами заканчивается год». А викарий отвечал: «И сегодняшним отпущением тоже. Иди с миром и больше не греши». Перед Пасхой Шипионе постоянно твердил: «Ну вот, скоро и на исповедь пойду. Остаётся ещё только шесть дней». А после исповеди: «Ну вот, теперь можно опять целый год грешить». И так неизменно из года в год. От старика всегда пахло как-то странно, анисовым семенем. Мать любила его, а он, Фелипе, нет.
Раз его послали с каким-то поручением к Весте, кажется за солью, а когда он вошёл, Веста снимала через голову рубашку, стоя к нему спиной и наклонясь вперёд. Она сказала невнятно из-под рубашки: «Ай, уходи!», думая, что это Альбенцио. И он на цыпочках вышел.
Видения более смутные... Какие-то люди, склонённые над могилой, выступали из мрака, озарённые молнией ужаса. Сфинкс с верёвкой, чтобы душить людей... Кто-то плакал, плакал, плакал. Опять та же группа людей, неслышно делающих что-то во мраке. Он словно ходил по давно забытым местам, и на каждом шагу в его душу стучался ужас. Что-то случилось в этом месте. Но он не мог вспомнить, что именно. Он всё ходил и ходил по этому лабиринту, где вехами служили какие-то обрывки непонятной угрозы.
Он стал заводить с Джованни разговоры о женщинах. Джованни опять пробовал остановить его, говоря: «Зачем вы мне рассказываете всё это? Это нехорошо, тем женщинам не понравилось бы, что вы о них такое говорите...»
Бруно этот довод показался несколько нелепым, но он пропустил его мимо ушей. Рассказы продолжались, и Джованни как будто начал проявлять к ним интерес, поощрял Бруно. Бруно думал: «Это надежда возвращается ко мне». А вслух говорил : «Я вам всё это рассказываю, но, в сущности, женщины меня больше не привлекают. Я люблю только вас». Он прижимал к себе руку Джованни, уже не стыдясь больше. Потом начинал плакать. «Вы слишком добры ко мне, слишком добры. Это ненадолго. Я проклят». В Джованни была своеобразная смесь покорности и сдержанности. Бруно твердил себе: «Я оброс грязью, неудивительно, что он не хочет подойти ближе». Он отодвигался и продолжал говорить.
Теперь Джованни уже поощрял эти рассказы. Бруно был в восторге, что у пего есть слушатель. Его изголодавшийся ум снова начал работать, в иные минуты удивляя его самого богатством и блеском мыслей. А Джованни был прекрасным слушателем. Хотя он и не говорил ничего, чувствовалось, что он умён и многое понимает. Бруно старательно объяснял ему свою новую теорию пространства, вытекающую из тезисов Коперника. Джованни всё понял. Бруно готов был поклясться в этом. Да, он видел, как Джованни трепетал от восторга, когда он поделился с ним своей идеей о бесконечности миров в пространстве, об органическом единстве Вселенной, об органической связи человека с Землёй, от которой он произошёл.
– И мне, – сказал Бруно, выпрямившись и забренчав при этом цепями, – мне выпала на долю честь первым открыть эту великую истину человечеству, помочь людям сознать свои силы, неограниченную возможность подчинить себе природу. Я – первый человек, призывающий к братству, основанному на разуме. Я первый обосновал и развил диалектику движения, которую две тысячи лет тому назад смутно прозревал Гераклит[223]223
Гераклит Эфесский (кон. VI – нач. V в. до н. э.) – древнегреческий философ-диалектик.
[Закрыть].
В камере некоторое время царило глубокое молчание. Потом Джованни не то всхлипнул, не то вздохнул.
Бруно заговорил опять:
– Вы понимаете?
– Да, – храбро объявил Джованни.
– Тогда мне не нужно никакой иной награды.
Он стоял, гордо выпрямившись, а цепи звенели. Джованни плакал. В сердце Бруно пылали неугасимая радость, любовь и вера.
Бруно всё больше и больше привыкал к Джованни. И скоро начал делиться с ним своими сомнениями. «Задача в том, чтобы понять действительность, – говорил он, – то есть природу, движение, только они и есть действительность, другой не существует. В том-то и беда, что все мыслители до меня пытались выдумать какую-то отвлечённую теорию и втиснуть в неё факты. А я добиваюсь конкретного понимания фактов.
Он старался разъяснить свою мысль Джованни.
– Видите ли, другие философы объявляют логическое понятие законом природы. Аристотель, например, считает материю бесформенной. Но это – предвзятое мнение, не имеющие опоры в действительности. Просто ему угодно так говорить, потому что он придумал множество терминов, которые хорошо согласуются между собой, а до того, что есть в действительности, ему и дела нет. Между тем идея бесформенности материи – только логическая абстракция. Так мыслители теоретически разделяют то, что по законам природы и истины неделимо.
– Не можете ли вы сказать это попроще?
Бруно говорил привычными для него фразами, которые он тысячу раз употреблял на диспутах и в своих сочинениях. И теперь оказывалось невероятно трудно заменять их менее схоластическими выражениями. Теперь он видел яснее, чем когда-либо, что и он, как другие, грешил склонностью к логическим абстракциям. Ему стоило больших усилий сделать все эти вещи понятными неразвитому уму Джованни. Вспышки раздражения всё учащались. По временам ему казалось, что мозг его готов лопнуть от напряжения. Но он не сдавался. Эти беседы с Джованни были как бы пробным камнем для его притязаний на конкретность мысли. И хотя он про себя ругал Джованни невеждой и тупицей, всё же он замечал, что всякий раз, когда ему удавалось просто изложить свою мысль, Джованни схватывал её налёту, сияя, выслушивал то, что ему говорилось, и проявлял умение делать все необходимые и возможные выводы.
«Не можете ли вы сказать попроще?» Эти слова стали для Бруно критерием. Хотя он по временам выходил из себя и шумел, он всегда возвращался к своей задаче. И теперь оказывалось, что урок смирения, полученный им в дни перекрёстных допросов на суде Инквизиции и тогда казавшийся ненужным, принёс ему неизмеримую пользу. Он помог ему терпеливо отнестись к новой задаче – учить любознательного Джованни. Когда Джованни чего-нибудь не понимал, это служило Бруно указанием, что он не сумел просто и ясно изложить свою мысль. Правда, он иной раз возмущался и пробовал заставить Джованни солгать, будто он понял, но из этого ничего не выходило. Ибо Джованни проявлял несокрушимую честность и не желал говорить, что понимает, если он не понимал. Вначале он раз-другой солгал, но это обнаружилось, когда Бруно начал задавать ему вопросы. После этого Джованни держался стойко, и то, несмотря на что Бруно своими колкими замечаниями насчёт его тупости доводил его иной раз до слёз, Джованни никогда больше не притворялся понимающим в тех случаях, когда мысль Бруно оставалась ему неясна.
Бруно пересмотрел все пункты своего учения, все термины и определения и вынужден был признать, что он не раз орудовал чисто логическими абстракциями и извращал естественную связь вещей. Бог, природа, начало, материя, форма, энергия, единство, первопричина, душа – он проверял теперь каждый из этих терминов и находил то самое, что он высмеивал в физике схоластов: множество гипотез вместо исследования истинной, объективной связи явлений во всей её простоте. В основу всего он положил один из своих тезисов: «Единство материи ни в коем случае не есть абстрактное тождество, здесь имеется в виду конкретное целое, заключающее в себе все различия, и динамическое бытие, производящее или осуществляющее свои собственные формы». С этим нужно было связать диалектику движения, новую форму идеи совпадения противоположностей, как пути развития.
К его радости, постепенно всё становилось ясно.
Однажды Паоло, переваливаясь, вошёл в камеру и по обыкновению швырнул на пол хлеб. Когда он нагнулся, рубашка его раскрылась на груди, и Бруно увидел, что грудь покрыта красной сыпью. Паоло перехватил его взгляд.
– Что, – фыркнул он, – красота, не правда ли? Хотел бы я знать, кто наградил меня этим. Но я не спросил у той девки, как её звать. Ей бы следовало называться «неаполитанский шанкр»[224]224
Шанкр (фр.) – венерическая болезнь.
[Закрыть]. Что, нравится? Эй, ты, веди себя прилично, иначе тебе от меня попадёт!
Он вышел, а Бруно стошнило. Он всё болел желудком, хотя в последнее время боли уменьшились, потому что Джованни почти ежедневно приносил ему молоко.
В эту ночь до него донёсся из коридора заглушённый крик, шум борьбы, шарканье ног и потом голос Паоло, в котором слышалось насмешливое торжество. Должно быть, Паоло привёл в тюрьму кого-нибудь из своих любовниц. Бруно подумал: «Хорошо было бы, если бы его накрыли и прогнали со службы». Омерзение душило его. Как этот скот посмел дотронуться до женщины, когда он заражён? Шум утих, но Бруно ещё долго лежал у стены с таким чувством, как будто его пнули ногой в сердце.
Джованни не приходил два дня. Бруно чуть с ума не сошёл от беспокойства. Еду приносил ему Паоло, но он не решился спросить у него о Джованни. Бруно знал, что, если Паоло станет известно о посещениях Джованни, он немедленно донесёт начальнику. До тех пор Бруно и Джованни удавалось скрывать свои свидания от Паоло, так как Паоло всегда проводил свободные часы вне тюрьмы, и как раз в эти часы Джованни приходил в камеру Бруно из комнат отца, находившихся в конце коридора.
– А я боялся, что вы больше не придёте, – сказал Бруно. С появлением Джованни его тревога улеглась, и он уже чувствовал себя обиженным. Но потом ему бросилась в глаза бледность Джованни.
– Я был болен, – сказал Джованни.
Гнев Бруно сразу улетучился. Он взял руку юноши. Рука была влажная, вялая, безжизненная. Джованни тотчас высвободил её из пальцев Бруно. Бруно взволнованно зашагал по камере. Потом подошёл к Джованни и в первый раз поцеловал его в лоб. (Джованни как-то раз заметил: «Я не люблю целоваться. А вы?» – и с тех пор Бруно старался не быть навязчивым).
– Как вы молоды! – сказал он. – Пожалуйста, не покидайте меня. Я умру.
Руки его не слушались, и, чтобы скрыть это, он отошёл и опять начал шагать из угла в угол. Внезапно ему пришло в голову, что так же тряслись руки у Мочениго. «Все мы одинаковы при одинаковых обстоятельствах», – подумал он с неприятным чувством. В эту минуту он прощал Мочениго.
Джованни вынул из-за пазухи листок бумаги.
– Вот, достал для вас, – сказал он грустно. – А вот и перо. – Он вынул и гусиное перо. Бруно пристально следил за его рукой. Когда Джованни расстегнул куртку, из-под неё выступила несомненно девичья грудь.
– Так... Я начинал об этом догадываться, – промолвил Бруно, удивлённый собственными словами, потому что догадка его была чем-то подсознательным. – Вы – девушка. – Теперь ему уже казалось, что он всегда знал это.
Упав на колени, она прижалась головой к его бедру и сквозь слёзы, задыхаясь, стала рассказывать о себе. Мать её умерла, когда ей было только пять лет, и отец всегда одевал её, как мальчика, сперва просто для удобства. Она привыкла носить мужской костюм, и когда отца перевели из Анконы в Рим, никто на новом месте не знал, что она девушка. Её настоящее имя было Джованна.
– Что вы думали обо мне? – спросил Бруно в новом приливе смущения.
– Я поняла. Мне хотелось вам помочь. – Джованна крепко обняла его колени и прижалась к ним лицом. – Мне всё время хотелось сказать вам правду насчёт себя... Но...
– Но что же? – спросил он задумчиво.
– Неужели вы не догадываетесь? – шепнула она. И потом вдруг: – Я вас люблю.
Он бережно поднял её и поцеловал в губы. Он сдвинул куртку с её стройного округлого плеча и поцеловал плечо тоже. Джованна расстегнула пояс и сбросила куртку. На ней не было рубашки. Бруно смотрел на неё, не помня себя от счастья. Потом вдруг из огромной пустоты испуга возникла мысль, рождённая беспомощным жестом Джованны, лёгкой нерешительностью, изгибом тела, в котором чувствовался страх. Слабость её колен, влажность ладоней...
– Это вы были с Паоло там, в коридоре, ночью?
Она подняла на него глаза с явным испугом. Он видел, что ей хотелось солгать. Но она ответила:
– Да, – и вся поникла.
– Вы...
– Он меня заставил силой. Разве я виновата? Он догадался... Вы могли бы угадать раньше, чем он... Я хотела, чтобы это были вы... Но он вас опередил...
В её голосе слышалось возмущение. Бруно оттолкнул её.
– Разве вы не знаете?.. У него дурная болезнь...
Девушка тихо вскрикнула:
– Нет, нет!
Бруно невольно отступал от неё всё дальше, словно его тащили куда-то вниз по тесному ущелью отчаяния. Фигура Джованны таяла под его ошеломлённым, непрощающим взором. Оба в эту минуту ненавидели друг друга. «Так повторяется жизнь», – подумал Бруно. Она напомнила ему Титу, и, как бы в ответ на его мысль, Джованна начала одеваться, совсем как в ту ночь Тита. Но на этот раз он не был пьян. Он был беспомощный, брошенный человек, которого поддерживала только минутная горечь.
– Чем я заслужила это? – заплакала Джованна.
Бруно уже понял, в чём дело. Паоло, очевидно, верил в распространённый предрассудок, будто от венерической болезни мужчина может исцелиться, передав её девственнице. Он проник в тайну Джованны и, пьяный, подстерёг её в коридоре и изнасиловал.
– Уйдите, пожалуйста, – сказал он резко.
Она была уже одета и только никак не могла попасть рукой в левый рукав. Она стояла, плача, неловко ища отверстие рукава, и её юная грудь выступала во всей своей трогательно чистой прелести, вызывая в душе Бруно неослабевающий ужас и желание. Он не помог ей. Вот так одевалась и Тита – ощупью, ничего не видя сквозь слёзы. Плач девушки доходил до него, как заунывная музыка откуда-то из долины. Наконец она натянула куртку. Жизнь замутилась до самого дна. Ведь в Джованне заключалась вся его жизнь. Он был испуган, но горечь в этот момент была радостью. Он хотел, чтобы она ушла поскорее. Он хотел остаться один в своём аду.
– Прошу вас, пожалуйста, уйдите.
Она вышла. Бруно тотчас осмотрел бумагу, которую она принесла, попробовал, хорошо ли очинено перо. Но у него не было чернил. Он впился зубами себе в руку так глубоко, что потекла кровь. Тогда он обмакнул в неё перо и начал писать, стремясь высказать главную свою мысль:
«Отбросим понятия Бог, душа, разум. Это – абстракции. Остаются сила и материя. И время. Относительность. Единство действия равно субстанции. Что ещё нужно? Остерегайся логических абстракций».
Он сделал новую попытку:
«Единство по природе своей активно. Бытие есть становление. Субстанция есть слияние энергии и материи во времени».
Он сильнее укусил свою руку, чтобы опять обмакнуть перо в кровь.
«Тому, кто придёт после меня. Моя ошибка. Время. Всё во всём. Но есть новые сочетания, новые значения. Разреши эту задачу. Я делал ошибку, превращая первопричину в абстракцию, для того чтобы сохранить самопроизвольность. Это неверный метод».
На бумаге не было больше места. Ему приходилось писать размашисто, так как перо было плохо очинено, и быстро, потому что кровь то переставала течь, то начинала капать на пол. Он прижал к груди прокушенную руку, чтобы, остановить кровотечение. Потом, с испугом подумав о том, как грязна его одежда, поднял рубаху и прижал рану к голому телу. Тело тоже было грязно, но казалось ему чище, чем платье. Джованни два раза приносил ему воды, и он вымылся, впервые за всё время заключения. Когда он попросил однажды священника, исповедовавшего его, чтобы он позволил принести ему воды для умывания, тот привёл слова Святого Иеронима: «Тому, кто омылся в крови агнца, нет больше надобности мыться», – и прибавил от себя:
– А тем более это относится к еретику, чья плоть – мать порока.
Возясь со своей рукой, Бруно в то же время перечитывал написанное, положив бумагу на нары. Выражают ли написанные слова его мысль? Если бы только это послание дошло до людей и было напечатано – тогда ему всё равно, какая участь его ждёт! Он решил попросить Джованну переслать то, что он напишет, Беслеру в Нюрнберг. Беслер узнал бы его руку и напечатал бы письмо, чего бы это ему ни стоило, даже в том случае, если он и не согласен с тем, что писал его учитель.
Но, перечитывая написанное, Бруно чувствовал, что оно не передаёт его мыслей. Беслер не мог бы отнестись серьёзно к этим строкам. Всё же Бруно решил попытаться отправить бумажку за стены тюрьмы, чтобы её прочитали люди. Мысли его обратились далеко на север, к Тихо Браге.
Услышав какой-то шум, он спрятал бумагу под соломенный тюфяк.
На другой день Паоло принёс ему обычную еду – хлеб и воду – и грубо шутил по поводу того, что Джованна повесилась на балке в отцовской спальне. Бруно выслушал весть о смерти девушки почти равнодушно. Она умерла для него в тот миг, когда вышла из камеры. Неделю спустя Паоло застал его врасплох, когда он прятал бумагу. Камеру тщательно обыскали и унесли перо и бумагу.
Тут только Бруно узнал настоящее отчаяние и оплакивал Джованну с болью, которая словно терзала ему внутренности, щемила измученное сердце, ножами пронзала позвоночник. Он пытался повеситься на истлевшем одеяле, привязав его к оконной решётке, но одеяло оборвалось.








