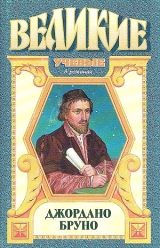
Текст книги "Адам нового мира. Джордано Бруно"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Вы должны мне помочь, – отрывисто пролаял Мочениго. – Во всём виноваты вы. Вы затеяли всё это дело.
Ошеломлённый, Чьотто не мог никак сообразить, что означает этот взрыв.
– Не понимаю... Я всегда с величайшим почтением относился к вашему роду. Я человек благонамеренный...
– Отлично понимаете, – яростно прокричал Мочениго. – Все меня обманывают, все против меня. Это вы первый заговорили со мной об этом Бруно, мерзком безбожнике, чудовищном плуте. Он меня вводит в расходы и ничего не даёт взамен.
– Нет, сначала вы со мной заговорили о том, что интересуетесь тайными науками, новыми учениями, – сказал Чьотто, немного осмелев. – Вы у меня спрашивали о книгах. А когда вы стали расспрашивать о Бруно, я вам сказал, что встретился с ним раз во Франкфурте в монастыре.
У Мочениго сверкали глаза, но он уже несколько овладел собой.
– Это всё равно, – буркнул он. – Вина будет установлена... Важно то, что он рассчитывает жить за мой счёт. Приехал и поселился у меня в доме, и я никак не могу от него избавиться. У него не было ни гроша. Я его кормлю, одел его, снабдил деньгами. А взамен ничего не получаю. Он болтает, болтает, но в этих разговорах мы всегда кончаем тем, с чего начали. Я прихожу к заключению, что он либо плут, либо помешанный.
– Я не давал вам за него никаких ручательств, – сказал Чьотто, испугавшись. (Что говорят о Мочениго? Он не то что разорён, но дела его далеко не блестящи. Никто ничего не знает наверное, но при упоминании о нём люди многозначительно усмехаются. Может быть, он сейчас попросту угрозами хочет вытянуть у него, Чьотто, деньги?) – Я только передал ему ваше поручение. Я никогда не говорил, что я знаю о нём что-нибудь, кроме заглавий его книг. Иоганн Вехель, владелец книгопечатни, отзывался о нём очень хорошо. А я его совсем не знаю...
Мочениго не дал ему докончить:
– Вы говорили, что он несколько месяцев жил в Эльге у Иоганна Гейнзеля?
– Так я слышал.
– Гейнзель посвящён в тайную науку. Значит, ясно, что этот Бруно – алхимик, делающий золото. Он говорит о своей книге «Великий ключ», которой никто не видел. Он скрывает от меня свои знания. Я так и думал. Он не шарлатан, он – лжец. Он хочет меня провести. Но это мы ещё посмотрим. Он изучает запретное. Он – мерзкий богоотступник.
– Вы всё это знали и раньше, – заметил Чьотто, окончательно испуганный. – Если, конечно, то, что вы говорите, верно.
– Ничего я не знал! – заорал Мочениго. – Я пригласил его сюда для того, чтобы он научил меня своей мнемонической системе, а между тем память у меня и теперь не лучше прежнего. Значит, он мошенник. У него на уме тайные планы. – Он вдруг пронзительно захохотал. – А вам известно, что я был асессором[118]118
Асессор (лат.) – судебный заседатель.
[Закрыть] Святой Инквизиции, а?
Чьотто кивнул головой и отступил на шаг, напрягая слух, чтобы уловить какой-нибудь звук из глубины дома. Как часто он ругал скрипучие нижние ступени и клялся их заменить. А сейчас ему страстно хотелось услышать их скрип и знать, что Фиаметта, здоровая и невредимая, ходит там, в недрах его дома. Мочениго продолжал:
– Несмотря на молодость, я достиг высокого положения, я ношу славное имя, но я не так богат, как следовало бы. Мы живём в трудное время, мир кишит выскочками. Я – добрый человек. Кто мне доверится, может на меня положиться, как на каменную гору. Но вся беда в том, что я слишком доверчив. Меня легко обмануть. А когда меня обманут, я гневаюсь, я сильно гневаюсь, Чьотто... Да, так что вы говорили относительно этой книги? Я имею в виду сочинения Кардано. Да, я много читал о нём. Его книги следовало бы запретить. Он в них возносил хвалу Нерону[119]119
Нерон (37 – 68) – римский император с 54 г., отличался жестоким, развратным поведением. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя всё римское общество.
[Закрыть].
– Это была шутка. Он ведь и Подагре тоже возносил хвалы, – возразил Чьотто, боясь, что его обвинят в продаже еретических книг. Чьотто поселился в Венеции потому, что здесь власти сравнительно терпимо относились к книгам. Но обвинение в распространении еретической литературы могло погубить его и в Венеции.
– Есть вещи, которыми шутить не следует, – сказал Мочениго с мрачной сентенциозностью. – Как я уже говорил, я был членом Святого Трибунала и знаю, какие оправдания считаются приемлемыми. Неведение – веский довод, но он редко бывает правдив, и его ещё нужно доказать. Можно, пожалуй, простить человеку обмолвку или пустую шутку, сказанную под влиянием минуты или винных паров. Уважительной причиной можно считать также сильное душевное волнение, например смертельный страх, но никак не любовное безумие или отчаяние от потери близких. А книга пишется в течение многих дней, и высказывания в ней не могут подойти под рубрику «Lapsus linguae»[120]120
«Lapsus linguae» (лат.) – «обмолвка».
[Закрыть], или «пьяная болтовня».
– Конечно, конечно, – смиренно и жалобно поддакнул Чьотто.
– Следовательно, Кардано нет оправдания. Когда я был членом Святого Трибунала, я очень серьёзно относился к своим обязанностям. Я отвергаю легкомысленную безответственность, столь обычную в наши дни. Она знаменует собой близкую гибель мира. Я ко многому отношусь терпимо. Но обмана не могу стерпеть и не стерплю. – Он уставил на Чьотто свои бегающие глаза, которые потемнели и расширились, словно от боли. – А вы какого мнения?
– О чём?
– Да об этом негодяе, разумеется. – В голосе Мочениго опять слышалось раздражение.
– Я не имею о нём никакого собственного мнения. Я знаю только, что его считают мудрым философом. Многие говорят о нём, как о неуживчивом человеке, но ко мне он всегда относился дружелюбно.
– Значит, вы с ним друзья. – Мочениго выдвинул подбородок, на котором сбоку бросался в глаза фурункул. – Пожалуй, я сделал оплошность, высказавшись откровенно, но что делать, я не умею хитрить. Вы, конечно, тотчас же помчитесь к своему другу рассказать всё, что слышали от меня. Ничего другого я от вас и не ожидаю. Я слишком доверчив и простодушен. Но, впрочем, меня тоже лучше не выводить из терпения. – Он деланно усмехнулся.
– Я ничего ему рассказывать не буду. Это не моё дело. – Чьотто задвигал кожей от усилий убедить Мочениго. – Вы – выгодный клиент и человек высокого рода. – Он попятился назад, и запах лежавшей на столе рыбы ударил ему в нос. На лестнице заскрипели ступени. «Слава Богу, Фиаметта сходит вниз». – Я знаю своё место, синьор. Этот Бруно – просто случайное знакомство.
Хоть бы Фиаметта, как она это часто делала, стала напевать, тогда он знал бы наверное, под кем скрипят ступени. Впрочем, кто же это может быть, как не Фиаметта. Фиаметта с их нерождённым ребёнком внутри. Чьотто думал о ней всё с большей нежностью. Ему так остро помнились её покорные полуоткрытые губы, вся она, тянувшаяся к нему. В эту минуту он как будто ощущал теплоту её тела. Он думал только о Фиаметте.
– У меня были кое-какие подозрения насчёт него, но так как я не знал ничего определённого, что я мог сделать?
– Ага, так у вас были подозрения?! – В голосе Мочениго прозвучало удовлетворение, торжество, но затем он заговорил тише, словно его что-то душило. Он расстегнул верхнюю пуговицу камзола, застёгнутого до самого горла. – Для вас будет лучше, если вы скажете правду. Можете, если хотите, передать ему то, что я говорил. Но не думайте, что я об этом не узнаю. – Он вплотную придвинулся к Чьотто и схватил его за плечо. – Я вам всё-таки доверяю. Я чувствую, что вы хотите услужить мне. Я редко ошибаюсь в людях. Именно потому я и становлюсь так опасен, когда бываю обманут. Мне понадобятся ваши услуги.
– Вам стоит только приказать. Всё, что в моих силах...
– Мне нужно, чтобы вы разузнали во Франкфурте, какая у Бруно там репутация. Узнайте, верят ли там в него, считают ли его надёжным человеком, который выполняет свои обещания. Разузнайте также, что говорят о нём и Гейнзеле и сохранил ли он связь с Эльгом.
Чьотто хотел спросить у Мочениго, какие обещания Бруно дал ему и, по его мнению, не выполнил. Можно будет пояснить, что, если он, Чьотто, будет знать всё, ему легче будет наводить справки. Но в выражении лица Мочениго было что-то, от чего слова замирали на губах Чьотто.
На мгновение он решил было предупредить Бруно – настолько глубокое отвращение возбуждал в нём Мочениго. Но в следующий момент осталось только одно желание – поскорее отделаться от своего посетителя. Его тянуло к Фиаметте, и он жалел, зачем отпустил на сегодня своего помощника. Лавку нельзя оставлять ни на минуту, а ему так хочется приласкать Фиаметту. Не кликнуть ли её сюда, когда уйдёт Мочениго?
– Я охотно это сделаю, – пробормотал он с лихорадочным нетерпением. – Сделаю всё, что вам угодно. Всё... – Он взволновался, уловив наверху, над лавкой, лёгкий шум. Может быть, Фиаметта ещё не вставала? Он запрет лавку и сбегает к ней, пусть соседи говорят что хотят.
– Всё, что вам угодно, – повторил он быстро, захлёбываясь, моля Бога, чтобы Мочениго наконец ушёл.
А Мочениго медлил, рассеянно перелистывал книгу Кардано, словно забыв о Бруно.
– Я возьму эту книгу, – произнёс он сухо. – Она для меня не представляет никакой ценности, но я хочу сделать кое-какие выборки, чтобы в сочинении, которое я пишу сейчас, опровергнуть утверждения этого субъекта. – Он перевернул книгу. – Она в списке запрещённых не значится?
– Конечно нет, – сказал Чьотто, хотя не был в этом уверен. – Разве я стал бы держать у себя книгу, запрещённую Святой Церковью?
Мочениго продолжал постукивать ногтем по страницам.
– На днях я прочёл забавную историю, – сказал он, насмешливо фыркая. – Из одного города варваров, высоко в Апеннинах, партия крестьян была послана в Ареццо[121]121
Ареццо – город в Центральной Италии.
[Закрыть] купить деревянное распятие, которое хотели повесить в церкви. Их направили к человеку, торговавшему статуями святых, и тот, видя, что имеет дело с невежественным мужичьём, решил сыграть с ними шутку. Когда они объяснили ему, что им нужно, он спросил, в каком виде им нужен распятый – живым или мёртвым. Тогда они посовещались и объявили ему своё решение: «Дай нам его живым, – сказали они, – а если тем, кто нас послал, это не понравится, они могут тут же убить его, вот и всё».
Он захохотал, голос его точно разбился на хриплые и грубые взрывы смеха. Чьотто, прикрыв рот рукою, на всякий случай делал вид, что смеётся тоже, не зная, как отнестись к этому новому обороту разговора. Мочениго перестал хохотать, опёрся о стол и водил глазами вокруг.
– Да, рано или поздно все мы умрём, – промолвил он серьёзно, как будто выражая этой фразой мораль рассказанного им анекдота. Взгляд его остановился на свёртке с рыбой, по которому ползала муха. Сквозь разорванную обёртку виднелся рыбий глаз.
– Мы едим для того, чтобы жить, – продолжал он. – Я заметил, что рыба хорошо действует на мозг. Память у меня быстро улучшается. Одно время я немного боялся за неё. Мне бывало трудно вспомнить, что случилось пять минут тому назад. Я беспокоился... А теперь это прошло. – Он вдруг устремился к двери и крикнул: – Джанантонио!
Мальчик появился на пороге и, сутуля плечи, застенчиво взглянул на Чьотто.
– Что ты делал там всё время?
– Ничего, – отвечал Джанантонио. – Вы ведь приказали мне дожидаться за дверью.
Мочениго вышел из лавки, оставив на столе и рыбу, и книгу Кардано. Чьотто кликнул обратно Джанантонио, который неохотно вернулся и взял покупки. Наконец лавка опустела, оставался только слабый, но навязчивый запах рыбы. Чьотто оглядел лавку, неуверенный, что всё закончилось. Затем вернулась тревога за Фиаметту, и он вышел через завешенную портьерой дверь в глубине лавки. Фиаметта с кувшином в руке шла по коридору чуть не на цыпочках, чтобы не обеспокоить покупателей. Чьотто сразу забыл все свои страхи, забыл, что хотел рассказать ей о только что пережитом. Он снова ощутил ту робость, которую внушала она ему со времени её беременности. Он не решался теперь обнимать и целовать её так, как прежде.
– Всё в порядке, милый? Тебе ничего не нужно? – спросила она, уходя в кухню.
– Нет, нет, – ответил разочарованный Чьотто и, вернувшись в лавку, стал ходить из угла в угол.
X. Карнавал
После говения началось веселье. По улицам уже ходили женщины в масках, переодетые в мужское платье. На площадках для игр, у которых останавливался Бруно, куртизанки играли с молодыми щёголями. Они были одеты в камзолы и панталоны светлых цветов – розового или голубого. Панталоны отличались от мужских какой-нибудь отделкой в женском вкусе – обилием лент или рядом блестящих пуговиц спереди, а часто и сзади. Неподалёку от Бруно какая-то пара, отсалютовав своими ракетками, начала новую партию. Некоторые женщины визжали, когда твёрдый мяч со свистом перелетал через верёвку, и, ударяя его резными ракетками, на которых были натянуты воловьи кишки, жаловались, что кожаные ручки ракеток больно натирают им ладони. Среди женщин попадались стройные, хорошо сложенные и подвижные, не уступавшие в ловкости мужчинам и даже иногда побивавшие их.
«Вот такими должны быть все женщины», – сказал про себя Бруно, наблюдая этих спортсменок и вспоминая женщин, запертых в душных рукодельных.
Жирная девка, игравшая неумело, громко взвизгнула: мяч угодил ей в живот. Она согнулась пополам, крича от боли, и при этом отлетели золочёные пуговицы на её панталонах сзади. Но женщина не заметила этого: она стояла согнувшись, держась за живот. А праздные зеваки вокруг громогласно отпускали замечания относительно надлежащего употребления ракеток.
На пьяццах, как всегда по воскресеньям и праздникам, молодёжь играла в «воздушный шар», разбившись на партии в шесть-семь человек. Игроки сбросили камзолы, и каждый надевал на руку деревянный обруч, усаженный заострёнными кверху шишками. Этими шишками они старались зацепить шар такой величины, как те футбольные мячи, которые Бруно видел в Англии. Венецианцы достигали в этой игре такого искусства, что гнали шар на сто шагов или заставляли его взлетать выше домов. Вокруг Пьяццы на стульях сидели знатные венецианцы и путешественники, знакомившиеся с городом, а за ними теснилась тысячная толпа простолюдинов, поощрявшая игроков громкими восклицаниями. Бруно заплатил мелкую монету и занял стул. Некоторое время он сидел и наблюдал. Над головами зрителей на высоких столбах бились на ветру два больших красных флага. Задремавшему на минуту Бруно показалось, что перед ним происходит сцена из какого-нибудь древнего мифа – борьба богов и гигантов за солнце, которым они перебрасываются, как мячом. Очнувшись, он встал и ушёл с Пьяццы.
Он поймал себя на том, что заглядывается на всех женщин, проходивших мимо. Почему-то казалось, что он встретит сегодня ту Лукрецию, у которой был ночью с немцем. Он плохо помнил, что произошло у неё в комнате, и, если бы он знал её адрес, он сходил бы к ней. «Как странно, что я живу аскетом, когда меня так влечёт к женщинам, – подумал он. – И в Венеции это ещё более странно, чем во всех других городах мира. Здесь стоит только протянуть руку... а я не могу её протянуть».
Улицы кишели гуляющими в маскарадных костюмах. Каналы были запружены гондолами, покачивавшими на своих подушках влюблённые пары. Отовсюду раздавались звуки лютни.
– На мне не осталось ни одного греха! – твердила нараспев полупьяная девушка где-то за спиной Бруно.
– Неправда, – возразил мужской голос. Слышно было, как они боролись, как тяжело и шумно дышала девушка. Потом она сказала:
– Что ж, это твой грех, а не мой.
– Скажешь это повитухе, – отозвался мужчина.
Обернувшись, Бруно увидел его широкие плечи и красную физиономию, мелькнувшие в окне... Рядом шёл матрос под руку с девушкой в зелёном плаще и говорил:
– В Турции никто не смеет одеваться в зелёное. Флажки, ленты, крикливо-яркие юбки, обнажённые руки и плечи, уродливые и смешные маски, кроваво-красные губы; длинные серьги, бубенчики, гирлянды вихрем кружились по улицам весь день. Мимо Бруно прошла девушка с причёской в виде двух сердец, соединённых вместе пронзавшими их стрелами. Вместо стрел в волосы были воткнуты веточки из алого шёлка.
Бруно чувствовал себя одиноким и чуждым всему. Он словно пытался устоять перед стремительным напором горного потока, перед разливом весны. Против чего он борется? Ведь не против же счастья всех этих людей? Он хочет видеть их счастливыми. Не против символов Пасхи? Ведь он тоже верует, что вся жизнь на земле – умирание и воскресение? Может быть, его смирение – лишь новая форма тщеславия, которое надо преодолеть, его целомудрие – лишь последнее искушение, через которое он должен пройти? Все эти вопросы настигали его, как бурливший вокруг поток жизни, переходивший в игру. Но то, что открывало беспечные губы для поцелуев и смеха, для него было лишь источником новых напряжённых размышлений. Не были ли его пьянство, его влечение к женщинам, его философия наглядным разрешением тех противоречий, которые изо дня в день терзали его? Бессвязные фразы мелькали у него в голове: «Я – Ирод, убивающий невинных младенцев». «Я – отверженное дитя, рождённое под звездой, указывающей путь». «Я – Гавриил, и из чресел моих выпорхнет сейчас стая голубей». «Я – Мария с благословенным чревом, и ничего мне больше не надо».
Отчего вокруг всё так гадко, низменно, несовершенно? Ему казалось, что все жесты и хохот направлены по его адресу. Он один среди этих веселящихся людей, и оттого их смех бьёт в него струёй, стрелы чужой воли впиваются ему в сердце. Чем он отличается от других людей? Он ест, испражняется, любит женщин, дышит, смеётся, плачет так же, как они. Посещавшие его мысли о космическом единстве не его личное достояние. А тело у него во всём такое же, как у людей, которые отвергают его и которых он благословляет, когда они произносят это отречение смеющимися губами. Или он околдован, обманут призраками, платоническими идеями, созданными его воображением? Если его мысли верны, они должны влиться в жизнь вокруг, влиять на эту жизнь, преображать её, управлять ею. А между тем он, Бруно, как будто живёт в мире призраков. Вот это теперь его мучило. С тех пор как он возвратился в Италию, эта мысль не давала ему покоя. Должно быть, он раньше надеялся, что стоит ему только вернуться на родину, как полностью осуществится всё, и он узнает дивную радость участия в общей жизни. Должно быть, пока он скитался в изгнании, он ещё способен был мириться с отсутствием такого единения, но на родной земле это стало для него нестерпимо.
«Надо будет усерднее работать над книгой, которую я предназначаю для Папы», – мысленно обещал он себе.
Он смотрел на девушку, которая поправляла подвязку, и только когда она, встретив его взгляд, покраснела, он вдруг очень удивился тому, что наблюдает за ней. «Вот оно, чудовищное безумие нашей стыдливости, – подумал он. – Почему мы прячем от дневного света себя таких, каковы мы в действительности?» Ему вдруг стала ясна связь между отвлечённым мышлением и чувством стыда, между стремлением вуалировать факты в мыслях и стремлением прикрывать тело. Он прислонился к стене и провёл рукой по лбу. Многому ещё надо научиться, от многого отвыкнуть. Ни одна мысль не потрясала его так, как потрясло новое открытие. Оно наносило удар самой основе общепринятого мировоззрения. Сколько ещё других ложных понятий, возмутительно уродующих жизнь, действует в человеке? Как их выявить и уничтожить? Для этого нужно долго – ох, как долго и терпеливо! – разбираться в их происхождении. Он наконец увидел в перспективе дело своё: увидел, как насильно возвращал жизнь назад, на утерянный верный путь, выворачивая наизнанку псе общепринятые теоретические понятия.
Но это объяснение его не удовлетворило. Абстрактные идеи, заблуждения не возникают сами по себе. Скрытый за ними закон надо обнаружить, это будет огромной услугой истине. Ибо такой двойной процесс отвлечённых размышлений и физического стыда и страха, должно быть, имеет глубже скрытые ответвления!
Бруно поймал какую-то девушку, столкнувшуюся с ним, и с исступлённой жадностью поцеловал в беззащитные губы. Девушка ударила его. То же самое сделала её подруга с напомаженными чёрными волосами. Бруно выпустил девушку и, шатаясь, вернулся к своему месту у стены. «Боже, наконец я выздоравливаю!» Он чувствовал в себе силы начать всё сначала.
Он вытащил из-за пазухи розовый шёлковый платок и отёр лоб. Снова перечёл надпись на платке: «Der Herr ist mein Trost»[122]122
«Der Herr ist mein Trost» (нeм.) – «Господь – моё утешение».
[Закрыть]. «Больше похоже на вышитый чепрак, чем на носовой платок», – подумал Бруно и вспомнил фрау Вольф в Виттенберге, которая со слезами подарила ему этот платок.
На одном из городских бульваров разыгрывалась маскарадная пьеса, но Бруно решил, что не стоит идти смотреть её. Мимо прошло несколько купцов, не обращая внимания на толпу. Бруно слышал, как они говорили между собой о квинталах[123]123
Квинтал (фр.) – единица массы во многих странах Латинской Америки, Испании, Португалии. В большинстве стран составляет 46 кг.
[Закрыть] перца и корицы. Увидев перед собой в эту минуту двери какой-то церкви, Бруно пробрался сквозь толпу и вошёл внутрь. В церкви тоже было шумно и тесно, но он нашёл свободное местечко подле купели и прислонился к колонне, думая о том, что он узнал, когда наводил справки о новом Папе.
Кардинал Сан-Катро. Конклав[124]124
Конклав (лат.) – совет кардиналов, собирающийся для избрания Папы после смерти его предшественника.
[Закрыть]. Воскресное богослужение. Речь епископа Бергамского. Впрочем, результат выборов зависит главным образом от тех, кто снабжает кардиналов, собранных здесь, кто доставляет им все блага жизни, в то время как на них нисходит святой дух. Представители городов интригуют, наставляют своих сограждан. Остальные прелаты и послы насторожённо гудят вокруг.
Вторник, середина дня. Сан-Катро получает в одной урне двадцать два, в другой – двадцать восемь голосов. Выборы заканчиваются через двадцать три часа. Церемония преклонения. Папу ведут в капеллу Паулины, а оттуда – в собор Святого Петра, где он принимает имя Иннокентия IX.
В одном частном письме, в котором сообщалась эта новость, было сказано: «Всё произошло так быстро, что выбор этого Папы, совершенно очевидно, дело рук Божиих. Ну, а на земле ответственность за этот выбор должен нести кардинал Мендоса, глава испанской партии».
Новый Папа, Иннокентий IX, был хилый семидесятитрёхлетний старик, но можно было рассчитывать, что он проживёт ещё несколько лет. Человек он был миролюбивый, еретиков не преследовал. Он усыновил своего племянника, заботился о подвозе запасов хлеба в Рим, объявил, что истребит бандитов, которыми так и кишели папские владения, словом, начало было многообещающее.
Бруно устало поднимался по ступеням дворца Мочениго. Он знал, что сейчас опять начнётся всё тот же бесполезный спор между ним и Мочениго. Это было хуже, чем жить со сварливой женой. Словно в наказание ему за то, что он не сумел сохранить прочную связь ни с одной женщиной. Но в таком случае почему же он не уходит отсюда? Неудобно уйти от Мочениго и оставаться после этого в Венеции, а уезжать из Венеции ему ещё рано. Если он окончательно порвёт с Мочениго, то и Падуя, как часть венецианской территории, для него будет закрыта. Потому что Мочениго, несомненно, разозлится, а нищему философу ссориться с Мочениго на территории Венецианской республики опасно.
Да, переселившись в дом Мочениго, он связал себя с этим человеком и порвать с ним может только тогда, когда будет готов уехать окончательно. Пожалуй, не следовало ему возвращаться сюда из Падуи; но ему невыносимо надоело учить желторотых студентов. В один прекрасный день, когда ему вздумается, он просто-напросто, ни слова не говоря, выйдет из дворца, сядет на утреннюю баржу и навсегда покинет Венецию. Но пока необходимость пользоваться поддержкой Мочениго создавала между ними некоторую психологическую связь, которую Бруно уже принимал как должное. Связь эта вызывала у Бруно какой-то непонятный задор, который он с болезненным удовольствием ещё разжигал в себе. Выдали эта зависимость просто следствием необходимости или необходимость была только кажущейся, только предлогом, чтобы оправдать отношения с Мочениго?
Он отмахнулся от этого вопроса. Смешно спрашивать себя, не хочет ли он оставаться здесь с Мочениго. Но всё же в этом человеке есть что-то такое, что привлекает его. Даже тогда, когда Мочениго бывает ему ненавистен, он словно сулит ему переживания, по которым он томится. Но какого рода переживания? Ощущение близости, какого не может дать никакое женское тело, товарищеского единения, которого он не находил нигде. Как легко было бы стать добрым христианином, объявить мир греховным, твердить за Лютером и Августином[125]125
Августин Блаженный Аврелий (354 – 430) – христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории (сочинение «О граде Божием»), развил учение о благодати и предопределении. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западно-европейской философии и католической теологии вплоть до XIII в.
[Закрыть], что общество – это Божья кара, это чистейшее зло и проклятие, но оно священно постольку, поскольку заставляет человека искупать свои грехи. По крайней мере, в таком мировоззрении всё ясно. Оно нравилось Бруно больше, чем неопределённые компромиссы и бесплодные споры, например, о том, от Бога ли власть царская или от людей? А если от людей, то есть ли она дар вечный и неотъемлемый? Пустые вопросы, конечно. Власть есть власть. И характер её меняется тогда, когда старую сменяет новая, а вовсе не под влиянием изложенных на бумаге теорий о том, как должен быть устроен мир. Впрочем, идеи имеют влияние, но не такое, как думают люди, порабощённые фальшивой логикой. «Вот эту задачу моя диалектика ставит и почти разрешает», – подумал Бруно. Гордость взыграла в нём, но её быстро сменило уныние. Он предвидел неизбежную ссору. «Нет, это я виноват, я пустой болтун».
Он заметил Джанантонио, который занимал наблюдательный пост на галерее, и направился к нему. Они были в хороших отношениях с того вечера, когда случайно остались вдвоём и у мальчика развязался язык: он рассказал Бруно о своём многострадальном детстве на маленькой ферме, о том, как мать его умерла, когда отец уехал на базар, и солдаты на лошадях потоптали им все посевы. Он убежал, а когда вернулся, мать лежала под плетнём, истекая кровью. Но она и до этого кашляла кровью. После смерти матери отец каждый вечер бил его, потому что дела шли плохо, особенно с тех пор как он задолжал священнику. Но однажды Мочениго увидел его на дороге и откупил у отца. Джанантонио не знал, сколько Мочениго заплатил отцу, хотя он и пытался подсмотреть сквозь щель в дверях.
– Как вы думаете, часть денег следовало получить мне?
– Не часть, а всё.
Джанантонио расчувствовался и, положив голову на колени Бруно, стал говорить о том, как ему противно принадлежать Мочениго.
– Но ко всему привыкаешь, – промолвил он с недетской серьёзностью, привлёкшей к нему сердце Бруно.
– Они вам наделают неприятностей, – предостерёг он как-то Бруно.
– Кто?
– Да эти трое. Они злые, скверные, – сказал Джанантонио, наморщив брови. – Если бы вы только знали, что каждый из них проделывает за спиной у другого! Я уже перестал их бояться. Мне теперь всё равно, что бы они со мной ни сделали. Пьерина, по-моему, хуже всех. Вчера она бранилась с ним из-за вас. Она говорит, что вы мошенник. А он вам нравится? – Нижняя губа у Джанантонио беспомощно задрожала.
– Нет, – ответил Бруно и ушёл размышлять наедине.
Сейчас он смотрел на Джанантонио, пока тот с оглядкой пробирался к нему, по дороге хватаясь рукой за выцветшие тканые шпалеры, которые шевелил ветерок. «Вот так он, должно быть, крался вдоль плетня, под которым лежала его мать, и видел, как лилась у неё изо рта кровь на костлявую грудь», – подумал Бруно. Ему вспомнилась женщина в придорожной харчевне, которой нечем было накормить его, когда он, смертельно усталый, остановил лошадь у её дверей. «Солдаты забрали последнего каплуна и последний каравай хлеба, – сказала женщина, – но я не могу допустить, чтобы вы легли спать не ужинав!» И она нацедила для него чашку молока из своих полных грудей. Славные груди, щедрые, как мать-земля. «В них молока хватает и для моего малыша и для чужих», – промолвила женщина, трясясь от громкого смеха, и рассказала гостю, как ей с месяц тому назад приходилось сосать грудь соседки, ребёнок которой умер. Молоко свёртывалось, и несчастной матери грозила смерть, нужно было как-нибудь освободить её от него. «Вот я и пила его. Первый раз набрала в рот и сразу выплюнула, ну а потом думаю: зачем же пропадать хорошему молоку?» Бруно вспомнил её большие налитые груди, великолепные в своём милосердии и бесстыдстве.
Он смотрел, как бледный Джанантонио крался по тёмной галерее. Бруно стал разглядывать рисунок на вылинявших шпалерах. Рисунок этот изображал беседку Армиды[126]126
Армида – героиня поэмы Т. Тассо «Освобождённый Иерусалим».
[Закрыть]. Казалось, воспоминания о жестокости и несправедливости, запечатлённые на бледном лице мальчика, стирали выцветший рисунок красивой беседки, в которой распевали искусственные птицы поэтической фантазии.
Бруно размышлял:
«Того душевного успокоения и ощущения надёжной связи с людьми, которых я ищу и которых не даёт мне ни логика Николая Кузанского, ни гибкое тело Титы, мне, конечно, не найти и в цепких руках этого красивого мальчика. И не потому, что я человек с предрассудками. Но всё дело в том, что я утратил всякое любопытство. Со мной делается что-то неладное, здесь я исцеления не найду».
Он отошёл в угол и прижался лбом к оконному стеклу. У него опять стало так тяжело на душе, что он чуть не заплакал. Джанантонио подошёл ближе, на его белом лице застыло напряжённое и хмурое выражение. В жаркие летние ночи (как он рассказал Бруно) ему приходилось сидеть у постели Мочениго и обмахивать его веером до наступления предрассветной прохлады. Если его одолевал сон, Мочениго начинал метаться от жары, просыпался, – и тогда Джанантонио ждала порка. Но он боялся только одного: чтобы Мочениго не отослал его обратно в деревню.
– Ты ел маринованные померанцевые цветы, – сказал Бруно, улыбаясь и вспоминая Титу, которая очень гордилась своими маринадами. Как это вышло, что он утратил способность враждебно относиться к людям? То, что он больше неспособен ненавидеть, – опасная слабость. Он перестанет остерегаться, может попасть в ловушку. Он видел, что Джанантонио опять хочет о чём-то его предупредить.
– А я поймал голубя, когда вас не было дома.
– Где же он?
– Пьерина его жарит.
– Вы с ней, кажется, очень подружились?
Лёгкая краска выступила на тонко очерченном лице мальчика.
– Нет...
Бруно погладил его по волосам. Ему было жаль этого ребёнка, которого так обидели и развратили. Страдания отдельных маленьких людей, которые случайно оказались в нашем окружении и за которых поэтому мы как бы несём известную ответственность, трогают нас бесконечно больше, чем страдания миллионов вне этого круга. Мир огромен, непонятно жесток, а мы во всём себя ограничиваем и тревожим себя мечтами о жизни в каком-то загробном мире.
Он положил руку на грудь Джанантонио и почувствовал, как сильно бьётся сердце мальчика.
– Ого! У тебя сердце прыгает, как у кардинала, который надевает чулки Папы, – сказал он вслух.
– Я вас поджидал, – начал Джанантонио и сразу умолк. Потом стал рассказывать о лотерее: – У Пьерины было пять билетов, а она не выиграла ничего. Её ужасно бесит то, что деньги истрачены напрасно, но она не может удержаться от игры. Бартоло говорит, что ожидание перемалывает все её внутренности в фарш, а она не может этот фарш попробовать. – Джанантонио захихикал. – Бартоло всегда говорит смешные вещи. А выигрыш – шесть тысяч цехинов[127]127
Цехин (ит.) – старинная золотая венецианская монета.
[Закрыть]. Посмотрели бы вы, как народ валил покупать билеты! Они хватали эти билеты, как работники фермера хлеб с маслом. Это говорит Бартоло. «Не унывайте, заложите свои воскресные чулки и покупайте лотерейные билеты!» – вот что он твердит всем и каждому.








