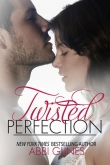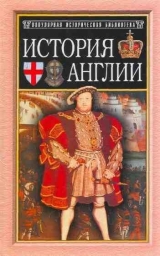
Текст книги "История Англии от Чосера до королевы Виктории"
Автор книги: Дж. Тревельян
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
О значении купечества свидетельствуют памятники купцов в приходских церквах (изображающие их в не менее достойном виде, чем изображались на памятниках дворяне), а под ними барельефы их выстроившихся в ряд коленопреклоненных сыновей и дочерей с жабо на шее и надписи, увековечивающие учрежденные ими больницы, богадельни или школы. Общество становилось смешанным настолько, что даже содержатель театра мог рассчитывать на посмертную постановку его бюста в церковной ограде, если он нажил себе состояние и прожил в своем родном городе на положении почетного гражданина.
После купцов Гаррисон ставит йоменов:
«В большинстве своем они были арендаторами у дворян; и благодаря скотоводству, торговле на рынках и наемным слугам (не лентяям, которые ведут себя, как джентльмены, но таким, которые могут заработать на свою собственную жизнь и отчасти на жизнь своих хозяев) они богатели настолько, что многие из них были в состоянии покупать и действительно покупали земли у расточительных дворян и часто устраивали своих сыновей в школы, университеты и в Судебное подворье; или же оставляли сыновьям достаточно земли, с которой они могли бы жить, не работая, и таким образом давали им возможность стать джентльменами».
И до настоящего времени почти во всех районах Англии в сельских местностях сохранились многочисленные строения – не только большие дворцы Елизаветинской эпохи, но и более скромные здания в стиле архитектуры Тюдоров и ранних Стюартов, занятые теперь фермерами-арендаторами; эти здания когда-то были господскими домами мелкого дворянства или домами йоменов – свободных держателей, которые по своему экономическому положению во многих случаях стояли не ниже дворян. Эти дома свидетельствуют о том, что за период от Елизаветинских времен и до Реставрации (1660 год) число мелких сельских дворян и йоменов – свободных держателей – возросло за счет уменьшения огромных имений феодальной знати. Это был великий век для сельского среднего класса.
После купцов и йоменов идет «четвертый и последний слой населения» – класс наемных рабочих, живущих заработной платой в городе и деревне.
«Что касается рабов или крепостных, то у нас нет ни одного», – гордо вставляет Гаррисон и хвалится привилегией жителей нашего острова – тем, что всякий ступивший на него человек становится таким же свободным, как и его хозяин. Этот принцип, по которому прикосновение к земле Англии несет с собой свободу, был через два столетия распространен даже на негров лордом Мэнсфилдом, его известным приговором по делу сбежавшего раба Сомерсета.
Но хотя класс наемных рабочих теперь был свободен от всех признаков рабского положения, он «не имел ни голоса, ни авторитета в государстве», – говорит Гаррисон; «и все же они [наемные рабочие] не были в совершенном пренебрежении, потому что в больших городах и в городах, имеющих самоуправление, при недостатке йоменов приходилось пополнять состав присяжных такими «маленькими» людьми. В деревнях они обычно были церковными сторожами и констеблями и зачастую носили звание старшин». Этот принцип демократического самоуправления существовал даже среди крепостных землевладельцев средневековья. Он строго проводился в местном уголовном суде графства или в манориальном суде. В местном уголовном суде графства также сообща обсуждали и решали, какова должна быть в дальнейшем политика в отношении открытых полей и общинных пастбищ. Английский крестьянин не только имел права, но и нес определенные обязанности в обществе, членом которого состоял. Многие находились постоянно в большой нужде, а некоторые были жертвами притеснений, но дух независимости был присущ всем классам общества при старой системе держания земли, пока система огораживания полей в XVIII веке не разрушила деревенскую общину.
Другим признаком наличия у английского простолюдина чувства собственного достоинства и самоуверенности было обучение военному делу. Лишь после Ватерлоо, в течение долгого периода мира и безопасности, стало складываться убеждение, что освобождение от военного обучения для целей обороны является частью английской свободы. Во все предыдущие века преобладала противоположная, более разумная точка зрения. В позднее средневековье национальное искусство стрельбы из лука и обязанность служить в милиции города или деревни воспитывали в народе дух независимости, что (как отмечали Фруассар, Фортескью и другие писатели) было специфически английским явлением. Так было во все время царствования Елизаветы, хотя лук уступил место мушкету или ружью.
«Разумеется, – пишет Гаррисон, – за небольшим исключением, вАнглии нет такой бедной деревни (как бы мала она ни была), в которой не нашлось бы всего необходимого, чтобы полностью обеспечить боевым снаряжением по крайней мере трех-четырех солдат: одного стрелка из лука, одного с ружьем, одного с пикой и, наконец, одного с алебардой. Указанное вооружение и обмундирование хранятся в нескольких местах, выделенных с общего согласия всего прихода, где его всегда можно легко получить, не позже чем через час после того, как оно будет затребовано». В 1557 году вновь была учреждена должность военного чиновника графства – лорда-лейтенанта, который заменил шерифа в качестве начальника и организатора народной милиции в каждом графстве. Он и его подчиненные производили частые смотры воинов, вооружения и обмундирования. Вследствие бережливости Елизаветы расходы оплачивались, насколько это было возможно, за счет местных ресурсов и путем добровольных взносов, но тем не менее система действовала. Восстание северных графов былоподавлено без боя благодаря тому, что 20 тысяч вооруженных и обученных милицейских ополченцев быстро, по первой тревоге, были собраны в боевой готовности на защиту королевы и протестантской религии. Вдвое большее число было собрано, когда к нашим берегам приблизилась испанская Армада, а на ежедневные смотры собиралось большое число ополченцев даже после того, как опасность уже полностью миновала. В Англии не было регулярной армии, но страна не была беззащитной. Каждый округ должен был поставлять определенное число обученных и вооруженных людей для народной милиции; каждый имущий должен был выставить одного или несколько человек. И хотя лишь отчасти добровольно, а отчасти и принудительно, но население полностью выполняло свой долг по отношению к государству.
Такая система была совершенно неудовлетворительна для заморских военных операций; и действительно, в период между Столетней войной и временем Кромвеля некоторое доверие на континенте завоевали лишь те английские воинские части, которые служили в регулярных войсках в Голландии или в других странах.
Хорошо, что испанские испытанные воины не высадились на острове. Дело в том, что английская милиция уже не имела прежнего военного превосходства перед другими странами, которое некогда давал ей лук. В течение всего царствования королевы Елизаветы мушкетеры и стрелки из арбалета постепенно вытеснили стрелка из лука, по мере того как ружье – некогда столь уступавшее луку в умелых руках -приобретало все большую дальнобойность и скорострельность и возрастала пробивная сила его пуль. В начале царствования Елизаветы даже хорошо снаряженная лондонская милиция большей частью состояла из стрелков из лука, но лучшие воинские части уже состояли из стрелков с огнестрельным оружием и воинов с тяжелыми пиками. Спустя поколение, во время вторжения Армады, никто из 6 тысяч обученных людей лондонской милиции не носил лука; такое же положение было и во многих южных графствах. В 1595 году Тайный совет издал приказ о том, чтобы лук никогда больше не применялся на войне как оружие; таким образом, одна большая глава английской истории закончилась.
В области спорта замена лука огнестрельным оружием совершалась медленнее. Даже в 1621 году архиепископ Кентерберийский имел несчастье, целясь на охоте из лука-самострела в оленя, вместо него убить своего лесника. Но в это же время многие спортсмены уже употребляли охотничьи ружья, в особенности при охоте на дичь, хотя «стрельба влет» все еще рассматривалась как своего рода ловкий фокус.
Порядок, поддерживавшийся в королевстве Елизаветы, несмотря на религиозные раздоры и внешние опасности, был результатом власти короны, осуществлявшейся через Тайный совет – фактически правящий орган тюдоровской Англии – и через Прерогативные суды, представлявшие юридическую власть Совета. Эти суды – Звездная палата Советы Уэльса и Севера, Канцлерский суд и церковный с Высокой комиссии (все, кроме Канцлерского суда) бы впоследствии уничтожены парламентской революцией времена Стюартов, потому что они были соперниками судов обычного права и потому что эти суды с их следственным порядком судопроизводства и с их открытым пристрастием к решениям в пользу королевской власти представляли опасность для личной свободы. Однако во времена Тюдоров именно эти Прерогативные суды отстаивали гражданские свободы англичан, добиваясь уважения к закону, а также отстаивали английское обычное право, создавая возможность (и принуждая) применять его без страха и без пристрастия. Тайный совет и Прерогативные суды положили конец терроризированию судей и присяжных местной чернью и местными магнатами; это восстановление свободы функционирования системы присяжных в обычных делах было большой заслугой перед обществом, заслугой, которая значительно превосходила такие отрицательные моменты в деятельности Тайного совета, как его случайные вмешательства в сложные политические дела. Таким путем обычное право и его суды были спасены тем самым юридическим органом, который был их соперником. Кроме того, Прерогативные суды ввели много новых правовых принципов, лучше отвечавших духу нового времени, – принципов, которые в конце концов легли и основу законов страны.
В других странах старое феодальное право не являлосьстоль хорошей юридической системой, как обычное право средневековой Англии, и поэтому не могло быть приспособлено к потребностям нового общества. Именно поэтому феодальное право в Европе и вместе с ним средневековые «свободы» Европы были сметены в эпоху «рецепции» римского права, которое было законом деспотизма. В Англии ж средневековое право – в основном законы о свободах и личных правах – было сохранено, модернизировано, обновлено, дополнено, расширено и, главное, внедрялось Тайным советом и судами «тюдоровского деспотизма» так, что и старая правовая система, и старый парламент сохранились и перешли в новую эпоху обновленными.
Точно так же и в области государственного управления Тайный совет Тюдоров сочетал старое с новым, местную свободу с государственной властью. Воля центральной власти распространялась на местные власти путем использования наиболее влиятельных местных дворян в качестве королевских мировых судей, а не так, как было во Франции, где вместо местного дворянства для управления провинциями посылались из центра чиновники-бюрократы и королевские интенданты, а местное дворянство оставалось в стороне. Английские королевские мировые судьи принимали участие во всех областях управления, они были у Елизаветы «слугами на все руки». Они не только проводили государственную и церковную политику королевы, но и занимались разрешением мелких судебных дел и выполняли все обычные функции местного управления, включая введение нового закона о бедных, статута о ремесленниках и регулирование заработной платы и цен. Эти вопросы не могли быть разрешены сами собой по принципу невмешательства и не могли быть оставлены на произвол местных властей. Они регулировались парламентскими статутами на основе широко применявшихся государственных принципов, и мировые судьи должны были следить за тем, чтобы в каждом графстве руководствовались этими статутами. Если мировые судьи были медлительны в исполнении этих трудных обязанностей, то бдительное око Тайного совета следило за ними и его длинная рука скоро добиралась до них.
Мировые судьи еще не имели законодательных функций, как во времена Ганноверов. Власть землевладельцев-феодалов и местные интересы находились под благотворным наблюдением центральной власти, заботившейся обо всем народе.
В этом отношении нет ничего более характерного для государственного строя времен Елизаветы и первых Стюартов, чем мероприятия по обеспечению бедных и безработных. В целом это время (1559-1640) было лучшим, чем время царствования первых Тюдоров, но и оно характеризовалось периодически повторяющимися бедствиями. Хотя жалобы на сельскохозяйственную разруху и на огораживания, сокращавшие сельское население, раздавались теперь менее громко, рост промышленности в сельских областях сопровождался периодической безработицей, особенно при «домашней системе», которая господствовала тогда в большей части промышленности. При фабричной системе производства, которая все еще была в зачаточном состоянии, капиталист-работодатель часто имел возможность и стремился сохранить свои предприятия на полном ходу в течение возможно долгого времени и даже в плохие годы накапливал запасы товаров, которые надеялся реализовать, когда времена улучшатся. Но рабочий на дому менее способен продолжать вести дело, когда спрос на его изделия падает. Всякий раз, когда при Елизавете бывали плохие времена, как, например, в период ссоры с испанскими правителями Нидерландов, приведшей к закрытию Антверпена для английских товаров, рабочие нашей суконной промышленности были вынуждены волей-неволей бросать свои станки, поскольку при таких условиях купцы не покупали у них сукно и не снабжали их сырьем. Периодическая безработица характерна для суконной промышленности даже в течение того периода, который в целом был периодом большого роста этой промышленности.
Чтобы удовлетворить такие неотложные потребности, на основе закона о бедных был проведен целый ряд экспериментов и издана серия указов. Эти указы проводились в жизнь на местах мировыми судьями под строгим наблюдением Тайного совета. Тайный совет имел здравый взгляд на интересы бедных, с которыми были так тесно связаны интересы общественного порядка. Теперь уже больше не было банд «закоренелых нищих», терроризировавших честных людей во времена Генриха VIII. Принудительный налог в пользу бедных теперь взимался с возрастающей регулярностью. Из этого фонда не только выдавали пособие бедным, но надзиратели бедных в каждом приходе были обязаны покупать сырье, чтобы обеспечить безработных работой, а именно: «надлежащий запас льна, шерсти, пеньки, ниток, железа и другого материала, чтобы посадить бедняка за работу» (Статут 1601 года).
Точно так же и во времена голода, как, например, в период нескольких неурожайных лет (1594-1597), Тайный совет, действовавший, как всегда, через свой орган – мировых судей, – регулировал цену на зерно, следил за тем, чтобы оно ввозилось из-за границы, и распределял его по местам, наиболее пострадавшим от голода. Несомненно, что как закон о бедных, так и снабжение питанием во времена голода были несовершенны и принимали в разных областях разные формы, но принудительная государственная система уже существовала и в теории и на практике; обеспечение бедных теперь было лучше, чем когда-либо в старой Англии, и лучше, чем когда-либо для многих поколений во Франции и в других европейских странах.
Судебная, политическая, экономическая и административная власть мировых судей была так разнообразна и в совокупности так значительна, что они сделались самыми влиятельными в Англии людьми. Часто их выбирали в парламент, где они могли выступать как опытные критики законов и политики, которыми сами руководствовались в своей деятельности. Они были слугами королевы, но она их не оплачивала и они от нее не зависели. Они были сельскими джентльменами, живущими в своих собственных поместьях на свои собственные доходы. В конечном счете они больше всего ценили доброе мнение своих соседей, джентри и населения графства. Поэтому в тех случаях, когда сельское дворянство было в сильной оппозиции к государственной и религиозной политике короля, как это случалось иногда во времена Стюартов, королевская власть уже не имела другого аппарата управления в сельских местностях. Так обстояло дело, например, в 1688 году, но, конечно, в 1588 году такого положения еще не было. Некоторые из дворян, особенно на севере и западе, не одобряли елизаветинскую политику Реформации, но огромное и все более возрастающее большинство их класса благосклонно относилось к новой религии, и мировые судьи, придерживавшиеся этих убеждений, могли быть использованы правительством для обуздания и даже ареста их наиболее упорствующих соседей. Если бы такое насилие совершалось оплачиваемыми чиновниками, присланными из Лондона, они были бы приняты более враждебно местным общественным мнением и их услуги обходились бы казне королевы гораздо дороже.
Глава VII Англия времен Шекспира (Продолжение)
Говоря о морских путешествиях, открытиях, музыке, драме, поэзии и о многих других сторонах общественной жизни, можно с уверенностью назвать шекспировскую Англию золотым веком – веком гармонии и творческой силы. Но религиозная жизнь того времени представляется на этом фоне более мрачной, малопривлекательной и, конечно, менее гармоничной. Исключая «прозорливого Гукера», нет другого крупного имени, которое вставало бы в памяти в связи с религией времен Елизаветы. Однако, вспоминая судьбу, выпавшую в те годы на долю Испании, Франции, Женевы, Италии и Нидерландов и обусловленную религией, мы с полным основанием можем быть довольны тем, что в Англии церковные раздоры сдерживались политикой королевы и здравым смыслом большинства ее подданных – светских и духовных – и что религиозному фанатизму никогда не давали волю сводить на нет или извращать деятельность современников Елизаветы. Кроме того, эта отрицательная сторона не была единственной характеристикой религиозной жизни века Шекспира. Надо иметь в виду, что и сам Шекспир, и Эдмунд Спенсер были детьми своего времени и жили в его религиозной атмосфере, точно так же, как и поэты других веков – Ленгленд, Мильтон, Вордсворт и Браунинг, – каждый из них был продуктом и высшим выражением религиозной философии, характерной для соответствующей ему эпохи. Среди современников Шекспира было много неистовых пуритан и приверженцев Рима и много ревностных сторонников англиканской церкви, но было в это время и нечто еще в большей мере типично елизаветинское, а именно отношение к религии, которая не была прежде всего католической или протестантской, пуританской или англиканской, чуждалась каких-либо догм, но глубоко коренилась в душе. Это было присуще и Шекспиру, и самой королеве.
Первые годы царствования Елизаветы характеризовались в каждом приходе кризисом в сфере общественной жизни. Наследие Кранмера потомству – английскую «Книгу Общих молитв» -снова было приказано читать вместо отправления католической службы на латинском языке. Но это изменение в религии не сопровождалось соответствующим изменением состава приходских священников. Из восьми тысяч духовных лиц, получавших бенефиции, были смещены не больше двухсот. Священник подчинился закону, как необходимости, и его соседи, такие же послушные, не осуждали его за это. Если он был человеком средних лет, то он уже привык менять свою религиозную деятельность по приказанию существующих властей. В некоторых случаях он был бывшим монахом или нищенствующим проповедником, которому были хорошо знакомы многочисленные варианты религиозных экспериментов. В год, когда королеве Марии наследовала ее сестра, обычный средний священник редко был убежденным протестантом, но у него не было и почтения к авторитету папы; ему была чужда идея полагаться на «свое суждение», и если он искренне хотел повиноваться «церкви», то где же мог он услышать ее голос? Его приучали верить, что этот голос исходил из уст монарха, а в 1559 году никакого другого голоса не было слышно. Признавать религиозные службы и учения потому, что они были предписаны королевской властью, парламентом и Тайным советом, представлялось духовенству не только удобным, но и безусловно правильным.
Таково было отношение к религии, которое провело англичан через этот опасный век перемен. Оно противоречит нашей современной точке зрения о религиозной и личной свободе, но в те времена это была доктрина, которой искрение придерживалось большинство сознательных людей. Епископ Джюэл, лучший выразитель идей раннего елизаветинского религиозного порядка, провозгласил:
«Наше учение таково: каждый человек, каково бы ни было его призвание – будь он монах, проповедник, пророк или апостол, – должен быть подчинен королю и мировым судьям».
Религия была подвластна королю и мировым судьям. Все были согласны, что в государстве могла быть только одна религия, и все, исключая католиков и строгих пуритан, считали, что государство должно решать, какой должна быть эта религия.
Эта доктрина, одинаково противоречащая средневековым и современным представлениям, соответствовала настроениям в Англии эпохи Елизаветы. Она была политическим следствием социального мятежа мирян против духовенства во время царствования отца королевы. Англичане эпохи Тюдоров не были антирелигиозны, но они были антиклерикальны. Придерживалось этой доктрины и само духовенство, которое не воспитывалось в семинариях как священнослужительская замкнутая каста, а само являлось составной частью английского общества.
Поэтому духовенство в целом было послушным и покорным в первые годы царствования Елизаветы. Но среди духовенства имелось активное меньшинство новообращенных – фанатических протестантов, – которые только благодаря смерти королевы Марии избежали смитфилдских костров или вернулись из ссылки из-за границы полные кальвинистического фанатизма, воспринятого у женевского первоисточника. Они не подчинились бы папистскому государю, но они знали, что одна только Елизавета стояла между Англией и папистской реставрацией; таким образом, они одобряли ее церковный компромисс, намереваясь внести в него изменения, когда позволят время и обстоятельства. Они были самым твердым оплотом нового порядка в его борьбе против Рима и Испании, но в другом отношении они были и его опаснейшими врагами.
Большая часть приходских священников в 1559 году согласна была принять религию в готовом виде по парламентскому статуту, но у них не было никакой определенной, веками установленной религии, которая могла бы пробудить энтузиазм у духовенства и придать авторитет богослужению. Однако у крайних левых протестантов была «живая» вера, которая на несколько десятилетий сделала их наиболее влиятельной частью духовенства в такое время, когда у среднего приходского священника не было ни знаний, ни энтузиазма.
Со времени антиклерикальной революции, произведенной Генрихом, священникам уже больше не завидовали и их не ненавидели, но часто презирали и третировали. Сама Елизавета продолжала раздавать направо и налево церковные земли и имущество и часто оставлять незамещенными епископские должности для того, чтобы корона могла пользоваться рентой маноров. Архиепископы королевы постоянно искали у ее секретаря Уильяма Сесиля советов по чисто религиозным делам, в то же время непрестанно жалуясь ему на небольшие притеснения, чинимые могущественными мирянами. «С церковью обходились как с орудием светского управления, как с держащейся с достоинством, но приятно беспомощной добычей обанкротившегося монарха и алчного двора».
Все это означало, что сильные колебания почвы, вызванные антиклерикальным землетрясением в царствование Генриха, утихали лишь постепенно. Но тем не менее они утихали. К концу царствования королевы английское духовенство было уже в лучшем положении, более уважаемым, более уверенным в себе и в своей миссии. Когда Стюарты приблизили к себе церковь как свою почетную союзницу, миряне очень скоро снова начали жаловаться «на гордость духовенства». Лорд поощрял священника смело смотреть в глаза сквайру.
Важным сдвигом в жизни общества было то, что при Елизавете священникам снова – и на этот раз окончательно – было разрешено вступать в брак. Немало священников, которые были готовы признать реставрацию римского католицизма в 1553 году, при Марии были лишены своих приходов только на том основании, что вступили в законный брак, хотя они поступали строго по законам Эдуарда VI. При Елизавете была восстановлена свобода вступать в брак. Одним автором было тонко подмечено, что «подобно тому, как распродажа монастырской собственности вызвала среди определенных классов материальную заинтересованность и судьбе Реформации, так и отмена ограничений браков духовенства вызвала то, что мы могли бы назвать «семейной заинтересованностью» духовенства в развитии Реформации, поскольку оно было недостаточно просвещенным, для того чтобы осознать ее более возвышенные результаты; эта заинтересованность имела значение для обеспечения окончательного торжества Реформации».
Свобода браков духовенства должна была быть благом для многих честных людей; в будущих поколениях в приходах Англии выращивалась прекрасная «порода» детей, которые в последующих поколениях обеспечивали хорошими и честными людьми все профессии и должности – и больше всего самое церковь. Но в первое время браки духовенства сопровождались некоторыми трудностями: на жен священников и сама Елизавета, и многие из ее подданных смотрели косо все еще из приверженности к старым обычаям и привычкам. Потребовалось немало времени для того, чтобы жена священника заняла почетное и важное положение в приходском обществе.
Необходимость содержать жену и детей еще больше обострила материальную нужду священника. Из-за бедности приходских священников их браки с дочерьми джентльменов были редким явлением. Сам Кларендон, хотя и был очень предан англиканской церкви, указывал как на признак социального и морального хаоса, произведенного великим мятежом, на то, что «дочери знати и девушки из знатных семейств выходили замуж за духовных лиц или вступали в другие низкие и неравные браки». Большое улучшение экономического и социального положения духовенства произошло только при Ганноверах. В романах Джейн Остин сквайры и священники составляют одну социальную группу, но при Тюдорах или при Стюартах это в действительности не имело места.
Бедность духовенства способствовала сохранению симонии и совместительства церковных должностей. Эти порядки не прекратились с исчезновением папской юрисдикции, хотя церковные держания английских бенефициев иностранцами, живущими во Франции и в Италии, были упразднены навсегда.
В середине царствования Елизаветы, во время грозных событий за границей и внутри страны, достигших высшей точки в дни сражения с Армадой и казни шотландской королевы Марии Стюарт, английское общество в городе и в деревне было сильно возбуждено религиозными разногласиями между соседями; в домах несчастных джентри – сторонников старой религии, оказавшихся в тисках требований двух царственных соперниц, – энергично вела свою работу иезуитская миссия. Страна была объята страхом.
Люди каждый день ожидали сообщений об испанском вторжении, о римско-католическом восстании, об убийстве королевы. Переодетые иезуиты, преследуемые мировыми судьями, тайком переходили с места на место, укрываясь в церковных тайниках и в толще стен господского дома; рано или поздно их ловили и казнили.
Тем временем пуритане – тогда еще не «диссиденты», а приходские священники и мировые судьи, от которых в этот период зависела судьба государства, – действовали энергично, добиваясь ниспровержения и перестройки изнутри церковного порядка. Они поносили епископов как «отродье антихриста». Они устраивали собеседования и молитвенные собрания, запрещенные властями. Елизавета жаловалась, что каждый лондонский купец «имеет своего школьного учителя и устраивает ночные моления, толкуя Писание и просвещая настолько своих слуг и прислужниц, что я сама слышала, как некоторые из них не стеснялись проверять ученых проповедников» и говорить, что «такой-то учил нас иначе в нашем доме». Во многих графствах пуританское духовенство устраивало собрания служителей церкви; эти собрания напоминали пресвитерианские синоды и намеревались с помощью парламента в скором времени вырвать власть у епископов.
Пуритане уже обнаружили способность к избирательным кампаниям, к кулуарному воздействию на депутатов и к агитации, что в следующем веке привело к преобразованию английской конституции. В 1594 году они наводнили английский парламент петициями от духовенства, городских корпораций, мировых судей и влиятельного сельского дворянства целых графств. Половина членов палаты общин и даже Тайный совет были обращены в пуританство. Но Елизавета стояла твердо на своем. Хорошо, что она была тверда, потому что пуританская церковная революция до Армады почти наверное вызвала бы гражданскую войну между католиками и протестантами, войну, из которой Испания, возможно, вышла бы победительницей. В 1640 году Англия была уже достаточно сильной и достаточно протестантской, чтобы выдержать благополучно перипетии церковной революции и контрреволюции, которые были бы для нее роковыми полстолетия назад.
Королева Елизавета и ее непреклонный архиепископ Уайтгифт выдерживали бурю, и английский корабль благополучно скользил между сталкивавшимися скалами – католичеством и пуританством. В конце царствования наступила определенная реакция. Пуритане на время были приведены к некоторой видимости послушания церкви. Находившиеся вне лона церкви, как, например, «браунисты», были немногочисленны и разобщены. Последовали жестокие кары; некоторые из самых крайних пуритан были повешены, и еще большее число – посажено в тюрьмы. Но большая часть пуританского духовенства, а также джентри и купцы были лояльны по отношению к королеве. Эта удивительная женщина все еще «управляла страной, пользуясь их любовью кней». Но человек, даже более дальновидный и толковый, чем Елизавета – «если бы вообще нашелся такой смертный», – мог бы призадуматься над тем, как долго еще государству удастся заниматься внедрением «единой религии» в такую разобщенную и упрямую нацию, как англичане, где даже прислужницы «не стеснялись проверять ученых проповедников». Острая ненависть к веротерпимости могла быть возбуждена лишь в отдаленном будущем, а пока Англия прославилась той «сотней религий», которые так занимали Вольтера при его посещении Великобритании.
Но Елизавета все еще надеялась, что ее подданные смогут принять «единую религию», религию среднего пути, в которой, как красноречиво и обстоятельно пояснял Гукер, человеческий разум и здравый смысл находили бы свое место наряду со Священным Писанием и церковным авторитетом. Конечно, было больше оснований полагать, что англичане сочтут приемлемой именно такую религию, а не педантическое буквоедство пуританина, который должен подыскать цитату из Священного Писания для оправдания каждого события в повседневной жизни, или всеподавляющий авторитет церкви, проповедуемый иезуитами. И все же идея принудительного введения какой-либо «одной религии» во всей Англии была совершенно неприемлема и означала бы еще сто лет борьбы и ненависти, тюремных заключений и конфискаций с потоками крови на полях сражения и на эшафоте. На суровой почве из всех этих бедствий суждено было вырасти цветам наших гражданских свобод и нашей парламентской конституции. Поистине пути истории человечества удивительны и судьбы народов непостижимы!