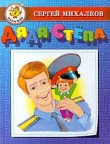Текст книги "Вольные штаты Славичи"
Автор книги: Дойвбер Левин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Глава вторая
Приключения Натана Шостака
– Отца, – сказал Натан Шостак, – убили белые. Мать скоро после того умерла. Старший брат, Лейбе, ушел с красными. Осталось нас мало: я, да сестра, да старая бабка Бейле.
Как убили отца, дня через три из соседнего местечка Семиполья приехала к нам тетя, папина сестра. Она вошла в дом, маленькая, черная как сорока, села у стола, вынула из кармана носовой платок, развернула его, отряхнула, поднесла к глазам и давай реветь. «Что они с тобой сделали, Моне! За что они тебя сгубили, Моне!» кричала она. Наплакавшись, она пошла по комнатам, собрала все подушки, одеяла, скатерти, полотенца, завязала все в два большие узла и сказала, что забирает это с собой на память о брате. Но тут на нее наскочила бабка. «Бессовестная! – кричит. – Стыдно тебе грабить сирот. Знай же, подлая, что за такие дела бог накажет!» Тетя опять заплакала и сказала, что забирает с собой и меня. «Он у меня будет как сын родной», сказала тетя.
Семиполье было небольшое гористое местечко. В центре был базар с костелом. Улицы были холмистые, кривые. Теткин дом стоял недалеко от базара, и был он длинный и низкий. Дядя называл этот дом «курятником». «Пойду-ка я в курятник», говорит он вместо «пойду-ка я домой».
Этот дядя был бородатый, здоровый как бык и очень вспыльчивый. Чуть что не так, дядя загорится, глаза нальются кровью, и трах! – посуда со стола, – дзинь! – окно в дребезга, лампа об стену, стул в куски. В такую минуту не попадайся ему под руки – до полусмерти изобьет. Всего больше от дяди попадало старшему сыну, Энеху. Такой ленивой скотины свет не видел. Ростом в сажень, а вечно ноет, что больной: что работать ему нельзя никак, что ему надо побольше есть и побольше спать, а то он умрет. И что ни день, то у него новая болезнь. Если в субботу – легкие, то в воскресенье – желудок; в воскресенье – желудок, в понедельник – почки; в понедельник – почки, во вторник – ухо; во вторник – ухо, в среду – поясница; в среду – поясница, в четверг – зубы.
Младший брат каждое утро, просыпаясь, спрашивал:
– Ну, чем сегодня хвораешь, боров?
– Что-то живот вспучило, – отвечал старший, почесывая живот.
– Врешь. Живот вчера был.
– Вчера у меня нарывала губа.
– Врешь. Губа нарывала в пятницу, а вчера болел живот.
– Много ты знаешь, – обижался старший. – Не болел вчера живот.
– Болел, говорю.
– Не болел.
– Болел.
– Не болел.
– Болел.
Тут старший как стукнет младшего по шее.
– Замолчи, холера, – кричит, – убью!
Занималась семейка «производством», попросту – гнала самогон.
Заправилой в этом деле была тетя. На вид – тихая, слабая, а на деле так холерная баба. Самогон гнала она, она же его и продавала. Остальные были при ней «подручными». Гнали самогон не дома, а в деревне у мужика-компаньона. Каждый вторник в деревню ходили дядя и младший сын с «подарками» – с мукой, с картошкой, со свекловицей, с сахаром. Вечером туда же отправлялась и тетя. Всю ночь в овине у компаньона курили самогон. А утром возвращаются в местечко: тетя с корзиной помидоров, дядя с ведром яблок, сынок с мешком овса. Кому тут в голову придет, что под помидорами, под яблоками, в овсе – бидоны с самогоном? Где тут догадаться!
Среда в Семиполье – базарный день. В этот день самая большая комната в нашем доме – уже не комната, а шинок. Вдоль стен стоят длинные деревянные столы, скамейки, табуреты. За столами сидят хохлы, хлещут самогон, ругаются, кричат, песни орут. Между столами ходит тетя: тому нальет кружку самогона, с этого получит пачку керенок, а того, совсем уже пьяного, выведет на двор, уложит на телегу и отправит домой.
Мне в этот день работы много: зазывай мужиков – раз; гляди, чтоб не стибрили чего, – два; смотри, чтоб милиция не наскочила, – три. Я уж старался вовсю.
А милиция-то все-таки наскочила.
Было это летом, часов в шесть. Пьяницы уже разъехались, но столы и скамейки еще не убрали, а бидоны были запрятаны пока тут же в доме. Вдруг – стук в дверь, входят трое: два милиционера с винтовками и начальник, низкого роста, скуластый, в красном галифе.
– Мы имеем сведения, что вы торгуете самогоном, – сказал начальник. – Мы должны у вас сделать обыск.
Дядя побледнел, затрясся, а тетя хоть бы что: выплыла вперед, руки в боки и смеется.
– Пожалуйста, – говорит, – ищите. А только ничего вы, – говорит, – не найдете. Мы к самогону касательства не имеем.
– Посмотрим, – сказал начальник и шасть в зал. А в зале еще не убранные столы стоят, разит сивухой, на полу окурки, махорочный дым столбом. Начальник посмотрел и говорит:
– Это у вас что за столы? – сказал он.
– Деревянные, товарищ начальник, – говорит тетя.
– Вижу, что деревянные. Не слепой, – сказал начальник. – А кто тут так начадил махрой? Вы, что ли? – повернулся он к дяде.
– Я-с, товарищ, – промычал дядя, хоть он в жизни не курил.
– Д-д-а, – сказал начальник. – А ну-ка, ребята, – приказал он милиционерам, – пощупайте-ка вокруг.
Милиционеры оставили винтовки и начали обыск. Они обыскали весь дом, обшарили все углы, осмотрели все полки, все шкафы, все комоды, под кроватями лазали – ничего, никаких следов. Полезли они на чердак. А пока они там рылись в барахле, младший сын выбрасывал бидоны из печки на двор.
Вдруг один бидон сорвался, упал и звякнул.
Начальник с чердака вниз и – к печке. Отодвинул заслонку, чиркнул спичкой – и что же? В печи бидонов штук сорок.
– Это что? – крикнул начальник.
– Бидоны.
– Не ломайте дурака, – крикнул начальник. – Что это?
– Самогон, – прошептала тетя.
– Та-а-к-с! – сказал начальник. – А зачем вам, разрешите узнать, столько самогона?
– У меня старший сынок хворый, – сказала тетя, – так мы его самогоном лечим. Доктора советуют.
Вдруг на печке кто-то как загогочет: «го-го-го». Это заржал старший сын, хворый-то.
– Полно врать, – сказал начальник. – А только вот что, гражданка, запомните: на сей раз вы отделываетесь штрафом, но если еще раз попадетесь – тюрьма. Тюрьма. Поняли?
Когда милиционеры ушли, у нас началась порка. Перво-наперво всыпали старшему олуху. Дядя его так исколошматил, что тот полночи выл. Потом взялись за меня: почему-де прозевал милиционеров. Ох, били! Вспомнить тошно.
– Уйду к бабушке, – сказал я, когда меня наконец отпустили.
– Испугал! – захохотал дядя. – Иди к свиньям! Только поскорее! Дармоед!
Ого! Этого-то мне и надо было. Я уже много раз просился назад, домой, к бабушке. Но дядя говорил: «Вот свинья! Скотина! Его поят, кормят, делу обучают, а он еще недоволен. Попробуй только – уйди. Убью!» А тут дядя сам говорит: «уходи». Спасибо милиционерам – выручили.
Как стало светать, я с печки скок, краюху хлеба в карман и за дверь. И ходу.
Дома я никого из своих не нашел. Старший брат еще не вернулся из армии. Сестру кто-то отправил в киевский детдом. Бабушка умерла. В нашем доме жила теперь моя двоюродная сестра Либе, чулочница, и муж ее, Эле, сапожник. Но это я узнал только потом.
Домой я пришел вечером. Постучал. Открылась дверь, и появился черномазый человек, невысокого роста, в полосатой рубахе. Увидав меня, человек поклонился и прищелкнул языком.
– Кого спрашивать изволите, уважаемый? – сказал он тонким голосом.
– Бейлю, – сказал я, – бабку Бейлю.
– Увы, увы! – сказал черномазый и покачал головой. – Скончалась наша бабка. Скончалась во цвете лет. Шел ей всего-то восемьдесят третий. Проходят годы, а?
Я молчал, не зная, что сказать.
– Вы ей, почтенный, кем приходитесь-то? – подождав ответа, спросил черномазый.
– Внуком, – сказал я.
– Ваше имя Натан Шостак? – спросил черномазый.
– Натан Шостак, – сказал я.
Этот чуднóй человек мне понравился.
– Прошу, Натан, в наш шалаш, – важно сказал курчавый и широко открыл дверь.
В комнате за столом сидела молодая женщина и шила. Это была Либе, двоюродная сестра. Черномазый стукнул каблуками и взял под козырек.
– Разрешите, ваше сиятельство, – говорит, – представить вам моего друга и собутыльника, внука бабки Бейли Натана Шостака.
– Нотке! – крикнула Либе. Она вскочила, обхватила меня и целовать. – Нотке, как ты сюда попал?
Я рассказал.
– И молодец, что ушел от них, – сказала Либе. – Бабушка умерла. Но ты будешь жить с нами. Правда, Эле, он будет жить с нами? – спросила она мужа.
– Не могим знать! – крикнул Эле.
– Дурак, – сказала Либе и рассмеялась.
Хорошо мне у них жилось. Эле с утра уходил в мастерскую, Либе садилась за чулочную машину, а я – гулять. Лодырничал, словом.
Либе отдала было меня в хедер.
Я день ходил, два ходил, а на третий забастовал. Не пойду больше в хедер – и никаких. Не нравился мне и ребе, и хедер.
– Что же, – сказал Эле, – вольному воля, а бездельнику – рай. Гуляй, брат, пока молод, а там посмотрим.
Эле и сам не прочь был погулять.
Часто ночью залезем, бывало, к соседу в сад. А у соседа в саду – яблоки, груши, сливы…
– Ешь, Нотке, ешь, – шепчет Эле.
– Ем, дядя Эле, – отвечаю.
– А вкусно?
– Вкусно.
А через час:
– Пучит живот, Нотке?
– Пучит, дядя Эле.
– Ну, давай, брат, смываться.
Зимой по вечерам Эле играл на балалайке. Играл он ловко, с разными выкрутасами. Пальцы так и скакали по струнам. При этом он строил такие рожи, что мы – я и Либе – помирали с хохоту.
Иногда – по праздникам – Эле выпивал. В таких случаях он как придет домой, так сразу же в дверях шлеп на пол и ползком добирается до дивана.
– Бейте меня, остолопа! – кричит. – Жарьте, родимые, в хвост и в гриву! – И не встанет до тех пор, пока Либе или я хоть разок не стукнем его по затылку.
К весне все переменилось. У них появился ребенок. «Принц-наследник», как называл его Эле. Кормить меня им стало трудней.
– Как же нам быть с тобой, почтенный? – сказал мне раз Эле. – В солдаты тебя отдать, что ли?
Но тут, на мое счастье, в городе на заборах, на домах появилась небольшая афишка, а на афишке было написано, что неподалеку, в бывшем княжеском имении, открывается детская колония для сирот и беспризорных.
Раз утром я и Либе сели на крестьянскую телегу и поехали в колонию. Проехав верст пять, мы увидали в поле двухэтажный дом с колоннами и с верандой. Вокруг были сараи, конюшни, склады. За домом был сад. Ни в доме, ни на дворе не видно было ни души. Но когда телега завернула в ворота и остановилась у крыльца, открылась стеклянная дверь, и по ступенькам навстречу нам кинулся небольшой человечек, кругленький, плешивый, близорукий, с виду лет под пятьдесят.
Человек подбежал к телеге, схватил мою руку и стал жать и тискать ее в потных своих ладонях.
– Добро пожаловать! – кричал человек.
Маленький человек был заведующий колонией, педагог Вольф.
А я попал в колонию самый первый, вот он и обрадовался.
Хозяйство в колонии было бестолковое. Были лошади, но не было телег, плутов, сох, борон. Комнаты большие, но пустые, только садовые скамейки стояли по углам. Ванна мраморная, а одеял, подушек, тюфяков нет.
Прошла неделя. Я болтался без дела, скучал.
– Ничего, дружок, поживешь – привыкнешь, – говорил мне Вольф. – Вот скоро придут еще ребята. Тебе веселей будет.
Верно, появились ребята: из Киева, из Житомира, из Белой Церкви, из всех соседних местечек, станций, сел, городов.
Беспризорников подбирали в поле, на улицах, вытаскивали из-под вагонов, из подвалов. Они приходили к нам босые, лязгали зубами и ругались. Их обмывали в ванной, переодевали в новые американские костюмы, кормили обедом, и они утихали, привыкали понемногу. Скоро нас набралось человек сорок.
Жили мы в первые дни свободно. Утром встанешь, съешь свои полфунта хлеба с салом или с луком и попрешь куда глаза глядят – в поле или в город. Никакого над тобой хозяина, никто не смотрит. Хочешь – приходи обедать, не хочешь – не надо. Хочешь – ночуй дома, хочешь – в поле. Много беспризорников убежало. Но большая-то часть осталась. Куда им было уходить? А у нас они свободно жили.
Рядом с нами в поле часто садились самолеты. Услышим гул, выскочим из дому – и в поле. Стоим, глядим. Вот мотор выключили. Вот по кочкам запрыгал. Вот стал. Из кабинки выходит летчик в шлеме, в кожаных перчатках. «Здорово, – говорит, – ребята!» – «Здорово, товарищ летчик! Можно потрогать машину?» – «Трогайте, – говорит, – ребята, только осторожно. Не испортили бы чего». Мы ходим вокруг машины, трогаем крылья, заглядываем в кабинку. Но механик уже исправил все, что надо, летчик выкурил трубку и лезет на место. «Прощайте, – говорит, – ребята». «До свиданья, – кричим, – товарищ летчик!»
Самолет поскакал по кочкам, и вот он уже высоко где-то летит.
Ночами страшно было. Лежишь себе на садовой скамейке, лежишь и слушаешь, как за окном ржут кони, кричат жабы в пруду за садом, пьяный хохол вдет мимо ворот, ругается и плачет. И вдруг – дзинь! Камень ударил в окно. А за первым – другой, третий. Мы уже знаем, в чем дело: это мальчишки и парни из соседней деревни «обстреливают» дом. А то так: подкрадутся к самому дому и забарабанят во все окна нижнего этажа. Лежишь и дрожишь. Драться-то с ними не будешь. Куда нам! Их – деревня целая.
В такие ночи к нам в комнату приходил Вольф.
Придет, сядет к кому-нибудь на кровать и начнет рассказывать.
Ну и рассказывал же человек! Он не говорил нам о разбойниках там, о царях, о колдунах. Он говорил только о том, что у нас скоро будет, лет так через двадцать-тридцать.
– Поездов не будет, – говорил Вольф, – зачем поезда? А аэропланы на что? По всей стране тысячами будут летать аэропланы. У каждого человека свой аэроплан. Сел и полетел куда надо. А поезда загоним под землю. И трамваи из городов – на свалку. Да и города уже будут не те. Дома построим из стекла, круглые, чтобы свет со всех сторон. На крышах – бассейны, фонтаны, сады, площадка для крокета, для футбола, для катков. А из города вылетишь – поля. И не наши нынешние поля – овес по щиколотку, а пшеница и совсем полегла. Врешь. Заставим и землю слушаться. Под Москвой – гляди – растет какао, под Калугой – пальмы шумят, бананы. А среди полей – не деревни, не халупки, не курные хаты с лучиной. Среди полей – палаты стоят, большущие палаты, и в них электричество. А в палатах кто, думаешь, живет? Мужик живет. Мужицкая коммуна. Думаешь, наш знакомый мужик – голодный, вшивый, в драных штанах, который по утрам чешет себе затылок и гадает: «Будет дождь, ли не будет? Выехать мне в поле, или не выехать?» Брешешь, батенька. Не узнать мужика. Федот, да не тот. Этот уже не выедет тебе в поле на брюхатой сивке орать, он уже не пойдет к попузаказывать молебен об урожае. Он – гляди – верхом на машине шпарит. А удобрение он такое закатит, что всякое болото зацветет как сад. Вот какой мужик.
Вольф говорит долго. Мы лежим, не спим, слушаем. А за окном светает. Поют петухи. Вставать пора.
Решили мы, что хватит, что надо покончить с этим, надо нам договориться с деревней. А то куда это годится? Драки и драки.
И вот раз в летний день мы сделали вылазку. Мы построились шеренгой, – нас было теперь больше сотни ребят – и с барабанщиком, с трубачами пошли в деревню. С барабанным боем, с песнями мы пошли по улицам деревни, а потом построились на площади. Крестьяне смотрят на нас, удивляются – с чего это мы вдруг такие храбрые стали? Они сидели на завалинках, стояли у ворот, почесывались, посмеивались, скалили зубы. Однако вначале все шло ничего, но тут – на беду – заговорил Вольф. Он говорил о жизни в колонии, о том, как начнем работать, как заживем, просил крестьян помочь нам советами и указаниями, а беднейшим предлагал отдать детей к нам в колонию. «Незаможники! Безлошадники! Отдайте нам детей!» сказал Вольф. И вдруг со всех сторон наперли мужики, бабы, парни с кольями, с кочергами. «Детей наших пришли забирать!» кричали бабы. «Гони их!» кричали мужики. «Бей!» кричали парни. Мы, конечно, драла.
А с деревней мы все-таки сдружились. И не вылазка тут помогла, не барабанный бой, а понравилось мужикам, что мы работаем ладно.
Неизвестно, когда это началось, но вдрут оказалось, что все мы работаем. Вольф незаметно приучил нас к работе. Способ у Вольфа был такой: никого не заставлять, но никому не мешать. Оказалось, например, что некоторые ребята любят животных – Вольф поручил им смотреть за домашним скотом. Другим нравилось огородничество – Вольф отвел им место под огород, устроил грядки, выписал из города семена, лейки, лопаты. Третьим хотелось работать в поле – Вольф вытребовал плуги, сеялки, бороны. Четвертые были хорошими организаторами – Вольф вместе с ними устроил всякие комиссии, хозяйственные, культурные, и помогал, чем мог. К нам приехал агроном из Житомира. Работу в поле и в доме развернули вовсю.
Крестьяне, глядя, как мы работаем в поле, смеялись: «суслики!» Прошло, однако, месяца полтора, поля наши зазеленели, и крестьяне стали приглядываться внимательно. Называли они нас теперь «работничками». Наконец настал день, когда к нам на двор пришло человек десять мужиков. «Дило им, – видишь ли, – до гражданина агронома». А уж потом стали часто ходить.
Недалеко от нас на горе стоял кавалерийский полк имени товарища Буденного. Мы часто в поле встречали кавалеристов в шлемах, в длинных шинелях. Увидев нас, бойцы останавливали коней и вступали в разговор.
Как-то раз к нам в колонию пришли представители полка, три человека: эскадронный командир и два красноармейца. Они долго расспрашивали нас о том, как мы тут живем, осмотрели дом, службы, посидели за столом, попробовали нашей каши и уехали. На другое утро к дому подкатили тридцать две военных повозки. Нас усадили и повезли в лагерь, в гости. В лагере красноармейцы нас встретили очень хорошо.
Угощали, обучали стрельбе, дарили разные вещи. Мне подарили кожаный ремень и маленькие шпоры.
В лагере часто устраивали скачки.
Раз вот на таких скачках я видел Буденного. Он сидел на большом коне, расстегнув рубаху, и показывал на груди и на руках дырки от пуль. Их было 25. «Да здравствует товарищ Буденный! – кричали бойцы. – Урра!»
Пять месяцев прожил я в колонии, а потом скучно стало. Была осень. Шли дожди. Мы сидели в доме как тараканы, лодыря валяли.
Я пошел к Вольфу и сказал:
– Отпустите меня, – сказал я, – я хочу уйти.
– Куда ты пойдешь? – сказал Вольф. – Будет тебе дурить. Иди, проспись.
– Я все одно уйду, – сказал я. – Не отпустите – убегу.
– Да куда ж ты пойдешь, баранья башка? – крикнул Вольф.
– Я к Либе пойду, – сказал я. – А не отпустите – убегу.
– Силой держать не будем, – сказал Вольф. – Иди, куда хочешь. Только гляди, братец, как бы худо не было.
– Не будет худо, – сказал я и пошел собирать вещи.
Когда я пришел к Либе, я сразу увидел, что тут не то, что было раньше. В квартире грязь, не убрано, в спальне ребенок пищит. Эле небритый, злой.
– Зачем пожаловал, почтенный? – спросил он.
– В колонии скучно, – сказал я, – я ушел оттуда.
– Мы не можем тебя взять к себе, – сказала Либе, – сам видишь, как теперь живем. Эле уже второй месяц без работы ходит.
– Я в колонию не вернусь, – сказал я, – буду по улицам ходить.
– Не дури, Нотке, – сказала Либе, – вернись в колонию. Ты же пропадешь так.
– Я не вернусь, – сказал я, – я по улицам ходить буду.
– Походишь, походишь, а там опять в колонию попадешь. Отправят, – сказал Эле.
– Я не дамся, – сказал я, – скучно в колонии.
– Ладно, – сказал Эле. – Сегодня ночуй у нас, а там – посмотрим.
Встал я утром, попил чаю, взял свою котомку и вышел на улицу. А на улице дождь. Скучно. Сел я на крылечке какого-то дома и думаю: «Что делать, – думаю, – куда пойти?» Сижу, думаю, а в доме кто-то на балалайке играет. И тут я подумал: буду петь. Голос у меня неплохой. В колонии я даже считался певцом. «Верно, – подумал я. – Пойду на базар и буду петь». Видал я раньше таких певцов: сидит, ноет, а старушки разные деньги в шапку кидают. Доходное дело. И на обед хватает и на халву.
Ладно. Пошел я на базар, сел у церкви, пою. Настоящих-то песен я еще тогда не знал и пел еврейский стих, слова из хрестоматии, а петь как – сам придумал:
Ночевал я на базаре в ларьке, а то в подвале на окраине. Я обтрепался и стал похож на старого беспризорника: рваные штаны, рваная рубашка, шапка набок, на ногах – коты. Но голодать не голодал. На обед за день наскребешь. На халву вот нехватало.
Как-то утром сидел я так на базаре и пел. Ко мне подошел парнишка лет двенадцати, черный как цыган.
Одет он был еще хуже моего. На одной ноге вместо сапога тряпки, на другой дырявый валенок, а на голове ермолка.
Паренек подошел, поглядел на меня, сплюнул и сел.
– Поешь? – спрашивает.
– Пою, – говорю.
– Я тоже пою, – сказал парнишка, – вместе петь будем. Понял? – И запел. Песня была настоящая, жалобная:
У кого есть родные,
Приласкают порой,
А меня все обижают,
И для всех я чужой…
пел «цыган», а слова: «Вот умру я, умру я…» он пел так жалобно, что плакать хотелось, честное слово.
Когда он кончил петь, я спросил:
– Как тебя звать?
– Цыган, – сказал паренек. – А тебя?
– Натан, – сказал я, – Шостак Натан.
– Не Натан, а Качан, – сказал Цыган, – понял?
И потом только Качаном меня и звал.
Вечером Цыган встряхнул мою шапку, забрал все деньги в карман, встал и говорит:
– Шабаш.
Потом он достал из кармана две булочки – мне и себе.
– Лопай, Качан, – говорит, – только, смотри, не подавись-ка.
Потом он спросил:
– Ты, Качан, где ночуешь?
– В подвале, – сказал я.
– Веди! – скомандовал Цыган.
В подвале было темно. В углу была постель из соломы и из сухих листьев. Около постели в горлышке аптекарской бутылки торчал огрызок свечи. Подвал был грязный. Цыган достал спичку, зажег свечу и оглядел подвал.
– Небогато живешь, Качан, – плюнув через весь подвал, сказал он, – да уж ладно, устроимся.
Он лег на постель к стене и сказал:
– Брось сопеть, Качан, – сказал он, – ложись.
Лежа на соломе, мы разговорились. Говорил больше Цыган. А я только охал и ахал. Цыган-то оказался бывалым парнем.
– Ты, Качан, «работать» умеешь? – спросил он.
Я не понял.
– Ну, слямзить что-нибудь, стырить?
Я опять не понял.
– Воровать? – сердито крикнул Цыган.
– Нет, – сказал я, – не умею.
– Дурак, – сказал Цыган, – сразу видать, что дурак. Я, брат, целый год этим только и жил. Сейчас бросил – дерутся уж больно, черти. Потому и бросил. А только скоро опять возьмусь за «работу». Скучно «стрелять», да и заработаешь на этом холеру. А под поездом ездил?
– Не, – сказал я, – не ездил.
– Э-эх ты, цыпленок жареный! А вот я, Качан, где хошь бывал: и на Кавказе бывал, и на Волге бывал – и все, брат, под поездом. Надо мне тебя уму научить. А то вот погляжу на тебя – дурак ты, Качан, пропадешь. Хошь, друзьями будем?
– Хочу, – сказал я.
– Вставай, – сказал Цыган, а сам наперед меня вскочил и зажег свечу. – Клади палец на огонь, – говорит.
Положил я палец на огонь, жжет, – отдернул я палец.
– Жжет, – говорю.
– Не этот палец – мизинец, – сказал Цыган. – Подержи, не сгоришь.
Цыган сделал то же.
– Ножик есть? – говорит. – Давай сюда.
Он надрезал мой палец, потом свой, потом сказал:
– Теперь я беру в рот твой палец. Ты – бери мой. Пососи кровь-то. Так, ладно.
Стал я ходить с Цыганом. Скоро к нам пристал третий – Хаим, тихий паренек, трусливый как заяц. Цыган взял его в компанию за хороший голос.
– Эх ты, канареина! – говорил он Хаиму. – Пристал ты к нам как банный лист. Подумай: на кой ты нам дался? – А не отпускал.
Настала зима. Завернули морозы. Жить нам стало худо. Хаим отморозил нос. Я – руки. Они у меня опухли, болели.
Петь на морозе стало трудно, да и подавали мало. Раз вечером Цыган сказал:
– Вот что, орлы, – сказал он, – плюнем на этот поганый город и махнем в Кадин. Тут-то нас все знают, а в Кадине нас встретят вроде как актерщиков.
– Ладно, – сказал я, – идем.
Хаим – тот захныкал.
– Как пойдешь? Холодно. Опасно. Мужики побьют по дороге…
Но Цыган даже разговаривать не стал.
– Сегодня ночью выходим, – сказал он, – и ты с нами, канареина. Понял?
Шли мы всю ночь по снегу и никого не видели, а утром встретили двух мужиков. Они ехали верхом.
Цыган подошел, поздоровался и спросил дорогу на Кадин. Мужики поглядели на нас, потом друг на друга, потом старший, бородач лет пятидесяти, вынул изо рта коротенькую люльку, сплюнул, обтер рот и спросил:
– Кто такие будете?
– Мы – сироты. Кадинские мы. К матке идем, – сказал Цыган.
Мужики переглянулись.
– Говоришь, кадинские, – сказал младший, коротенький человек, горбатый, – а дорогу в Кадин не знаете. Чудно это.
– Мы шесть лет дома не были. Мы дорогу забыли, – сказал Цыган: – Скажите, дяденьки, как пройти.
Старший мужик вдруг осерчал.
– А в острог хочешь? – сказал он и поехал. Уже отъехав большой кусок, младший повернул голову и крикнул:
– Эй, хлопцы, дорога-то в Кадин прямо!
Мы шли весь день. Деревни обходили. И даже ночевать не зашли в деревню, а заночевали в поле, зарывшись по горло в снег. В снегу тепло спать, только двигаться не надо. Утром началась метель. Дорогу замело. Мы с трудом по телеграфным столбам добрались до Кадина.
Прошли мы улицу, переулок, другую улицу.
– Стоп, хлопцы, – прошептал Цыган, – мильтон.
Верно, на базаре стоял низенький милиционер с винтовкой и от нечего делать дул себе в кулак.
– Вот холера, – прошептал Цыган. – Заберет еще в часть. Тихо, хлопцы. Поняли?
Цыган приказал нам спрятаться и ждать. Сам он пошел разведать, что да как. Скоро он крикнул нам:
– Крой сюда, ребята! Мильтон-то ушел, чтоб ему провалиться.
Сели мы и запели, в три голоса поем, на весь Кадин. Сначала никого не было, потом подошел человек, послушал и спросил:
– За деньги поете?
Потом какой-то старик пришел. Глухой, верно. Он все говорил:
– Вы громчей бы.
Потом много собралось народу. И тут какая-то старушка прибежала.
– Чего смотрите? Чего рты открыли? – закричала она. – Тут дети на морозе сохнут, а им и дела нет. Вы, дети, откудова? – спросила она пас.
– Из Переяслава, сироты мы, жить негде, – заплакал Цыган.
– Как жить негде? – удивилась старушка. – Идемте ко мне ночевать.
Месяц жили мы в Кадине. Худо было с ночевкой. Первые три дня мы ночевали у старушки. На четвертый день она вдруг забузила.
– Насели на мою голову, бездельники! – кричит. – Думаете, других у меня дел нет, как только вам кровати стелить? Что я вам – прислуга, тетка, бабушка?
– Кляча ты беззубая – вот ты кто! – крикнул Цыган. И за дверь. Мы за ним.
– Чтоб ноги вашей, бродяга, не было в моем доме! Воры! Обормоты! – ругалась вдогонку старуха.
Мы ночевали в полуразрушенном доме. В нем не было ни потолка, ни пола. Только и были что окна да двери. А морозы были здоровые. И дела пошли под гору. Подавали все меньше.
– Эго не город, – сказал раз Цыган, – это – дыра. Собирай монатки, ребята. Кроем в Переяслав! Поняли?
Обратно в Переяслав мы поехали поездом.
Скоро после того Цыган пропал. Вылез утром из подвала на двор, сказал, что скоро вернется, и не вернулся. Куда он девался, не знаю. У Хаима же нашлась в городе какая-то родня, тетка, что ли, он ушел к ней жить. Остался я один.
Зима прошла. Настало лето.
Раз утром стоял я у продуктового ларька, голодный как зверь, и глядел на пирожки с рисом. «Спереть бы таких хоть пяток, – думал я, – да с кофеем, да с маслом – эх!»
Думаю я так, и вдруг меня кто-то хлоп по плечу. Обернулся я – Вольф. Стоит рядом, палочка в руке, круглый, лысый, а на лысине муха сидит.
– Вот ты где, Шостак, – говорит, – а мы тебя ищем. Семнадцатого годовщина колонии. Как-никак, а тебя тоже чествовать надо. Едем со мной.
У меня прямо дух захватило, но я смолчал. Стыдно мне было согласиться сразу. Вольф повертел перед носом палочку, подождал и говорит:
– Значит, едем?
– Ладно, – говорю, – едем.
– Молодец, Шостак, – обрадовался Вольф, – молодчина.
Прожил я на этот раз в колонии два года, а на третий год получаю от старшего брата Лейбы письмо. Брат пишет, что остался служить в Красной армии, живет в Ленинграде и зовет меня туда. «Ленинград – большой город, – писал брат, – учиться будешь. Человеком станешь». Пошел я с этим письмом к Вольфу.
– Что же, – сказал Вольф, – раз брат зовет – поезжай. Ленинград стоющий город.
Попрощался я с ребятами, сел на поезд и поехал.
– Тебе надо поступить в детский дом, – сказал мне брат, когда я приехал, – а когда подрастешь, определю на рабфак.
Но в ОНО брату сказали, что меня сначала направят в карантин, а уже оттуда в детский дом.
В карантине в то время жили беспризорники, малолетние преступники и дефективные. Командовал там Костя, парень лет шестнадцати, толстый, черт, как свинья. И что ни слово, то – «убью». Слягавишь – убью. Не дашь – убью. Не пойдешь – убью. И не зря, ведь, грозился – за покушение на убийство Костя потом попал в лавру.
Было так дело: сели мы раз утром чай пить. Что такое? Чай соленый как рассол. Оказалось, что Костя в чай вместо сахара соль насыпал, а сахар забрал себе. По столу от Кости и дальше – приказ: «Молчать, братва! Слягавишь – убью». Пьем чай, тошнит, а пьем и молчим. А после чая нас вдруг выстраивают в зале, появляется заведующий. «Вы так простоите до тех пор, пока не скажете, кто насыпал соль». Так. Значит, кто-то накатил. Но от нас ничего не добились. Продержали в строю целый час и отпустили. А наутро нашли Фомку, тихого парнишку, лет четырнадцати, привязанным к постели, в ладонь вбит гвоздь, и видать, что ночью его кто-то душил. Развязали Фомку, а он говорит: «Костя». Бросились искать Костю, а его нет. Нашли его только через месяц где-то в подвале на Лиговке.
– За что ты хотел убить Фомку? – спросили его.
А Костя:
– Лягавый он.
Меня в первый же день избили. Но потом, когда узнали, что я пою, не трогали. Заставляли только каждый вечер петь.
Прожил я в карантине месяца четыре. Потом меня перевели сюда, в детский дом. Весной детский дом переехал на Сиверскую. Мы работали, купались, отдыхали, делали походы в лагеря. В то лето я вступил в пионерскую организацию. А с осени стал ходить в школу. Меня приняли в третий класс.
– А сейчас ты в каком? – спросил Ледин.
– А сейчас-то я в седьмом, – сказал Шостак. – А вот весной поеду в колхоз.