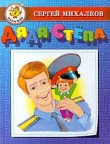Текст книги "Вольные штаты Славичи"
Автор книги: Дойвбер Левин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Толсторожий знаменосец оборвал Сонина и зычно крикнул:
– Тиш-ша! Батько!
Мужики со слободы, лавочники из местечка и коробейники с «выгона» нерешительно сняли шапки. Верховые бандиты и пулеметчики на двуколках приободрились, приосанились, приняли молодцеватый и гордый вид. Не бандиты – орлы.
На пороге показался батько. Невысокого роста, широкоплечий человек с непомерно большим туловищем и с короткими, кривыми, как у кавалериста, ногами. Лицо у батько было старообразное, темное, со шрамом через всю щеку. Надбровные кости резко выступали вперед и живые беспокойные глаза прятались в глубине, как медвежата в берлоге. На батько были казачьи синие с красными лампасами шаровары и обыкновенная солдатская гимнастерка. За ним шел ординарец я бережно, обеими руками нес черную туркменскую папаху батько.
Слегка раскачиваясь на ходу, батько направился к трибуне. Он шел по пустому пространству, перед ним испуганно расступались. Ни на кого не глядя, батько заговорил сразу же глуховатым, как бы простуженным голосом.
– Значит так, – сказал он, – тут вам говорили. Устанавливаем, значит, вольную власть. Анархию. Чтоб без никаких. Кто против – повешу. Советы оставляю, но без большевиков. Большевиков и комиссаров повешу. Все их добро объявляю народным. Грабь награбленное. Мирных людей не трону. Живи, как хошь. Каждый за себя. Хлопцев моих вознаградить надо – они вас от сволочей избавили. Награждение с каждого хозяина устанавливают хлопцы на месте. Кого они обидят, приходи ко мне. Разберу. Совет выбирайте сами, не мое дело. Но бунтовщиков, горлодеров повешу. Так.
Батько сказал: «так» и на этом кончил речь. Но не ушел. После него заговорил очкастый и все время рядом стоял батько, темнолицый, мрачный и важный. Его, видимо, не сильно интересовало все, что происходило, и стоял он так, для полноты церемонии. Щеголеватый ординарец сзади батько обеими руками держал его папаху.
– Устанавливаем, – заливался очкастый, – безвластие. Совет выбираем, но властью он облечен не будет, не будет. Что? Не так? Называться предлагаю: штаты. Вольные штаты Славичи. – Он вопросительно посмотрел на батько. – Что? Не так?
Батько безразлично кивнул.
– Нехай!
– Устанавливаем, – продолжал очкастый, – полную свободу: свободу личности, свободу слова, печати, собраний, собраний. Что? Не так? Налоги упраздняются. Деньга упраздняются. Деньга – это цепи, иго, иго. Устанавливаем систему товарообмена. Что? Не так? Не так? Задача наших штатов – непримиримая борьба с коммунистами и комиссародержавием и распространение анархизма по всему свету, свету. Что? Не так? Знаменем нашим будет это черное знамя, за которое погибло столько святых мучеников, мучеников, – у очкастого от волнения сорвался голос и докончил он шепотом: – Что? Не так? Не так?
Толсторожий выступил вперед и крикнул:
– Голосуим! Хто не против, подымай руку, ну!
Первым руку поднял Антон, за ним дьяк и поп, купцы с «верха», Найш и Осип. За ними – все.
– Единогласна, – установил с удовлетворением толсторожий. – Атеперя совет выбирать будим. Кого хотите? Говори!
– Господина атамана! – крикнул Антон.
Батько сердито махнул рукой. Еще что?
– Батько – нельзя, – сказал толсторожий, – у него и так делов по горло. Он армией командировать будит. Другого давай!
– Их! – прохрипел дьяк и ткнул пальцем в очкастого.
– Не их, а Бенедикта Гаврилыча – солидно поправил его толсторожий. – Еще кого?
– Еще Антона! – крикнул Осип.
Но Антон не соглашался.
– Не годен я, граждане-товарищи, для этого дела, – сказал он. – Мне уже и годов немало, да и человек я, видишь ли, темный, необразованный. Я так думаю, что самый подходящий для нас человек – это гражданин Крючарев, – он показал на дьяка, – за него и голосуем.
– Ладно, – согласился толсторожий, – третьего давай!
– Учителя… Сонина… – сказал чей-то робкий голос.
Батько насторожился.
– Это который? – спросил он.
– Этот будто, с дубиной, – сказал толсторожий, – леший их разберет, сучьих псов.
Батько подошел к Сонину, – Сонин стоял в двух шагах, тут же на трибуне, – посмотрел ему в лицо и сказал:
– Э, браток, – да ты никак жид?
– Не жид, а еврей, – смущенно сказал Сонин.
– Один черт! – батько повернулся к очкастому и мрачно сказал – не годится это – жидов в совет выбирать.
Очкастый зашептал что-то батько на ухо. Тот слушал насупленный и злой. Ничего не ответив, он взял из рук ординарца папаху, надел ее и при торжественном и благоговейном молчании толпы пошел в дом.
– Все хорошо, – сказал очкастый толсторожему. – Все улажено.
– А теперя, – крикнул толсторожий, – которые желающие в анархисты записаться, так говори. Пиши, Бенедикт Гаврилыч.
Очкастый поправил очки на крошечном носу, достал из кармана ученическую, в желтой обложке, тетрадку, карандаш и приготовился писать.
– Ну, говори, – повторил толсторожий.
Вызвался Антон. Потом дьяк. Оба они, и Антон и дьяк, вежливо подталкивали старика-попа. Тот конфузливо посмеивался, упирался, отнекивался. Но наконец не выдержал, согласился.
– Господь с вами, – сказал он, – пишите уж.

Глава седьмая
Суд праведный и нелицемерный
– Э-эй, куды! – закричал толсторожий, видя, что граждане «вольных штатов» задвигались и словно собрались расходиться по домам. – Куды, собачьи псы? А петь хто будет, язва вам в глотку? А гимн хто сполнять будет? Медведь Миша, што ль? Гони их, братва, назад! – крикнул он верхоконным, – лупи их, гадов! Не пущай никуда! С-т-о-о-й!
Конные бандиты еще теснее сомкнули круг и кое-кого из близ стоящих крестьян и лавочников не то для острастки, не то для пробы огрели нагайками по спинам. Толпа подалась вперед к трибуне.
Толсторожий успокоился. Он укоризненно оглядел толпу и сказал назидательно и строго, как провинившимся мальчишкам:
– Дурни! В бегунки подались, а понятия того нету, что теперя спеть полагается, гимн сполнить. Несознательный народ. Прямо стадо какое, а не народ. Ну-ка, Бенедикт Гаврилыч, начинай.
Очкастый снял шляпу, закрыл глаза, задрал кудреватую голову и высоким горловым голосом запел «Черное знамя». Он пел один, никто его не поддержал, песня была незнакомая. Толсторожий от времени до времени начинал что-то мычать, но не понять было: то ли он тоже ноет, то ли просто так, горло прочищает.
«Мы горе народа затопим в крови»… – пронзительно пел очкастый. «Гм – хор» – мычал толсторожий. А толпа молчала. Крестьяне и лавочники мяли в руках картузы и пугливо косились на конных бандитов, стараясь по их лицам угадать, скоро отпустят или долго еще мыкаться. Но лица бандитов были непроницаемы, и «вольные граждане» тихонько вздыхали и осторожно, без всякого шума, переступали с нога на ногу.
Когда очкастый, в последний раз пригрозив «затопить в крови», открыл глаза и надел шляпу, толпа ожила. Теперь-то уж конец! Шабаш!
Да не тут то было.
– Ну-ка, братва! – крикнул толсторожий верхоконным, – запевай нашу, штоль. Но дружно. Чтоб как следовает.
Бандиты оправились и откашлялись. Толсторожий поднял руку и по знаку сотня глоток разом, как один, рявкнула развеселый, разухабистый бандитский «гимн».
Мы их жа порежем,
Да мы их жа побьем.
Последних комиссаров
Мы в плен заберем…
Ура, ура, ура,
Пойдем мы на врага…
– Все, – сказал толсторожий, сворачивая черное знамя, – рас-хо-дись!
Но прежде, чем кто-нибудь успел шаг сделать, из дома, в котором находился батько, выскочил щеголеватый ординарец и поспешно крикнул:
– Не смей расходиться! Кто приказал? Не смей! Сейчас будет народный суд. Комиссаров судить будут. Никто чтоб не уходил. А то гляди у меня!
Степа, услыхав – «комиссаров», быстро оглянулся. Каких комиссаров? Кого? Губарева? Бера? Но никого еще не было.
Два бандита из охраны батько, в черкесках, вынесли из дома и поставили на крыльцо обитое зеленым плюшем низкое кресло. Третий бандит приволок стол. За стол сел писарь, плюгавый человечишка, лысый, с тонким, как струна, носом. Он аккуратненько разложил на столе какие-то бумажки и папки, извлек из внутреннего кармана пиджака грязный носовой платок, звучно высморкался, протер тем же платком потную лысину, взял в руки перо, обмакнул его в чернила и, пригорюнившись, как деревенская баба на похоронах, принялся ждать. Ждал он долго. И вместе с ним ждали все: и мужики со слободы, и коробейники с «выгона», и конные бандиты, и пулеметчики на двуколках. Было тихо.
Наконец толсторожий объявил во всеуслышание:
– Открываем суд над подлюгами-комиссарами. Судить будит батько и весь народ. Которые жилающие высказаться, будит им дан голос. – Веди, Кузьма! – крикнул он кому-то. – Живо!
Заскрипели на ржавых петлях ворота, в воротах показались конвоиры, пятеро с маузерами в руках, шестой, передний, Кузьма Мякитин, – местный, слободской, бывший унтер – с шашкой наголо, в центре – арестованные комиссары. Было их двое: Казимир Гущинский, военком, белобрысый сутулый парень в армейской шинели и Бер Гезин. Рыжие волосы Бера растрепались и встали торчком, а под левым глазом, как холмик, возвышался синий желвак. Запрятав руки в карманы штанов, в ночной рубашке, изодранной в клочья, Бер выступал с какой-то угрюмой важностью. Казалось, он не видел ничего из того, что делалось вокруг него и думал о чем-то своем, серьезном и нужном.
Степа вобрал голову в плечи, сжался весь: Бер! Поймали!
Кузьма Мякитин подвел арестованных к крыльцу, лихо, по-военному, звякнул шпорами и взял под козырек. Он отдавал честь плюшевому креслу, так как батько в кресле еще не было.
В окне второго этажа высунулась голова ординарца.
– Готово? – спросил он.
– Готово, – доложил толсторожий.
Батько, должно быть, в это время закусывал. Когда минут через пять он появился перед народом, челюсть его продолжала равномерно двигаться, дожевывая еду. Появится он в той же гимнастерке, но в шапке. Папаху батько не носил, жарко же летом в папахе, но возил ее с собой повсюду как знак своего высокого достоинства.
Батько развалился в кресле, вытянул по-барски кривые ноги и, ни на кого не глядя, глуховато сказал:
– Значит, так. Начинаем.
Первым к батько подвели Бера. Кузьма толкнул Бера в бок и мирно сказал:
– Руки из кармана вынь.
Бер вынул.
– Име? – коротко спросил батько.
– Бер.
– Отчество?
– Мовшев.
– Фамилье?
– Гезин.
Лысый писарь, низко пригнувшись к столу, проворно водил пером, записывал показания.
– Жид?
Бер не ответил.
– Хранцуз, може? – батько фыркнул, ему самому понравилась острота.
Фыркнул и толсторожий. Фыркнул и писарь.
Батько подался немного вперед и коротким, как обрубок, волосатым пальцем поманил Бера:
– Подойди-ка поближе.
Бер подошел.
– Скажи-ка, – тихо, как бы по секрету, спросил батько: – сколько вам, жидам, Вильгельм жалованья платит, а?
Бер ничего не ответил. Батько нахмурился.
– Я тебе спрашиваю, – повторил он громко, чеканя слова, – сколько вам его немецкое величество Вильгельм Второй жалованья платит? Ну?
Бер потрогал желвак у глаза и лениво сказал:
– Дурак.

Батько еще больше потемнел. Он повернулся к писарю и тыльной стороной ладони хлопнул его по лысине.
– Выкликай свидетелей! – мрачно буркнул он.
Писарь зачем-то поднялся и по бумажке прочел:
– «Крючарев».
Подошел дьяк. Трусливо перебегая глазами с батько на писаря, с писаря на толсторожего, с толсторожего на очкастого, дьяк зашептал хрипло и зло:
– Мы его знаем, этого яврея, – зашептал он. – Мы его хорошо знаем. Среди лиходеев он самый был лиходей. Мало нам было своих мучителей, так он еще из Америки приехал, дабы умножить число злодеев и кровопийц. – Дьяк закашлялся. – И вот стоит он перед нами, яки аспид с вырванным жалом, – продолжал он, откашлявшись, – неужели же, братья, мы его отпустим с миром и благоволением? Да не будет того, братья! Да покарает его меч правосудия! Кровь его на голову его! Не будет ему пощады! Нет!
Писарь, беззвучно шевеля губами, аккуратно записывал все, что говорил дьяк. Потом он встал и опять прочел по бумажке:
– «Калмыков».
Вышел Антон. Он строго поглядел на Бера, погладил бороду и не спеша сказал:
– Что долго толковать? Верно тут гражданин Крючарев говорил: злодей. Он у них, у камунистов, в большом был почете. Уважали они его, потому что прибыл он, видишь ли, издалека и человек будто ученый. Грабил тоже, как все они, окаянные. А больше ничего показать не могу.
Писарь записал и это.
Толсторожий пошушукался с очкастым, потом спросил что-то у батько, батько согласно кивнул, потом крикнул:
– Которые жилающие за обвиненного говорить, – крикнут он, – выходи!
Толпа испуганно молчала.
– Выходи, ну! – Толсторожий подождал. – Никто не хотит? – подождав, спросил он. – Може, ты хотишь? – толсторожий ткнул пальцем в какого-то долговязого коробейника с «выгона». Тот шарахнулся в сторону. – Не хотишь? Ну, ладно. Читай, браток, – сказал он писарю.
Писарь торопливо дописывал лист. Дописав и поставив последнюю точку, он выпрямился во весь свой мизерный рост и торжественно начал:
«Военно-полевой народный суд вольно-партизанской дивизии в составе: батько Никона Онуфриевича Шакилка, всего воинства и народа, при секретаре Кикушкине, рассмотрев».
Вдруг писаря прервал спокойный голос Бера:
– Чего вы, мерзавцы, комедию ломаете? – сказал Бер. – Или мало вам повесить? Еше поиздеваться надо? Сволочи!
Батько, отбросив кресло, вскочил, рванулся.
– Врешь! – прохрипел он. – Не повешу! Жив-вьем закопаю, сстерва!!

Глава восьмая
«Свои»
Что было дальше, Степа не видел. Он тихонько улизнул с площади в ближайший переулок – и ходу. Степа не шел, его несло. Сжимая до боли кулаки, стиснув зубы, Степа шагал широко, бежал. Платок с лица он содрал. К черту! Он почти плакал от обиды и от злости. Как измываются, гады! Как изгиляются! У, скоты!
Степа обо что-то споткнулся и упал. Упал и увидел, что лежит в траве. Над головой небо. Вдали на холмах – Славичи. Но Степа не глядел ни на небо, ни на Славичи. Не до них. Оп лежал и думал.
«Нет, – думал Степа, – так нельзя. Косой прав. Надо выступать. К вечеру, если Уре не будет, махну в уезд. Чего там?»
Только Степа это подумал, как перед ним словно из-под земли вырос человек. Чистенький старичок, ясноглазый, как ребенок, с розовой бородавкой на пухлом розовом носу. В левой руке он держал батожок, в правой – сундучок, обитый железом, а за спиной у него болталась тощая котомка. Подошел старичок неслышно, он был в лаптях, не поздоровался, как водится, и не спросил ничего. Он молча улыбался и с явным любопытством разглядывал Степу, как диковину какую. Степа, увидев над собой человека, сначала испугался, а потом рассердился.
– Ну, чего уставился? – спросил он.
– Так, – молодым, звонким голосом ответил старичок. – Так. Интересна.
– Ничего тут нет интересного, – сказал Степа. – Проваливай.
Но старичок и не думал уходить. Наоборот, он опустил сундук на землю, присел и, не переставая улыбаться, кротко сказал:
– А не говори, сынок, – сказал он, – всяка тварь интересна, комар и тот интересна гудэт. А живой человек так тот завсегда интересна.
– Чего там интересного? – сказал Степа.
– У, сколько! – сказал старичок. – Пуд! Вот к примеру ты. И знакомый ты мне будто и не знакомый. Лицом ты на своего батьку схож, а кто твой батька – не припомню. Вот и интересна.
– Я – Осипа сын, сказал Степа, – слободского Осипа.
– Осипа? Однорукого-то? Знаю. – Старичок был доволен.
– Вот и признал, – сказал он с гордостью.
– А ты сам-то кто? – спросил Степа.
– Я сам-то далекий. Из Вознесенского, – сказал старичок. – Село Вознесенское знаешь? Верст за десять отсюдова. А звать меня Лукой.
– А в Славичи ты зачем?
– В сполком надо, – деловито сказал старик.
– Нету сегодня исполкома, – сказал Степа, – завтра придешь.
Старик покачал головой.
– Н-е-е-т, – протянул он, – не годится.
– Что не годится?
– Не годится завтра, – сказал старичок.
– Отчего?
– Завтра, сынок, другой день будет, – сказал старичок, – а мне еще и за сегодня покушать полагается.
«Из ума выжил хрен», подумал Степа и сказал:
– Так сходил бы ты, дед, домой и покушал.
– Не можно, – ответил старичок. – Не можно домой. Меня сын из хаты выгнал. «Чтоб не приходил, говорит, а то, говорит, голову проломлю».
– Ты затем и в исполком?
– Ага, – сказал старичок. – Службу какую просить хочу. Сторожем там или что.
– Приходи завтра, – сказал Степа. – Сегодня в исполкоме нету никого.
– Праздник какой? – спросил старичок.
– Не праздник, – сказал Степа, – а бандиты. В Славичах сейчас бандиты. Понимаешь?
– Так, так, – сказал старичок. – Понимаем. А что у них, у бандитов у этих, какое начальство? Председатель или кто?
– У них – батько, – сказал Степа, – атаман. А зачем тебе?
– А пойду к нему на службу проситься – спокойно сказал старичок. – Сторожем там или что.
Он встал, поправил на спине котомку, взял в руки сундучок и, не попрощавшись, побрел по направлению к местечку, к батько.
– Очумел ты, что ли? – крикнул ему вслед Степка. – Воротись домой, говорят тебе!
– Ан нет, – не останавливаясь, ответил старик. – Не можно мне домой. Зарежет Васька.
И ушел.
– Вот ведь дурень, – ругался Сгепа. – К батько на службу проситься! Ах ты, старый пень!
Когда Степа вернулся домой, Осип сидел и обедал. Ел он смачно, громко чавкал, по всякому поводу начинал хохотать и вообще не узнать было мужика. Не тот Федот. Словно помолодел лет на пятнадцать. В последнее время, после острога, Осип зверем смотрел на Степу, злился, ворчал. А тут на радостях он и сына встретил как желанного гостя, весело и шумно.
– А, Степан Осипович! – закричал он. – Где пропадал? Садись. Лопай.
Степа мрачно покосился на отца.
«Развезло его, пьяницу, – подумал он. – Как кабаком запахло, так и ожил. Герой!»
А Осип жадно хлебал из миски щавель, заправленный сметаной, и говорил не умолкая.
– Каюк, Степка, камиссарам твоим, – говорил он, – крышка, брат. Пожили в каммунии и будет. Попробуем пожить вольно. Так-то оно лучше. Как мы революцию делали, нам в три короба понадавали обещаньицев – и то, и другое, и пятое: и свобода, и мир, и земля. А как на деле, так нашего брата в бараний рог согнули. В острог садят. И за что? За самогон. Тьфу ты! Но будет. Будет. Попробовали этого гостинца – каммунию и хватит с нас, хорошего понемножку. Поживем вольно. Так-то оно складней будет.
– Погоди еще зубы скалить, – проворчал Степа, – как бы потом не завыл.
– Брешешь, брат, – уверенно сказал Осип, – не таковские мы. Да с чего выть-то? Воля, брат. Понимать надо. Слыхал, атаман что говорил: «Мирных людей не трону-. Живи, как хошь». Ни тебе острогов, ни тебе властей. Осип захохотал. – Я, брат, ноне сам вроде власти. Партейный. В партею в ету, в анархисты записался. Со мной ноне знай как. – Осип вдруг понизил голос: – У меня с тобой, Степка, разговор будет, – сказал он серьезно. – Человек я теперь на виду, партейный, так ты уж запомни, чтоб ты с этими с твоими с приятелями, с консомольцами, больше не знался. Ни-ни. Их по всему городу ищут, а найдут – всыпят по первое число, а то и к стенке. Тебя в обиду не дам. Хуть какой, а сын ты мне. Но этих – чтоб духу не было. Чуешь? Раньше я не хозяин был. Я тебе одно, а ты другое. А больше, чтоб этого не было. Чуешь?
За окном на улице затарахтели тележки и к дому подкатили четыре двуколки. «Стоп!» – скомандовал чей-то оглушительный бас. На двуколках горой были навалены шубы, тулупы, сапоги, валенки, тюки полотна. Поверх всего лежала пара стенных часов с тяжелыми медными гирями и с ярко расписанным циферблатом. На лошадях в виде попон были наброшены теплые стеганые одеяла.
Открылась дверь и в хату вошли трое бандитов. Во главе – коноводом выступал тот самый бородач в малиновых галифе, которого Степа видел в приречном переулке. Одноногий возница, его товарищ, остался сидеть на тележке, стеречь добро.
Осип вскочил с места и, сияя от гордости, поспешил гостям навстречу.
– Вот спасибо-то, что зашли, – захлопотал он. – Вот спасибочка. Отобедаете, може, а? Ганка! – крикнул он жене, – тащи там, что есть! Ну!
Бородач – он был уже в суконной поддевке поверх матросского бушлата, – не обратил на Осипа никакого внимания. Он обошел хату, зорко вглядываясь во все углы, а потом высунулся в окно.
– Что, браток, скучаешь? – сказал он кому-то, вознице, верно. – Скучаешь, Анютка, а?
– Убери рыло, боров, – ответил ему из-за окна дребезжащий голос. – Сховай, холера, рыло, а то плюну.
Бородач не обиделся.
– Сплясал бы, хромой черт, коли скучно, – посоветовал он. – Чего зря сидишь? В хату все одно не пущу.
– Чтоб тебе околеть, бродяге! – крикнул голос.
– Гляди, Анютка, стукну, – пригрозил бородач.
– Это ты-то? – презрительно сказал голос.
– Поглядишь.
– И глядеть на тебя, на бродягу, не буду, – сказал голос. – Я лучше на свинью глядеть буду. Свинья красивше.
Бородач повернул к приятелям удивленное лицо и беспомощно развел руками:
– Как тявкает, пес? – сказал он. – Что скажешь, а?
Меж тем Ганна понаставила на стол всякой всячины, все, что только нашлось в чулане, все запасы. И молока, и сметаны, и творогу, и яиц. А Осип все подгонял, все торопил:
– Живей, живей! Тащи!
– Отобедаете, може? – повторил он, когда все было готово. Бородач сощурился, как от слишком яркого света, и широко зевнул.
– Дурной, – лениво сказал он. – Ты, небось, думаешь, что мы отродясь сметаны не видали? Или яиц? Так, что ли?
Осип хотел что-то сказать, но бородач не слушал.
– Нет, ты мне скажи, – настаивал он, – что мы, по-твоему, босяки какие или кто? «Отобедай». А я, может, уж не один обед слопал, да такой, что тебе, дурному, и во сне не виделось. Гуся, може, ел.
– Ну, молока попейте, – нерешительно сказал Осип. – Чего там обижаться? Свои же…
Бородач вплотную придвинулся к Осипу.
– Свои? – медленно выговорил он, – Это кто же свой? Ты, што ли? Дай-ка на тебя поглядеть. – Он выпятил губы, задрал бороду и уставился на Осипа. – У, ты, родненький мой, – протянул он нежно, как ребенку малому, – дитятко ненаглядное, – он гулко чмокнул и сделал ручкой.
Бандиты заржали.
Осип слегка опешил.
– Что вы, братцы? – сказал он. – Я ведь так…
– «Так, так» – передразнил бородач. – Ты так, а мы так. – Одним махом он смел со стола все горшки, тарелки, стаканы и миски. – Видал? – благодушно усмехаясь, сказал он.
– Вот мы как!
Осип растерянно и недоуменно смотрел на черепки, на молоко, ручьями растекающееся по полу и, видимо, ничего не понимал. А бородач опять подошел к окну.
– Хотишь, Анютка, молока? – спросил он возницу, – заместо самогону, а? Подь сюды. Лакай.
– Подожду уж, – ответил из-за окна дребезжащий голос, – подожду уж, боров, пока подохнешь. Тогда и налакаюсь. – Долго ждать, Анютка, – сказал бородач. – Тебе не дождаться. Н-е-ет.
Он облокотился на стол, сонный и раскисший от жары. День был душный. В такой день даже в ситцевой рубахе вспотеешь, а бородач был в поддевке поверх бушлата. Но скинуть поддевку у него духу не хватало. Больно одежа хорошая.
– Вот что, хозяин, – неторопливо начал он. – Ты это брось, глаза таращить. Эка невидаль, битые горшки. Я их тебе, коли охота, полну хату навалю. Брось, ну! Ты лучше послухай, что тебе говорят. Мы к тебе за делом. С тебя в пользу вольно-партизанской дивизии контрибуция полагается. Что, братва, с него возьмем? – обратился он к приятелям.
– Что найдем, то и возьмем, – недолго думая, ответил второй бандит, черный, как цыган. – А что возьмем, то и наше.
– Нам, браток, треба, ценные чтобы были вещи, – пояснил бородач Осип, – золото е?
– Золотом у него не поживишься, – вмешался третий бандит, с виду «зеленовец». – А тулуп вон лежит. Прямо на меня и смотрит, сердешный.
«Зеленовец» показал на печку. И верно, на печке, среди хлама, лежал тулуп.
– Сыми-ка, хозяйка, – приказал бородач Ганне.
Но Ганна, прислонившись спиной к косяку, тихо выла: «ой-ой-ой, божжа мой», захлебываясь, шептала она и кулаком размазывала слезы по лицу.
«Зеленовец» сам снял с печки тулуп. Тулуп был старый, рваный, в разноцветных заплатах. Когда его развернули, едкая пыль облаком поднялась к потолку.
– Сносил как, – укоризненно сказал «зеленовец». – Не хозяйский мужик.
Степа тревожно следил за отцом. С Осипом было что-то неладное. Он, шатаясь, прошел зачем-то в сени, но скоро вернулся, держа в руках большую медную кружку.
– На, – сказал он и поставил кружку на стол перед самым носом бородача. – На, – сказал он, – бери.
Бородач удивился.
– А зачем мне?
– Бери. Бери, – твердил Осип.
Бородач начал сердиться.
– Катись! – проворчал он, – не надо мне.
Но Осип не отставал.
– Бери. Пригодится, – негромко говорил он. – Доброму вору все впору. Бери. Ну!
Бородач побагровел. Его пальцы судорожно обхватили кружку.
– Вору? – процедил он. – Доброму вору? – И вдруг вскочил: – Ты что сказал: вору? – ах, ты!..
Сверкнув на солнце, в воздухе промелькнула медная кружка. Га! От блеска и от страха Степа плотно зажмурил глаза. А когда он открыл их, бандитов в хате уж не было, а на полу в крови лежал Осип.