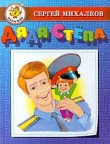Текст книги "Вольные штаты Славичи"
Автор книги: Дойвбер Левин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Глава девятая
Батько атаман
Бандиты давно уже ушли, давно уже отгрохотали их тележки по пыльной улице слободы, уже опять вернулась тишина жаркого июньского дня, а Осип все лежал на полу. Попало ему не сильно, повезло: удар пришелся по плечу, а кровь была не опасная, кровь шла из носа. Но Осип как бы умом тронулся. Он лежал пластом, – глаза закрыты, кровь тонкой струей стекает с подбородка на рубаху, с рубахи на пол, – и мычал. Мычал не переставая, ровно, как будто дело делал: «ымм».
Ганна принесла воды в той же медной кружке – с кружкой ничего не случилось, не сломалась и не погнулась даже, – она оказалась крепче хозяина. Вместе со Степой Ганна обмыла лицо Осипа холодной водой, вытерла сухим полотенцем кровь и Осип не сопротивлялся, только мычал. Но когда они захотели приподнять его и перенести на полати, Осип вдруг забузил. Ганну сапогом в живот он отшвырнул в угол, а Стену хватил кулаком по скуле с такой силой, что тот отлетел на три шага и едва удержался на ногах.
Степа обозлился.
– Ну тебя, пьяницу, к черту! – сказал он с сердцем. – Я-то при чем? Твои же товарищи, «партейные». Воля! Воля! Вот они тебе и показали – «воля». Что? Невкусно?
Осип вдруг вскочил, сам вскочил, рывком.
– Врешь! – зарычал он. – Врешь, хол-лера! Не будет того! Я им пок-кажу!
Он был страшен, этот однорукий, долговязый человек. Он скрежетал зубами, рычал, как зверь, а по темным его щекам катились слезы, величиной каждая в горошину.
– Я им пок-кажу! – рычал он. – Я им пок-кажу!!
– Ну, что им сделаешь? Чего бахвалишься-то? Сам ведь того хотел. «Свои!»
Осип не ответил. Он, верно, не понимал, что говорил Степа. Ярость прошла. Он присмирел. Осип сел на лавке у окна и сидел долго, понурый и тупой, как вол. Изредка, когда очень уж надоедали мухи, – а мухи роями вились вокруг него, – он мотал головой и что-то бормотал про себя. Но что – не понять было. Только раз он сказал громко и отчетливо: «Очкастая твоя морда! Убивец!»
Степе стало жалко отца. Он попытался его успокоить и утешить.
– Плюнь, – сказал он, – чего ты от них хотел – бандиты же. Вот погоди – подойдут наши…
Осип, не дослушав, встал. Тяжело шаркая ногами, он пошел из хаты на улицу. Он недолго постоял у ворот, подумал, потом решительно повернул и зашагал к мосту.
Ганна, она в это время заметала под печь битую посуду, крикнула сыну*:
– Степка, поди жа погляди, куда жа он!
Степа и сам уже собирался бежать за отцом. Он знал Осипа. Неладный мужик. Как бы чего не натворил. Главное, не напился бы. Напьется – скандалить начнет, а заскандалит – будет худо.
«Уж не к батько ли попер ругаться?» – с беспокойством думал Степан, еле поспевая за отцом. Осип шел быстро, помахивая в такт рукой, и Степе, чтобы не отстать, приходилось гнать рысью.
Улица была не та, что утром, не глухая, не безлюдная. Окна были открыты, у ворот купами собирались мужики. На завалинках сидели бабы. Незачем было прятаться. Все, что можно, бандиты забрали. Очистили, окаянные, до нитки. Теперь ходи, гуляй, пой. Чего теперь-то хорониться? Но бабы не пели, бабы выли. А мужики стояли мрачнее тучи. Степа, проходя, видел, как Ермил, поджарый мужик с большим кадыком, подмигивал на Осипа и слышал, как он бурчал: «Тоей же стаи голубь».
«Искалечат мужики батьку», – понял Степа. «Так ему и надо, пьянице, – подумал он. – Чего ввязался? „Свои“. Тоже!»
Парило. Казалось, надвигается гроза. Но небо было чистое и светило солнце. Листья деревьев поблекли, словно покрылись серой пылью. Сонно гудел шмель. Густой, недвижный зной давил, как чугунная плита. Покупаться бы!
Должно быть, и Осип вздумал покупаться. Он пошел не по мосту, а берегом, дошел до песчаного мыса среди кустов и, не раздеваясь, опустился зачем-то на колени. Наклонив голову, Осип жадно тянулся к воде. Степа испугался. Чего он? Спятил или топиться затеял? Степа вбежал на мост. С моста удобнее было наблюдать за отцом. Степа посмотрел и рассмеялся. Осип пил. Он пил, как лошадь, всхрапывая и пофыркивая. Ну и балда!
Напившись, Осип через мост направился в Славичи. Степа, незаметно для отца, шел следом, ни на минуту не упуская его из виду. Прошли одну улицу, другую, третью, миновали церковь и подошли к двухэтажному дому, в котором остановился батько. Так и есть! К батько попер!
У крыльца на часах, в полном боевом вооружении стоял бандит из личной охраны батько. Ему, верно, было скучно, этому рослому парню в черной черкеске. И вот, чтобы скоротать время, он занялся охотой. Держа у плеча винтовку японского образца, он не спускал глаз с церковного купола и, как только на крест садилась галка, начинал палить. Никто на пальбу не обращал внимания: стреляли во многих местах, к этому привыкли. Каждый раз, когда охраннику удавалось подстрелить галку, он шумно выражал свой восторг: хлопал себя свободной рукой по ляжке и гоготал. Невдалеке, у ворот, прямо на земле полулежал бандит в офицерском белом кителе с подполковничьими погонами, совсем мальчишка, с безусым, круглым девичьим лицом. За каждую убитую птицу он тут же наличными выкладывал сорок рублей керенками. Зато охранник за промаз платил «подполковнику» шестьдесят. Игра была азартная и увлекала обоих. Оба кипятились, часто ссорились и ругались.
На вопрос Осипа, дома ли батько, охранник ответил неопределенно: «Може дома, а може и нет. Тебе зачем?» Осип опять что-то сказал; что – Степа не расслышал, а бандит чесал затылок и, видимо, никак решить не мог, что верней: дать этому однорукому дьяволу по шее или же стукнуть его прикладом в бок. Наконец после усиленных просьб Осипа охранник смилостивился: «Хряй наверх, – сказал он, – дома».
Так как бандиты снова занялись пальбой, – «двух возьму, Мишка!» – хвастливо кричал охранник, – Степа быстро прошмыгнул на лестницу и поднялся наверх одновременно с отцом. Осип посмотрел на сына пустыми, невидящими глазами и промолчал. То, что Степа оказался здесь, его не удивило. Что тут такого? Раз пришел, значит, надо. Осип сейчас соображал туго.
Осип и Степа вошли в переднюю. Степе сначала показалось, что в передней – ни души. Повсюду на стульях, на подоконнике, на полу были раскиданы шубы, шинели и седла. Седел было больше всего. Посередине стояли два ящика, один поверх другого, с патронами. И – ни души. Степа вздрогнул от неожиданности, когда вдруг раздался чей-то слабый голос, который спросил, чего им… Оказалось, что в углу за столиком сидел лысый писарь и усердно скрипел пером.
– Вам что угодно-с? – спросил он.
– Мне бы до господина атамана, – несмело сказал Осип.
Писарь встал, приоткрыл дверь в соседнюю комнату, просунул в щель кончик носа и, напрягая горло, крикнул:
– Никон Ануфриевич, к вам.
– Гони! – ответил сиплый голос батько.
Писарь хотел захлопнуть дверь, но Осип, набравшись решимости, оттолкнул его и пролез вперед. Степу писарь не пропустил. Но дверь за Осипом осталась открытой и Степе видно было все, что делалось в соседней комнате.
Во всю длину комнаты, – а комната была узкая и очень длинная, когда-то здесь помещалась чайная-закусочная, а после революции читальня и зал для докладов, – тянулся ряд столов, сдвинутых вместе и для верности связанных еще веревками. На столах громоздились бутылки, стаканы, тарелки, кастрюли, опять бутылки и опять бутылки, с вином, со спиртом, с коньяком, с самогоном. Вокруг столов сидело человек тридцать. Посередине лицом к двери – батько, справа от него – очкастый, слева толсторожий. Щеголь-ординарец сидел рядом с очкастым, дальше – личная охрана батько, за ними – штаб отряда, шесть молодцев с рунными бомбами, прицепленными к поясам, и крайними за столом сидели члены совета Вольных штатов – дьяк и Сонин. И еще Антон.

Батько обедал. С притворной грубостью радушного хозяина он журил поочередно всех гостей за то, что будто мало едят и пьют. Чаще всего он обращался к очкастому:
– Хреновый ты мужчина, Бенедикт, – говорил он. – Рази так пьют? Глаза зажмурит, языком, как корова, лизнет и отставит. Рази так пьют? Так бабы пьют. Ты учись, – он показал на толсторожего, – вот человек пьет, любо-дорого. Уж он анархист, так анархист. Что надо: и выпить не дурак и в обиду себя не даст. Не-ет. А ты блаженный какой-то, хреновый мужчина. Ты не обижайся, Бенедикт. Я тебе от сердца говорю. Я ведь тебя, дурня, люблю. Ты вот меня не любишь. Это верно. Ты анархию свою любишь и потом, – батько прищелкнул пальцами, – пети-мети любишь. Я, браток, знаю. Копишь, ведь, черт, золотые десятки? Ну, рассказывай. Ладно. Ладно. Меня не обманешь. Я зна-а-ю. У меня, браток, сто глаз. А вот за ум тебя уважаю. Все понимаешь, чисто. И потом учен ты. Ну, прямо архиерей. За это уважаю. Верно слово, уважаю. Ну, чего сумный сидишь? Эх ты, чудак. Я ведь тебе от любви говорю.
Очкастый не от обидных слов клевал носом. Он хлебнул лишнее и осоловел. Сдвинув очки на лоб, он выпученными близорукими глазами обводил стол, как бы не понимая, что тут за люди, застывал на миг и вдруг, поникнув кудреватой головой, засыпал. Его будили. Он опять таращил глаза, опять не понимал, где он и опять засыпал.
Осип переминался с ноги на ногу, не смея ни подойти к батько, ни окликнуть его. Он бы так и ушел незамеченный никем, если бы не щеголеватый ординарец.
– Э, ты, чего? – громко, через весь стол, спросил ординарец.
– Мне бы к ним, – сказал Осип.
– К кому – к ним?
– К господину атаману.
Батько услыхал «атаману», вскинул голову и хмуро посмотрел на Осина.
– Тебя кто сюда пустил? – сказал он. – Что надо?
Осип осторожно, стараясь никого не задеть, стал пробираться к батько.
– Ты вот послухай, что эти твои грабители понаделали, – бормотал он на ходу. – Ты вот послухай…
Щеголеватый ординарец вскочил и преградил ему дорогу.
– Куда прешься, ну? Катись отсюдова!
Осип обошел ординарца, как обходят пень. В этой комнате он видел только батько, только батько ему был нужен и он шел прямо на него.
– Ты вот послухай, – говорил он, – ты вот послухай, что они наделали…
Но батько слушать не хотел.
– Да гоните вы его к черту! – нетерпеливо крикнул он. – Чего там возитесь?
На помощь ординарцу поспешил штабист, плотный дядя с усами, как у таракана. Они обхватили Осипа, скрутили ему руки, и, подталкивая пинками, поволокли к двери.
– А ты не лезь! не лезь! – приговаривал ординарец.
– Пустите его!
Эго было так неожиданно, что все приумолкли. И в тишине снова прозвучал сердитый оклик:
– Пустите его, говорю!
На ординарца наступал Сонин, круглый, краснощекий, в бархатных шароварах и в длинной чесучовой толстовке. Он наскакивал, как драчливый петух, как-то смешно подпрыгивая. Он размахивал суковатой дубинкой, – а в дубинке без малого полпуда – и звонко, по-бабьи, кричал:
– Пустите, говорят вам! Он жаловаться пришел! Он к нам пришел. А вы – бить! Пустите же!
Ординарец растерянно пятился перед грозной дубинкой.
– Что ты? Что ты? – бормотал он ошалело.
Вдруг перед носом Сонина вырос громадный бородавчатый кулак батько. Маленькие глазки атамана налились кровью, а рубец на щеке дергался как живой.
– Ты что? – свирепо и тихо проговорит батько. – Ты что, жидовская морда? Указывать? Ты мене указывать? Да я тебя в порошок сотру! Ноги из заду выдерну! Шампалóв не кушал, сукин сын? Нет? Так покушаешь! Федька! – гаркнул он.
Ординарец с готовностью щелкнул шпорами.
– Слушаю.
– Тридцать шампалóв! И живо!
Батько грузно, как после трудовой работы, вернулся к столу.
– Уходи отсюда, уходи! – заверещал над ухом Степы нудный голос писаря, – уходи, а то караульного позову.
Степу упрашивать не стоило. Он уж и рад был уйти поскорее. Кубарем скатился он с лестницы, зажал под мышкой шапку и – бежать.

Глава десятая
Анархисты
Пробежал Степа немного. Там, где начинались ряды лавок, там нельзя было ни пройти, ни проехать. Улицу запрудили десятки телег. Сначала Степа понять не мог, что за телеги. Похоже было, что завтра «духов день», когда в Славичах открывается годовая ярмарка. Накануне еще из окрестных деревень наезжали крестьяне, на базарной площади ярмарочные торговцы ставили палатки, строили карусели и балаганы, а с зари до позднего вечера шумело и буйствовало великое торжище. Но «духов день» уже миновал, да и вообще в эти последние три года ярмарок не бывало и не сегодня же, когда в Славичах бандиты, открывать ярмарку. Но что за телеги? Откуда вдруг столько?
Скоро, впрочем, все объяснилось. Степа услыхал звон разбиваемых замков и треск досок. Бандиты «чистили лавки». Орудовали одни «зеленовцы», юнцы и бородачи, кто в шинели, кто в расшитой полотняной рубахе, и действовали все одинаково усердно и дружно, не за страх, за совесть. Это была их законная добыча. Батько за помощь дал им лавки. «Зеленовцы» – в большинстве окрестное кулачье и дезертиры Красной армии, недовольные продразверсткой и дисциплиной, – долго сидели в лесах и присоединились к отряду лишь недавно. Сделку «зеленовцы» заключили с батько еще до взятия Славичей. Главари «зеленовцев» потребовали лавки. Батько согласился, но с оговоркой – часть в пользу «вольнопартизанской дивизии». Славичи взяли. Зеленовцы тотчас дали знать по домам: «Гони подводу». И вот теперь они сбивали замки, ломали двери и, сгибаясь под тяжестью пятипудовых мешков, таскали муку и соль, и сахар-рафинад, и мануфактуру, и синьку, и иголки, и черствые калачи, и дамские шляпы, и чугунные котлы, и банки с солеными грибами, и гвозди, и склянки с уксусом, и бутылки с подсолнечным маслом, и бусы, и рогожи, и детские игрушки.
«А правда батя говорил, – подумал Степа, – что „доброму вору все впору“.»
«Зеленовцам» в грабеже помогали жены, дети, старики-родители. Старики жадничали как-то особенно люто. Они не упускали ни соринки. Что не укладывалось или не умещалось в телеге, запихивали за пазуху, совали в карман, прятали в шапку. Торопливо и юрко, как большие крысы, метались они между телегой и лавкой, отпихивали соседей, кричали и бранились. Несколько раз дело доходило до драк, но драки не затягивались, спешили, а то, глядишь – пока ты тут колошмятишься, а уже ничего и нету. Другие-то не спят и не ротозействуют, они знай набивают мешки и карманы.
– Сюды, сюды! Не рассыпь! Чего толкаешься, холлера? Мое! Не трожь! Куды? Уббью! – висел над улицей многоголосый крик.
У каждой лавки стояло два-три человека из охраны батько. Они на глаз, примерно, определяли, сколько и чего полагалось сдавать в пользу дивизии. Брали они лучшее, но с ними никто не спорил, их боялись. Ребята скорые, за поясом, туго обхватившим черкеску, у каждого два револьвера, ежели что – ухлопают и спасибо не скажут. Нехай берут, не жалко. Всем хватит. Много.
Хозяева лавок – вольные граждане вольных штатов – не показывались. В опустошенных домах, за плотными ставнями, они дрожащими голосами молили бога об одном: о спасении живота. О большем никто и просить не смел. Они затыкали уши, чтобы не слышать, как жалобно ноют замки, как трещат доски, как дико горланят и воют «зеленовцы». Быть бы только живу! Быть бы живу, господи!
Но господь помогал слабо. Лавочника Абе, горбуна с хитрым лисьим лицом, «зеленовцы» убили. Абе жил во втором этаже над лавкой и, когда к дому подкатили штук пять телег, он кинулся к окну. Абе торговал зонтами, галстуками и пуговицами. И то, и другое, и третье было бандитам ни к чему. Абе вздумал предложить им взамен товара деньги. Он распахнул половинку окна и крикнул:
– Погодите минуточку!
Пожилой «зеленовец» с окладистой по пояс бородой чинно ответил: «Погодим. Чего нам?» И так же чинно разрядил Абе в голову винтовку. Горбун не пискнул даже. Он со стуком рухнул на пол. Пуля прошла через рот в затылок.
– Вот те и погодил, – удивленно сказал пожилой «зеленовец», – потеха!
Он поскреб за ухом, сплюнул и пошел к товарищам на подмогу7: замок не поддавался, надо было взламывать дверь.
– Дружней! – крикнул он. Приналег плечом и крякнул, – взяли! Раз!
«Чеку бы на вас! – стиснув зубы, думал Степа. – Распоясались, гниды. Погодим, дядька, погодим! Посмотрим!»
На базаре вдруг началась завируха. «Зеленовец», молодой парень, приземистый и крепкий как медведь, – Степа его знал: Гришка Коротков из Глубокого, дезертир, – напирал на охранника и кричал:
– Мародер ты, вот кто, тудыт твою растуды! Отдай деньги!
Случилось вот что: привалила этому парню удача. Забежал он в пустую, уже очищенную до нитки лавку, и нашел на полу в мусоре помятую жестяную банку из-под монпансье «Ландрин». Он пнул банку носком сапога и в банке что-то звякнуло. Взял он банку, снял крышку, глянул – и, мать честная, двенадцать золотых десяток! Ему бы смолчать, а он на радостях, к тому же был подвыпивши, давай хвастать. И покатилась по телегам молва, что нашел-де Гришка Коротков полну банку золота. Охранники пронюхали такое дело, разыскали парня и отобрали все двенадцать десяток до единой. Это больше всего бесило парня. Ну взяли бы треть, как полагается, ну половину, ну десять десяток, леший те задави. А то – все!
– Мародер, растудыт твою! – разошелся он, – отдай деньги!
Охранник, сероглазый, бритый, с коротко подстриженными усами цвета спелой соломы, небрежно водил перед лицом парня тяжеловесным кольтом и цедил:
– Не балуй, не балуй, браток. Слышишь?
Но парень ослеп и оглох. Парень ничего знать не хотел.
– Отдай деньги! – рычал он, – деньги отдай, мародер!
«Зеленовцы» были на стороне парня. Свой! В обиду не дадим! Брешешь! Они угрожающе наседали на охранников, – их у этой лавки было всего двое, – и все теснее смыкали круг.
– Чего там? – раздавались невеселые голоса, – Гришка прав. Отдай деньги! Мало вы, чертова сотня, грабили нас? Держись, ребята! Не поддавайсь! Своих забижать мы не дадим! За что воевали? За что кровь проливали? Чтобы нас грабили? Держись, ребята! Не поддавайсь!
На выручку бросились охранники из других лавок, но их не подпустили.
– Куды? И без вас обойдется! Гришка прав! Грабите нашего брата! Кровь сосете, парразиты!
А парень не унимался. Он лез напролом и тупо повторял одно и то же:
– Отдай деньги, мародер! Деньги отдай!
Охранник сказал четко, так что всем было слышно:
– Говорю в последний раз – отстань! Слышишь?
Парень обеими руками рванул рубаху и обнажил бронзовую от грязи, широкую грудь.
– На, стреляй! Но деньги отдай! Отдай деньги, мародер!
Выстрел грянул. Парень открыл рот, захлебнулся и стал медленно оседать. Пальцы его сжимались и разжимались, а глаза как бы вылупились из орбит.
И в эту же минуту какой-то верзила «зеленовец» размахнулся и с придыхом, как мясник – га! – хватил охранника по голове прикладом. Череп хряснул и распался на кутки. Охранник вскинул руки и брякнулся лицом об пол.
Сразу со всех сторон захлопали выстрелы. Охранники были сильнее, вольнопартизанская дивизия на три четверти была их, поэтому «зеленовцы» поспешно вскарабкались на телеги и принялись нахлестывать коней. Но уже спереди, сзади, с боков, сверху откуда-то, с церковной колокольни, что ли, затакали пулеметы. Кони вздыбились и не двигались с места. Заголосили бабы, захныкали дети, гнусаво завопили старики. А пулеметы строчили как швейные машины: так-так-так.
Степа прижался к каменной ограде церкви и застыл. Еще подстрелят ненароком, дьяволы.
– Каковы анархисты? – близко сказал знакомый голос, – молодцы!
Рядом в большой зимней шапке с наушниками стоял Меер.
– Меер! – обрадовался Степа, – ты как?
– Поперли. – Меер ползком начал пробираться вдоль ограды, Степа за ним.
Когда они вышли на тихую улицу, Меер выпрямился и сказал:
– Сегодня в десять приходи ко мне. Понял?
– Что будет?
– Совещание будет. Выступать думаем.
Степа обрадовался.
– Вот это дело! – сказал он, – а то видишь, что тут деется? Мне уж Лешка говорил. Верно! Чего ждать-то?
– Каданера ждем, – сказал Меер, – оружия мало. На худой конец, так выступим. Народ подсобирается.
– Ян что говорит?
– Ян говорит – подождать пока. Приходи, поговорим. Ты там у себя на слободе выясни. Федора позови. В десять часов у меня. Помни.
Меер свернул в переулок. Он подошел к третьему от угла дому и постучал в окно.
В этом доме жил Мотэ.
Степа подбодрился. Выступать будем! Это дело! Ого, браток! Живем!

Глава одиннадцатая
Ночной совет
Федор уже ждал.
– На мази, – коротко доложил он.
– А что? – опросил Степа.
– Клюет, ну! Спасибо бандитам. Помогли.
– Грабежом? – сказал Степа.
– Эге, – сказал Федор, – ты ведь нашу слободу знаешь. Антон Микитенко, вор, потом Гаврила Лыков, сукин сын, те сразу за бандитов стали. «Во, говорят, наша власть, крестьянская». Многие понимают, что врут, а другие мужики сомневаются. Ты как ушел, я тут поговорил кой с кем. Из наших, из комбеда которые, те охотно идут, а другие мужики, вижу, сомневаются. «Ладно, думаю, погодим. Погодим, Федька». А тут в аккурат на слободу бандиты подоспели, за контрибуцией. Почистили мужиков как следует, так те и взвыли. Сейчас пол-слободы с нами. Молодые так хоть сразу в бой.
– Вот это ладно, – сказал Степа, – ты их держи наготове. Может, сегодня даже потребуются.
Федор весело подмигнул.
– Выступаем никак, а?
– Приходи часов в десять к Мееру, к сапожнику, – уклончиво ответил Степа, – знаешь где? на «низу». Там совещание будет. Послушаешь. В десять.
– Ладно, космогол, буду.
Наступил вечер. Степа не знал, пора ли, нет ли, – часов в хате не было, но сидеть так без дела было трудно. Степа зашел на минуту в хату, потоптался на месте, потом повернул и направился в Славичи.
Густые теплые сумерки обложили землю. Неразличимые в сумерках, по улицам и переулкам шатались бандиты. Напялив на себя вороха одежды, пьяные в лоск, они гоготали, пели и стреляли в воздух. У здания совета, – здание смотрело в мир черными провалами выбитых окон – сидя на скамейке у ворот, какой-то бандит играл на гармошке. Играл он складно. С разухабисто-веселой трели переходил вдруг на тягучий лад деревенской песни. Очень хорошо он исполнял «Ночку», на басистых нотах, и долго-долго тянул: «н-о-о-ч-е-н-ь-ка». Казалось, человек едет по степи и поет сквозь сон. Начал петь и задремал – и песня сама за ним идет.
Сосед по скамейке, великан с запорожскими усами, кивал в такт головой и говорил вдумчиво и грустно:
– Ладна граешь, Петро. Ладна граешь, трясци твоей матке.
Подошли трое. В обнимку, шапки набекрень, гимнастерки расстегнуты и в шубах. Остановились послушать гармонь.
– Ты бы ей, браток, водку дал, – посоветовал один гармонисту, – тогды веселей може грала б.
– А то овса, – сказал другой и заржал.
Гармонист, не переставая играть, попросил ласково и нежно: «А проваливайте-ка, братишечки, ко всем ко псам».
Напротив Совета, прислонившись к палисаднику, стоял маленький старичок. Степа его узнал – Лука из Вознесенского. В левой руке он держал батожок, а за спиной у него болталась тощая котомка. Обитого железом сундучка не было. Потерял или отобрал кто. Лука стоял неподвижно, как камень, а около него возился бандит мрачного вида, плосконосый, с вывороченной губой. Они были Степе хорошо видны, так как бандит держал в руке горящую свечу.
– Цыц, дед, смирна, – говорил он Луке, – смирна, черт, а то все дело спортишь.
Степа никак не мог сообразить, что у них за «дело» такое. Старик кротко улыбался и в то же время как-то испуганно и часто моргал, а бандит уныло топтался на месте со свечой в руке. Ничего не понять.
Проехал охранник. Он посмотрел, придержал коня и спросил у губастого, выговаривая слова туго, по-северному: «Что делашь?»
– Что надо, то и делаю, – хмуро проворчал губастый, – бороду ему копчу, вот что делаю, – пояснил он.
– А зачем? – удивился охранник.
– А для смеху, – мрачно ответил губастый.
Степа поспешил уйти.
«Эх ты, старый пень! – думал он, – „пойду к батько на службу проситься“. Вот тебе и служба: стой, как чурбан, а тебе будут коптить бороду. Говорил: воротись. А он – „не можно“!»
Меер жил на «низу». Так называлась в Славичах крутая и узкая улица у реки, тесно застроенная домами. В этих ветхих сырых домах-клетушках ютилась вся местечковая голь: сапожники, портные, кузнецы. Непролазная, непросыхающая грязь заставляла строить дома на сваях, и были они похожи на голубятни. Удивительных «птиц» можно было встретить в этих голубятнях: детей со вздутыми, как тесто, животами, лысых женщин, калек всех мастей: безногих, безруких, слепых, горбатых. Молодых, здоровых осталось мало, они бились на бесчисленных фронтах, бились за право на завтрашний день, на жизнь, на хлеб для детей. Бились яро и в плен не давались. Чем было дорожить? Умереть в бою от пули куда веселей, чем дома от чахотки.
У Меера на дворе, в самом дальнем углу, на плешивом бугорке за сараем, собралось человек пятнадцать. Место сбора выбрали дельно. Дом Меера, крайний на «низу», стоял на берегу реки, направо – кузни, налево – огород. Смываться если надо – беги в любом направлении на выбор, хоть к кузням, хоть на огород. А то можно и вплавь. Течение тут тихое, не закрутит и не засосет. И лодка есть.

В темноте, неприметные и неузнаваемые, люди тесно сгрудились на голом бугре и тихо переговаривались. Река плескалась о берег. На черном небе вспыхивали зарницы. Нудно ныли комары. Ночь. Весь огромный мир сжался в малый крут и в центре крута неутомимо урчал человеческий голос, стараясь кого-то в чем-то убедить.
– Не годится. Никуда не годится. Установка неверная и вывод неверный, – убеждал голос. – Что ты мне – «дезертирство»? Испугать хочешь? Не испугаешь. Сам умный. Постой. Не перебивай. Рассмотрим твои доводы по порядку. Уре задержался и неизвестно, когда он будет. Раз. Бандитам местечко удалось взять без боя. Два. Изрубили и расстреляли не всех коммунистов, мы вот остались и еще кой-кто из наших в живых. Три. Население это знает и рассуждает так: «Большевики-де хороши и смелы, покуда у них сила и власть. Если на них навалится сила посильней, они без боя сдают города, а сами спасаются кто куда, и хоть ты у них на глазах режь, бей, вешай, они хоронятся в подпольи и пикнуть не решаются». Верно я передаю твои слова? Хорошо. Следовательно, по-твоему, надо немедля, и не дожидаясь Каданера, делать нападение на бандитский штаб и постараться изничтожить главарей, а там видно будет, что дальше. Так?
«Эго кто же говорит? – думал Степа, прислушиваясь к голосу, – Губарев, что ли? Да, Губарев, продком. Уплыл-таки. Молодчина!»
– Хорошо, – продолжал Губарев, – теперь вот меня послушай. По первому пункту: Уре обещал быть сегодня к ночи, на плохой конец – завтра. Уре, уезжая, знал положение дел. Значит, он сам торопится. Ночь только началась. Он еще может прибыть. Но давай условимся, что Уре будет только завтра утром или днем. Предполагать же, что он задержится дольше, у нас оснований нет. Хорошо. Второе: бандиты Славичи взяли без боя. Эго наше упущение, крупное и дорого нам стоящее упущение. Не спорю. Защитить Славичи нам все одно не удалось бы. У них триста-четыреста сабель, а у нас сколько? Да и оружия мало. Конечно, биться надо было. Это не отговорка, что нас мало. Но нагрянули они утром, когда их никто уже не ждал, когда караулы уже снялись. Обычно они ночами наезжают. Так или иначе – об этом теперь поздно говорить. Третье: население знает, что кой-кто из большевиков жив, а молчит, не защищается, не борется и осуждает нас за это. Но давай уточним, какое население? Население населению рознь. Есть враги и есть друзья. Врагам, конечно, хотелось бы, чтобы мы выступили, тогда нас можно будет перебить всех до единого, купно, а то иди разыскивай каждого в отдельности. А друзья понимают, что выступать нам сейчас, когда нас сорок на четыреста, – авантюра и ничего спасительного она не принесет. Друзья понимают и не осуждают. Врешь.
– Ну, а ты-то что предлагаешь? – истерически крикнул Леша.
– Постой, не ори. Не глухие, – сказал Губарев. – Я предлагаю вот что: выступлений сейчас никаких не делать. Повторяю – это авантюра и вредная к тому же авантюра. Один на десять это не бой, это самоубийство. Пользы от этого нуль, а вреда много. Отказаться сейчас от выступлений – это не дезертирство. Это, братец ты мой, тактика. А мы, большевики, всегда за правильную тактику. Все обстоятельства, все наличные силы надо использовывать умело, а не оголтело. Выступить-то мы выступим, но знаешь, Косой, когда? Когда к городу подступит Каданер. Тогда-то это будет и нужно и вовремя. Почему? А потому что с Каданером тоже не десять полков придут, а человек двести-триста. Значит, бандиты смогут выскочить из кольца, вырваться, а потом набедокурить в другом, в третьем месте. А наша задача будет вот в чем: в начале боя, в суматохе напасть на их штаб и всех главарей расстрелять. Тогда это нам удастся. А без главарей эти сволочи никуда не годны. Это стадо, а не отряд. Вот что я предлагаю.
– Правильно, – сказал голос Яна.
Но Леша не соглашался.
– Вот именно, вот именно, – горячился он, – тогда-то и нельзя будет. Тогда, в бою они будут начеку. Они тебя к штабу и не подпустят. Дураки они, что ли? А вот сейчас, когда они спят…
– Не спят. Врешь, – жестко перебил Губарев. – А песни кто горланит? На гармошке кто играет? Ангелы небесные? Ты, Леша, всегда так: «бам-бух-бом». А там, глядишь, и сел в лужу. Это я тебе, Лешка, когда-нибудь в более спокойное время на вид поставлю. Это, брат, не тактика. Глупо рисковать – не геройство, не проступок даже, это преступление перед революцией. За это можно и из комсомола вон и к стенке. Понял? Куражиться тебе перед нами нечего. Мы не барышни. Вы как, товарищи, думаете? Принимаете мои предложения?
– Чего там? Ясно, – сказало несколько голосов.
– Конкретно – что? – спросил Ян.
– Конкретно вот что, – сказал Губарев, – одного человека, – нет, двоих, двоих верней, – немедленно послать в уезд, к Уре, чтоб поторопить его и погнать сюда. Кто пойдет, товарищи?
– Я, я, я! – одновременно сказало несколько голосов.
– Пойдешь ты, Ян, – решил Губарев, – и еще Никита. Поговорю потом с вами, что ему передать. Второе: сколотить два отряда. Ты, Ян, сколько можешь дать ребят?
– Нас тут одиннадцать, – сказал Ян, – еще Мирон, еще Оре. В общем человек пятнадцать наскребу комсомольцев. И беспартийной молодежи еще… Федор!
– Ну? – ответил голос.
– Сколько у тебя на слободе народу?
– Да человек двадцать наберется, – сказал Федор.
– Один отряд есть, – сказал Губарев, – команду беру на себя я. Наша задача: в начале боя сосредоточиться где-нибудь в районе их штаба. Я думаю – на церковном дворе, – впрочем, насчет этого еще покумекаем, – и при первой же возможности прихлопнуть батько и иже с ним. Если удастся кого захватить живьем, того лучше. Нет – и не надо. Но убить, в частности батько и этого очкастого гада, анархиста бесова, обязательно. Второй отряд… команду берешь ты, Мейлех, – сказал он кому-то в темноту.
Густой голос ответил: «Ладно».
– А сколько ты можешь выставить? – спросил Губарев.