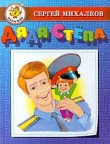Текст книги "Вольные штаты Славичи"
Автор книги: Дойвбер Левин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Глава пятая
Виселица и пулемет
Степа не шел, его вели, как ведут пленного: справа ехал бандит в бурке, слева чубатый. Степа все боялся, как бы не наехали конем. Руки он держал в карманах, а то уж очень оттопыривался наган.
В приречном переулке – переулок был узкий и недлинный – восемь домов, – им преградила дорогу тележка-двуколка. На тележке стоял пулемет. Ни возницы, ни пулеметчика не было поблизости. Но в доме рядом слышны были раскаты могучего баса и визгливый говорок женщин. Потом оглушительно загоготал гусь. Открылась дверь и в пролете, головой касаясь притолка, появился рослый бородатый человек в галифе малинового цвета, в черном бушлате, весь обвешанный пулеметными лентами. За ним, громыхая деревяшкой, вышел возница, скуластый, узкоглазый, похожий на калмыка. Одноногий держал под мышкой живого гуся. Женщина, до самых глаз обвязанная теплым платком, плача и повизгивая, высунулась в окно. Но бородач, полуобернувшись к окну, так грозно цыкнул, что женщину словно ветром сдунуло.
– Ладно хозяйничаешь, – одобрительно сказал бандит в бурке.
– А то как же? – громовым басом ответил бородач, – с ними по-другому нельзя. Дуры!
Одноногий положил в тележку гуся, сел сам и предложил бородачу сесть.
– Седай, Опапас, – сказал он дребезжащим, как старые стенные часы, голосом, – седай, боров, чтоб те околеть.
Бородач усмехнулся.
– Опять, Анютка, лаешься? – сказал он добродушно, – гляди у меня, хромой черт, а то как стукну.
– Врешь, бродяга, не стукнешь. – Одноногий лениво распутывал вожжи.
– Силы, думаешь, не хватит?
– Силы-то хватит. Ого!
– А почему не стукну?
– Духу, милок, не хватит. Дух в тебе слабый. Курица.
Бородач беспомощно развел руками и обратился к бандиту в бурке.
– Как тявкает, пес? – сказал он удивленно, – что скажешь? А?
– Вправду, стукни, – посоветовал бандит в бурке.
– Пробовал, – бородач досадливо отмахнулся, как от мухи, – не помогает.
Ворча себе под нос, он полез в тележку.
– Чего, боров, бурчишь? – сказал одноногий, – живот болит или молитву читаешь?
В ответ бородач, встав на тележке во весь рост, так зычно гаркнул: «Гони, Анютка!», что одноногий ошалело подался в сторону и выпустил вожжи, а кони в испуге подпрыгнули, потом рванули с места и понесли. Тележка завернула за угол и пропала. Только пыль клубилась по улице.
– Теплый ребята, – сказал чубатый, – веселый.
– Опанаса-то я знаю давно, – сказал бандит в бурке, – вместе в гусарах служили, а одноногого не видал. Новый человечек.
– Должно, из «зеленых», – сказал чубатый, – их теперя к нам привалило прорва. Ты чего? – заорал он вдруг на Степу, – по рылу хошь? Назад!
Степа, пока бандиты переговаривались, медленно, шаг за шагом, отступал к мосту. Шага четыре он уже сделал, оставалось до угла шагов семь. Степа руками, ногами, спиной, корнями волос на голове знал одно: надо дойти до угла, до угла. Что будет затем, он не думал. Важно было одно – доползти до угла. Лишь бы дойти. А там хоть что, хоть из пушки пали. Там-то уже не страшно. Удерет. Лишь бы дойти!
– Ты чего? – крикнул чубатый, – назад!
Степа сник. Сутулясь, он уныло вернулся и стал между чубатым и бандитом в бурке, выжидая, что будет.
А было вот что: чубатый наклонился, посмотрел Степе в лицо, подмигнул ему и, показывая ровные белые зубы, захохотал:
– Сигануть вздумал, а? – кротко и весело сказал он.
Степа молчал.
– Что ж, браток, – так же ласково продолжал чубатый, – воля твоя, конешно. Валяй. Шамать, може, захотелось? А то, може, предупредить кого, а? Ему, Митрей, к матке захотелось. Отпустим его? А? – Он, улыбаясь, смотрел то на Степу, то на бандита в бурке, – отпустить тебя, браток, а?
– Ну, отпусти, – тихо сказал Степа.
– Сичас.
Бандит расстегнул желтую кожаную кобуру, прицепленную к поясу, и вытащил новенький револьвер. Он повернул один раз барабан, – барабан сухо щелкнул, положил на курок указательный палец и наставил револьвер Степе в спину, между лопатками.
– Валяй, – благодушно сказал он, – иди.
Степа не двинулся.
– Расхотелось? – как бы недоумевая, сказал чубатый, – ишь ты! Расхотелось ему, Митрей, к матке, – сообщил он бандиту в бурке. – Ну, добре. Коли так, то веди. П-шел! И запомни, с-стерва! – чубатый ощерился, как волк, – ты скок, а я в бок. Понял? П-шол!
От приречного переулка до Синагогальной улицы ходу было минут пять. Но Степа повел бандитов окольным путем. Ему надо было выиграть время. Авось, удастся как-нибудь смыться. Чем ближе подходили к базарной площади, тем чаще начали попадаться бандиты, в одиночку и группами, на тележках и верховые. Славичи занял, должно быть, крупный отряд, сабель в триста-четыреста. Среди бандитов встречались всякие люди: и юнцы, и старики, чужаки и местные, «зеленые» в расшитых рубахах и домотканых портках, военные в офицерских кителях, в гусарских накидках, один – в драгунской шинели, другой – во френче, третий – в куртке с котиковым воротником. Но все, даже «зеленые», были хорошо вооружены. Особенно много было пулеметов на тележках-двуколках. Бандиты без видимой цели носились взад и вперед по опустевшим улицам местечка. Мирных жителей не видать было. Только два-три человека толкались среди бандитов, нашептывали им что-то и таинственно показывали пальцами. Бандиты тотчас начинали в указанном направлении стрелять. Среди «шептунов» Степа увидел человека с мелким крысиным лицом, в теплом ватном пальто – дьяка славичской церкви. Дьяк ловко лавировал среди тележек и коней, то сгибаясь в три погибели, то подымая на цыпочки свое хилое, тщедушное тело. Надрываясь в кашле, брызжа слюной, захлебываясь, он останавливал того, другого бандита и выкладывал им тайные какие-то сведения и робкие просьбы. Иной бандит слушал его внимательно и кивал головой в знак того, что понимает и запомнит, иной отмахивался и ехал дальше. К удивлению Степы, пьяных попадалось мало. И грабежа пока не было. Бандиты выжидали. Чего? Степа не понимал. Приказа, что ли?
– Э, ты, киса, – сказал бандит в бурке, – скоро?
– Скоро, – ответил Степа, – сейчас.
– П-шол! п-шол! – торопил чубатый.
«По Пробойной или по Дубровской? – думал Степа. По Пробойной, – решил он, – там народу больше».
Действительно, народу на Пробойной было много. Народ тот же все, конечно: бандиты верхом или бандиты на двуколках. Но Степа недолго шагал по Пробойной. Он вдруг остановился как вкопанный. Нога сделались точно чужие, деревянные, никак их, проклятых, с места не сдвинуть. Разинув рот, выпучив глаза, Степа стоял и смотрел на столб у почты. Это был обыкновенный телеграфный столб, каких тысячи: потемневший от времени, с коротким, толстым подспорьем сбоку. Но на столбе медленно раскачивался человек. Труп. Труп висел к Степе спиной и не разглядеть было, кто это. Сапоги с него сняли, голые ноги склонились одна к другой, почти касаясь пальцами, а коричневая рубаха задралась вверх, обнажив крепкое загорелое тело. Ветра не было, но труп все же медленно раскачивался.
– Чего? – опять крикнул чубатый, – п-шол!
– Кто это? – срывающимся голосом спросил Степа.
– А тебе што? – ехидно сказал чубатый, – родня он тебе или хто? Братан може? А?
Бандит в бурке почесал колючую щетину на подбородке и рассудительно заметил:
– Вздернули комиссара и ладно, – сказал он, – жидом меньше стало. Им, пархатым, так и надо. А не все ли равно, кто: Ицка или Хацка? Один черт. Верно?
Он нахлестался еще с утра, бандит в бурке, но разбирать его только сейчас начало. Пьянел он чудно: то станет добродушно-словоохотливым, как девяностолетний дед, то серьезно-рассудительным, как умный отец. Это было непохоже на него и смешно. После того, как он по-отцовски серьезно объяснил Степе о комиссарах, на него нашла словоохотливость доброго деда. Он скреб небритый подбородок и говорил, ни к кому, собственно, не обращаясь, а так, не то про себя, не то всем добрым людям вообще.
– Мы их, комиссаров-то, ротами резали, – невнятно, будто со сна, говорил он, – выстроишь их, как на параде, босую команду, – сапоги-то мы снимали, чего им пропадать, сапогам-то? – и скажешь им, бывало, по-сердешному скажешь: «Молитесь, сволочи, богу, перед смертью-то хоть помолитесь».
Тут кто как: кто молчит, сумный, сволочь, пальцы от обиды кусает, а молчит, а кто лается, кроет нас, паскуда, нехорошими словами: «бандиты, дескать, палачи». Хватишь его по голове наганом – угомонится. А на остальных пулемет наставишь – и под гребенку. Так-так-так-так. Чисто. А могила-то готова. Сами себе, голубчики, могилу рыли. Мы по-ихнему, по-камунистически, делали: «кто не работал, тот и не лопай». Верно?
– Иди к лешему, – недовольно проворчал чубатый, – чего распелся?
– Ты, Гришка, меня лешим не пугай, – бандит в бурке ткнул себя в грудь большим пальцем. – Я и сам может лешему брат. Во! Кумовья мы с ним, детей у ведьмак крестили. Во! – Он захихикал. – Я его, хрена, в бороду целовал, а он по мне хвостом щелкал. Ги-ги-ги.
– Оно и видать! – крикнул чубатый и захохотал.
Бандит в бурке круглыми, как у совы, глазами уставился на чубатого. Он окончательно осоловел.
– Что видать? Ничего не видать, – бормотал он, – ничего, браток, не видать. Ни черта. Брешешь ты все, Гришка. Собака ты, псина, а не друх. Что видать? Ну? Ничего не видать. Ни черта.
Он клюнул носом, очухался и забормотал опять:
– Видать… видать… что видать? Ничего не видать.
Он опустил поводья, подбородком прижался к бурке и задремал. На счастье, конь у него был смирный, не то бы он давно свалился.
А чубатому надоело наконец без толку кружить по улицам и переулкам.
– Ты нас, ссука, куды завел? – сказал он. – Где она улица твоя, ну?
– Вот она, – сказал Степа.
Синагогальная улица – холмистая, кривая – была рядом. На углу стоял огромный дом, домина, с высоко прорубленными узкими окнами. Синагога. И странно: по Пробойной, на слободе, везде и всюду люди наглухо закрыли ставни, заперли двери и засели на всякий случай в подполье. А в синагоге было битком набито, окна распахнуты, дверь настежь. Старинное обыкновение, средневековое: в часы тревог, смут, погромов забираться всем миром в синагогу и смерть встретить не в одиночку, а вместе. В синагоге молились. Молились громко, с завыванием, с криком. Женщины плакали.

Бандит в бурке даже проснулся от этого многоголосного гула. Он посмотрел на синагогу, сплюнул, – плевок пролетел недалеко, зацепился за бурку и повис, – и сипло пропел:
– Ай-вай-мир, что за командир.
Степа видел, как со стороны Пробойной к синагоге подкатила двуколка. Возница придержал коней, а пулеметчик, ражий парень в желтых ботфортах, спрыгнул наземь и крикнул:
– Эй, жиды! Расходись! Чуете? Расходись, говорю!
Его голос потонул в гуле, который несся из раскрытых окон синагоги. Пулеметчик повторять не стал. Он просто залез на тележку, направил пулемет стволом в дверь синагоги и открыл огонь. Пулемет затакал, а в ответ из синагога послышались дикий вопль, стоны, рев. Казалось, само это громадное и древнее здание заревело в ответ. Тогда пулеметчик перестал стрелять.
– Ага! – торжествующе крикнул он, – поняли, дьяволы? Катитесь колбасой отсюдова! Ну!
Толпа народу, напирая друг на друга, давя друг друга, – толпа была большая, а дверь была узкая, – хлынула вон из синагоги. Женщины высоко над головой держали детей, дети хныкали и орали. А мужчины, одни старики, сомкнувшись в тесный крут, волокли раненых. Эта человеческая лавина подхватила Степу, закрутила его, как водоворот, и понесла. А Степе только этого и надо было. Пока чубатый, теснимый толпой, выбрался на простор и, ругаясь почем зря, кликал Митрия, Степа был уже далеко. Он залез куда-то во двор, заросший высокой травой и крапивой, растянулся в тени под навесом, свернул козью ножку и задымил. Он был доволен. Повезло ему на сей раз, ох, повезло как! Все равно, к Беру Гезину он бы их не привел. Предателем он, Степа, не был и не будет. Не такой он, Степа, человек. Да. А вот пристукнуть могли. Верно. Чубатый уложил бы его в два счета. Ему, гаду, что? Жалко, что ли?
Пойду на слободу, – решил Сгепа, – Федора разыщу. Это не дело сидеть так. Это, брат, никуда.
Он притушил окурок, воткнув его горящим концом в землю, встал, отряхнулся и, озираясь, осторожно вышел за ворота. И не по улице, а задворками, огородами, по пустырям, по полям, стрелой, не чуя ног, побежал в слободу.
Глава шестая
Вольные штаты Славичи
Федора Степа нашел в овине. Овины на слободе стояли далеко от хат, в поле. Федор, лохматый и смешливый парень, прислонившись к двери, запрятав руки в карманы штанов, без шапки, стоял и курил цыгарку. Увидев Степу, он лениво протянул:
– Что, космогол, скажешь?
– Ничего не скажу, – ответил Степа, – плохо.
– Душа-то где? – спросил Федор и, хлопнув себя по левой ноге, добавил: – в пятки ушла? А?
– Ну тебя, – сказал Степа, – брось дурака валять. Видал, что делается?
– Видал, – Федор выплюнул окурок и захохотал, – бандиты приехали.
– Зубы-то чего скалишь? – обозлился Степа, – вот подстрелят, так посмеешься. Дурня.
– Ага, – согласился Федор, – подстрелят, дык посмеюсь.
Степа, не отвечая, повернулся, чтобы уйти.
– Погоди, – сказал Федор, – куды спешишь? На тот свет спешить?
– Иди к лешему, – сказал Степа, – я за делом пришел, а он ги-ги, го-го.
– Постой ты, космогол, – примирительно сказал Федор, – посиди, коли пришел.
Он сел на траву и жестом пригласил и Степу сесть.
– Садись.
Степа сел.
– Ну, говори, – сказал Федор.
– Что говорить-то? – сказал Степа, – не видишь сам, что ли?
– Вижу.
– Так чего спрашиваешь?
– А мне интересно бы знать, – не спеша проговорил Федор, – где это вы, комсомольцы, были, когда бандиты в город приехали? На свадьбе гуляли или как?
– «Где были?» – передразнил Стена. – Ночь на карауле стояли, – вот где были. А потом отдохнуть-то час надо? Ну вот. А с утра мы думали отряд организовать.
– Какой отряд?
– Ну, боевой отряд, из партийных, из комсомольцев, из бедноты которые. Думали – успеем. Бандитов ведь скоро не ждали.
Федор настороженно оглянулся.
– Ты потише говори, – сказал он, – чуешь, в Славичах как палят? Скоро и сюда припрутся.
Он вдруг встал.
– Идем-ка в овин.
В овине он заговорил шепотом и быстро.
– Когда собрались-то, а? – зашептал он сердито, – а раньше что думали? О бандитах знали? Уж мне наши слободские многие говорят: «Чего это, говорят, камунисты отряд не собирают? Бандиты ж, говорят, близко». А я молчу: погодим, Федька, думаю, посмотрим, что они. Вот и погодили. А кулаки-то не годили. Хвилат да Кузьма уж давно перебегли к «зеленым». Мишка Солодков уже две недели с ними. Антон Микитенко, тот готовился. И дьяк готовился и другие. А вы что? «Погодим!»
– Еще не поздно, – сказал Степа.
– Как же! Самое время! – буркнул Федор.
– Все равно ж оружия у нас не было, – сказал Степа, – оружие только сегодня будет. А насчет время – это можно еще и сегодня.
– Трудно это, – проворчал Федор.
– Трудно, да можно, – сказал Степа, – а к ночи Каданер вернется, оружие доставит и подмогу приведет. Главное – быть нам готовым, вот что. Давай толком обсудим – с кем из наших слободских договориться надо. Ну вот, я да ты, да Егор, да Васька Кривошей. Еще кого?
– Еще Андрея надо, – сказал Федор.
– Пятеро, – сказал Степа, – еще кого? Андрон как?
– Уж не знаю, – сказал Федор, – он мужик хитрый – и так и этак. Я думаю вот что: уж коли до этого ждали, так погодим еще немного, нехай бандиты себя покажут как следует, а то многие мужики сомневаются. Ну, а после того пол-слободы пойдет за нами. Ты, Степа, вот что, ты ко мне вечерком заходи. Я тут пока пошукаю, поговорю с кем надо. Тебе-то ходить опасно, ты комсомолец, заприметят, а мне ничего. Ты вечером заходи. Когда темно будет. Я тебе тогда скажу. Ладно?
– Только гляди, – сказал Степа, – осторожнее, а то ведь знаешь – как?
– Ладно уж, знаю.
Дома все было спокойно. Ганна повыла, сколько там полагается, и перестала. Приходу сына она даже не обрадовалась. Ганна домовничала: деловито стучала горшками, с натугой таскала из сеней в хату котлы с водой, – она собиралась мыть пол.
– Пожевать е? – спросил Степа еще с порога.
– А то как жа? – певуче сказала Ганна.
– Давай.
Ганна поставила на стол крынку молока, принесла хлеба, соли и творогу. Скрестив на груди рулей, она осталась стоять у стола и равнодушно, без всякого интереса, а просто так, оттого, что уйти было лень, смотрела, как сын ест. А Степа ел жадно, торопясь. Он отрезал здоровый ломоть хлеба, обмакнул его в соль и так впился в него зубами, что хруст пошел по хате. Проголодался парень.
– Творогу ж, – сказала Ганна и придвинула миску с творогом к Степе поближе. Степа набрал полную горсть и запихал в рот.
– Батьки нету? – прошамкал он.
– А нету ж, – сказала Ганна.
– В Славичи пошел?
– А лях жа его знаит, – ответила Ганна обычным своим «а лях жа» и спросила:
– А что тама?
– В Славичах? Ничего. Бандиты.
– Бабы бают, грабят они тама. Ти правда? – сказала Ганна.
– Не видать пока, – сказал Степа, – скоро верно начнется. Не тужи. И до слободы доберутся.
Ганна испугалась.
– Где ж он, акаянный, ходит? – захныкала она, – сховать жа надо.
– Чего там ховать, – сказал Степа, – вшей?
– А овчину жа.
– Батькину? Не возьмут.
– Отчего жа?
– Рваная она. Не годится.
– Рваную не возьмут? – с сомнением переспросила Ганна.
– Не возьмут, – твердо сказал Степа.
Ганна повеселела.
– Молока налей, – сказала она и, накрошив мелко хлеба, пошла на двор кормить цыплят.
Оставшись один, Степа вытащил из кармана наган, осмотрел, все ли в порядке, подержал-подержал в руке и сунул обратно в карман. Пригодится.
«Каданер чего там дрыхнет?» – сердито подумал Степа.
В окно он видел чистое голубое небо и на небе солнце. По солнцу, времени было часов одиннадцать.
«Рано ему, – думал Степа, – сказал – „завтра вечером“. Хоть бы скорее вечер».
Но солнце ползло лениво. Впереди еще целый день, долгий летний день. Эх-ма.
Вдруг Степа услыхал церковный звон. Торжественно гудел большой колокол и тревожно и часто перекликались колокола поменьше. Над Славичами, над слободой, над рекой, над полем, перекатывался медный крик колоколов и пугал и беспокоил. С чего бы вдруг? День будний. Пожар? Но пожарный звон другой, в пожар большой колокол молчит. Бандиты звонят? Но чего вдруг им понадобился пасхальный перезвон?
Степе не сиделось. Тянуло на улицу, в Славичи, хотелось ребят повидать. Лешку, может, или Яна. Чтобы при встрече не узнал чубатый или кто другой, Степа обвязал лицо маткиным платком, будто зубы болят, нахлобучил шапку до самых глаз и – раз в окно. Двором пойти – на Ганну наткнешься, а она, дура, привяжется: куда? зачем? Так-то в окно оно проще.
Конный бандит, вроде вестового или музыканта, с блестящей трубой через плечо, важно ехал по улице. Поравнявшись с каким-нибудь домом, бандит, не замедляя хода коня, эфесом шашки стучал в захлопнутый ставень и кричал:
– В город! На собрание!
Доехав до Степы, – дом Степы стоял в конце слободы, дальше начиналось поле, – бандит слез с коня, сел у ворот на бревне и закурил коротенькую трубку. Лицо у бандита было морщинистое, дряблое, величиной в детский кулачок, зубы мелкие и черные, а нос смотрел куда-то вверх. Ни усов, ни борода не было, но на голове росли густые дикие волосы, спадающие на лоб и закрывающие уши. С левого уха свешивалась серебряная серьга в форме полумесяца. Бандит долго сидел так у ворот, потупив голову и уныло сплевывая себе под ноги желтую накипь курева. Степа подошел к нему и спросил:
– Это где собрание?
– В городе, – ответил бандит, – в городе. Подле церкви.
– А что там будет?
– Ничего не будет, – равнодушно сказал бандит. – Батько говорить будет, – добавил он.
Степа больше расспрашивать не стал и уже хотел отойти, как вдруг бандит поднял голову и, решительно сплюнув, заговорил сам:
– Ругаться будет, – сказал он, – я его, черта лысого, знаю. Товарищи, чай, были. Он только и умеет, что пить да ругаться. Фрайер.
– Что? – не понял Степа.
– Фрайер, говорю, – повторил бандит, – я его знаю, Нишку. Каторжник он, вот кто. – Бандит быстро оглянулся и, понизив голос, продолжал: – он, Нишка, шесть лет в каторжниках был, на мокром деле завалился. Я его знаю!
– А чего к нему пристал? – спросил Степа.
– Так уж Делать нечего было, – сказал бандит, – а уйду. Надоело. Ну его, Нишку. Не ндравится мне у него. Мясник. Кой он мне дался? У меня на руках профессия хорошая. Я, браток, ширмач.
Степа опять не понял.
– Что?
– Ширмач, – сказал бандит, – карманщик, ну. Плюну и поеду в Одес. Городок такой, что лучше не надо. А на Нишку плюну. Нужен он мне очень. У меня профессия хорошая. Мне што? Плевать!
– Обидел он тебя, што ли? – сказал Степа.
– «Обидел, обидел», – передразнил бандит, – а тебе что?
Он сел на коня и пустился в обратный путь. Эфесом шашки он стучал в закрытые ставни и кричал:
– В город! На собранье!
Против церкви, на маленькой трибуне стояло несколько человек бандитов, а вокруг трибуны робко жались мужики со слободы, лавочники из местечка, коробейники с «выгона». Они осторожно сморкались в руку, то и дело подтягивали сползающие штаны, переговаривались шепотом, испуганно выжидая, что будет и не понимая, зачем их сюда пригнали. Особо держалась группа человек в десять, во главе с попом, благообразным, румяным стариком. Тут же были и дьяк и Антон, кой-кто с «верха» – из купеческих тузов, и хозяин единственного в местечке кожевенного завода Зелик Найш. Цепь верховых плотным кольцом обхватила толпу. Дальше выстроились в ряд тележки – двуколки с пулеметами на сиденьях.
А еще дальше – было поле и синел лес, тот самый лес, откуда рано поутру сегодня явились в Славичи эти верхоконные и двуколки.
Когда Степа пришел на площадь, первым, кого он увидел, был старый знакомый, вчерашний гость, очкастый. В том же плаще, в той же белой круглой шляпе, из-под шляпы так же выбивались влажные волнистые кудри. Кикимора. Рядом с очкастым стоял его товарищ – толсторожий. Но сегодня вместо белой расшитой рубахи на нем был надет защитного цвета френч, опоясанный ремнями во всех направлениях. Толсторожий держал за древко знамя. Знамя было черное.
Что за плешь? – удивился Степа. В первый раз в жизни он видел такое знамя, сплошь черное, и не мог понять, что оно означает. Похоронное, должно, – решил он. – Сейчас они кого-то хоронить будут. И народ для того собрали.
Пока Степа, работая локтями, пробивался поближе к трибуне, собрание уже открылось и заговорил очкастый.
– Что? Не так? Не так? – кричал он своим пронзительным голосом, часто повторяя одно и то же слово. – Человек рождается свободным, как птица, как вихрь, а его – в клетку, в клетку. Что? Не так? Не так? И вот приходит власть и делает его рабом, рабом подневольным. Бьет его! Гнет его! Что? Не так? Не так? Под-не-воль-ный. А человеку воля нужна, как вода, как воздух. Мы не можем жить без воли, без воли. А нас душат, за горло держат, за горло. Была монархия, самодержавии, но мы, вольные люди, анархисты, мы с ними расправились, расправились. А кто пришел на смену? Узурпаторы! Узурпаторы! Комиссародержавцы! Что? Не так? Не так? Они нас опять в клетку загоняют. Сиди! Сиди! Того не можешь! Этого нельзя, нельзя! А почему’ нельзя, а? Почему нельзя? Кто сказал «нельзя»? Бакунин сказал? Прудон сказал? Мы, анархисты, говорим: «можно! можно!» «Воля, мы говорим, воля». Вольный человек на свободной земле. Что? Не так? Не так? Мы избавили вас и от комиссародержавцев. Сегодня мы завоевали Славичи, а завтра мы завоюем весь мир. Мы начнем великую революцию, третью революцию, третью. Что? Не так? Мы освободим вас от самодержавцев и от узурпаторов, узурпаторов. Под этим черным знаменем, за которое погибло столько святых мучеников, – голос у очкастого от волнения сорвался, он заговорил шепотом, – мы поведем вас в анархию, в анархию. Что? Не так? Не так?

Он не мог продолжать больше, очкастый. Над трибуной трепетали, как крылышки, его тощие, немощные руки. Видно было, как шевелятся его губы, но голоса его не слышно было.
Тогда выступил толсторожий.
– Хто говорить хотит? – крикнул он в толпу. – Выходи!
Вышел Антон. Дородный, величавый, не кузнец – патриарх.
Он обвел толпу строгим взглядом, откашлялся в ладонь и не спеша заговорил:
– Вот уж правильно говорил тут гражданин-товарищ, – сказал он. – Спасибо ему. – Антон снял картуз, полуобернулся к очкастому и чинно поклонился. – Сколько лет маемся, а хорошее слово вперва слышим. Хорошее слово, правильное слово. За такое слово в ноги поклонюсь и не стыдно. Вот, скажем, граждане-товарищи, как перед богом скажем: какая есть наша жисть? Раньше горе мыкали, драли исправники, стригли нашего брата, как барана. Оброки да подати, да налога. А не так что – и в тюрьму, на каторгу. А теперь, при большевиках, лучше ли стало? Хуже, видите ли, граждане-товарищи, много-много хуже. Мужика ограбили, а мужик – он основа государства, без него нельзя. Никак. Его грабят, а нас бьют, стреляют. Безобразничают, проклятые. Немцам продались. Раньше, видишь ли, было худо, а теперь и совсем невтерпеж стало. В святом писании сказано о Ровоаме, неразумном сыне царя Соломона: «И говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Так, граждане-товарищи, и камунисты с нами. Они нас, видишь ли, скорпионами. А заслужили ли мы того? Нет, не заслужили. Мы не душегубы какие, не разбойники. Разбойники они сами и есть, большевики-то, антихристовы слуга. Явреи тут тоже нехорошо себя ведут. Народ они к нам пришлый, понимать надо, а они наперед лезут. Не все, конечно, есть и верные, а многие которые. Так что поблагодарим гражданина-товарища, который тут говорил. Он сказал – «воля будет» и спасибо ему на этом слове. Пообещаемся все ему, что в нас он и господин атаман найдут верных слуг, готовых голову свою за них сложить. Да.
– Правильно, Алексеич! – крикнул кто-то из толпы.
Степа оглянулся и увидел отца, Осипа. Нескладный, длинный, как жердь, на голову выше других, он взмахивал рукой, зажатой в кулак и кричал:
– Правильно, Алексеич! Пра-виль-но! Все пойдем! До единого! Нам нечего терять. Чего нам терять? Нам и так дрянь и так дрянь. Они, комиссары, дьяволы, сами в палатах живут, на перинах спят, а нашего брата в острогах гноят. Измываются. А нам тоже жить надо. Надо или не надо, мужики-товаршци? Он мне: «Самогонку гнал?» Гнал, говорю. Верно. «И продавал?» Верно. А только, говорю, дорогой товарищ, жить же надо? Жить надо или не надо? А мене – в острог. Кого? Мене! Инвалида импралистичской войны, сам-мую бедноту, а? За что боролись? Кровь за что проливали, а? Чтоб жить не давали? Чтоб в острог сажали, а? Правильно, мужики-товарищи, Антон говорит. Все пойдем! До единого! Пок-кажем!
«Во ведь холера какая – думал Степа, слушая отца. – Туда же. Все забыть не может. Дурня».
Путаясь в полах ватного пальто, на трибуну взобрался дьяк. Он выкроил на остром крысином лице сладенькую улыбочку и заговорил тихо и кротко. Но сейчас же поперхнулся, закашлялся, – кашлял он, будто лаял, – и продолжал уже другим голосом, хриплым шепотом.
– Братья! – начал он. – Православные! Поздравляю вас со светлым праздником христовым. Долго мы терпели, но бог, он правду видит, да не скоро скажет. И вот сказал. Поздравляю, православные, поздравляю, – тут дьяк закашлялся. – Но нельзя забывать, – продолжал он свистящим шепотом, захлебываясь и брызгая слюной, – нельзя забывать муки, которые перенесли мы, многострадальцы, от этих кровопийц и мучителей, кои изгнаны теперь с позором. Много их еще середи нас осталось. Так разыщем же их, братья, и предадим их в руки судей праведных и нелицемерных. Да воздастся им по заслугам. – Дьяк опять закашлялся. – Мы их знаем, всех знаем, – зашипел он, откашливаясь, – на лбу их Каинова печать, а имена их записаны в книгу смертных. Вот! – он потряс в воздухе какой-то бумажкой. – Не будет им пощады! Не будет!
Степа осмотрелся. Поискал глазами, нет ли в толпе кроме него, еще кого из тех «с печатью», о которых говорил дьяк? Нет. Никого.
Солнце стояло прямо над головой. Был полдень.
Степу, как бы невзначай, проходя мимо, задел локтем щуплый паренек в белой крестьянской свитке и в барашковой, низко надвинутой шапке.
– Тише ты, – проворчал Степа и осекся. Он узнал паренька. Эго был Косой, Леша.
Косой подмигнул: – молчи де, понял? – и стал рядом.
– Узнаешь толсторожего? – шепнул он.
Степа, не поворачивая головы, ответил:
– Нет.
– Самсоновский он. Его Никита узнал.
– Чей?
– Солоненкова Корнея сын. Знаешь?
– А-а!
Корнея Солоненкова все знали в Славичах. Богатый мужик, садовод. Все сады в Славичах были его.
– Федора видел?
– Видел.
– Ну?
– Поговорит с кем надо. Вечером скажет. У вас как?
– Губарев пропал. Не найти никак.
– Видал его на реке. Он уплыл или утонул. Не понять. А Бер?
– Неизвестно.
– Кто повешенный?
– Кажется, Шабанов.
– Что ты?
– Не знаю точно. Будто он.
Они переговаривались одними губами, не глядя друг на друга.
– Ян что?
– Ничего. Отряд сколачивает.
– И как?
– Ничего. Идет помаленьку. Губарева нет и Бера нет – вот что плохо.
– Что Каданер?
– Никаких известий. К вечеру не будет – выступим сами, без него.
– Верно! Кто это сказал?
– Я думаю.
– А оружие?
– Достанем. Вечером совещание будет. Приходи.
– Где?
– Не знаю пока. Узнаю, скажу.
– Надо послать кого в уезд за Каданером.
– Надо. Вечером выясним. Приходи.
– Ладно.
Леша ушел.
Степа туже обвязал лицо платком. Надо, брат, осторожней. Раз Косой узнал, значит и другой кто узнать может. Это не дело.
Степа услышал голос Сонина и удивился. Он не заметил, когда это Сонин поднялся на трибуну, и пропустил начало его речи. Степа свистнул: фью! и Сонин тоже. Ну и ну. Он стал внимательно слушать, но Сонин уже кончал говорить. Суковатую свою дубинку он держал перед собой, как посох. Щеки красные, как смородина, дышали здоровьем, а слова у него изо рта вылетали – жирные и круглые. Не слова – лепешки.
– Человек зверь благородный, – говорил Сонин. – Дайте ему волю и увидите, какой он. Глупость это – «классовый человек». Чепуха! Ерундистика! Есть «просто человек» и ему просто хочется жить: набить пузо горохом или мясом и развалиться на солнце. Нет добродушней и благородней человека, только волю ему дайте, свободу. Короче сказать – присоединяюсь…
Трибуна примыкала одним краем к стене двухэтажного дома с высоким резным крыльцом. На крыльце стояло четверо бандитов из отборных, рослые парни в черкесках. Прислонившись к перилам, они небрежно и презрительно посматривали на трибуну, на толпу, на мир. Но вдруг они встрепенулись, вытянулись и застыли, впившись глазами в закрытую дверь. За дверью в доме послышался звон шпор и чьи-то грузные шаги. Кто-то спускался по внутренней лестнице.