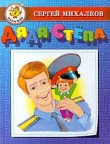Текст книги "Вольные штаты Славичи"
Автор книги: Дойвбер Левин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Глава третья
На карауле
Не везло нынче Степе. Первое – упустил тех двоих. Сказать вовремя – их бы взяли. Славичам – польза, а ему, Степе, почет. Раз. Второе – дежурить вышло в таком глухом месте, где не то что бандиты, крысы и то не проходят. У больницы. Больница, – приземистый, длинный дом старинной постройки с квадратами малых окон, – стояла на отлете местечка. На пригорке. Сзади – Славичи, «выгон», – широкая улица и редкие дома, огороды и пустыри между домами. Впереди поле и тяжелый полуночный мрак. Дохлое место, скучное. Никого тут не увидишь. Ни черта. И одно только радовало Степу – наган в кармане. Ладная штучка. На ять.
Ночь была темная. На черном небе неярко горели звезды. Под звездами, на холмах, в ложбинах, лежали Славичи, городишко, городок – три-четыре десятка улиц, базарная площадь и белая церковь на площади. Славичи спали. Глубокая, немая какая-то тишина висела над землей. Даже собаки не брехали. Даже петухи не пели. И ветер улегся.
На крыльце больницы их сидело четверо – Степа, Меер, Никита, парень из ближайшей деревни Самсоновки, и Бер Гезин – низкорослый человек с рыжими волосами и с золотым зубом во рту. Бер долго жил в Америке, работал на крупном заводе, женился, вырастил сына. Но узнал о революции в России, бросил все: и работу, и семью, – жена и сын не захотели поехать, – и вернулся домой, в Славичи. «Сгори она, Америка», – кратко отвечал он на все расспросы. Мечтал Бер стать землеробом, на Дону где-нибудь или в Сибири. Но пока это было невозможно, – время военное, страна в дыму, где тут думать о землеустройстве? И Бер слесарничал. Теперь вот сидел он на верхней ступеньке крыльца, – винтовка лежала рядом, – и, покуривая козью ножку, не спеша рассказывал:
– Вначале всяко приходилось, – рассказывал Бер, – и бродяжил и у фермеров работал. Фермер? Да это, если по-русски сказать, будет крепкий хозяин, кулак, одним словом. Вот уж верно, что «кулак», – жмет, дьявол, так, что ой. Все соки высосет. В котелке, в гетрах, а паук почище нашего. Батраков, таких чтоб всю жизнь на одного хозяина работали, там мало. А все больше – бродяги, трампы[46]46
Трамп – бродяга.
[Закрыть], одним словом. А этих жать не трудно. Соединиться, чтоб сообща отстоять себя, этого они не умеют, да и не признают. Каждый сам по себе. Скажешь им – союз, партия, а они тебе – про Клондайк, про то, как этот разбогател, как тот разжился. Не все, конечно, так говорят, но большинство. А есть и такие, что на все плюют. Анархисты, одним словом…
– Это что такое «анархисты»? – спросил Стена.
– А которые власти не признают, – сказал Бер, – не то что там царскую или буржуйскую власть, а всякую. Барская затея, одним словом. Нам, рабочим людям, она ни к чему. Буржуи-то свою власть признают, да еще как, а нам они, анархисты, говорят: «Не создавайте власти. Буржуев сковырните, а власти не создавайте. Пусть всякий живет вольно, как хочет». Да ведь если мы, рабочие, после революции не создадим власти, так что же будет-то, а? Через три месяца буржуи опять сядут на шею и такое нам пропишут, что век не забудешь. Нет уж, дудки. Нас на мякине не проведешь. Знаем мы, чем это пахнет, безвластие-то. Либо кабала через три месяца, либо грабеж. Вот Махно тоже себя «анархистом» называет. Из всех лозунгов взял только один: «Грабь-де награбленное». Ну и грабит и режет заодно – советчиков, коммунистов, евреев… да всех. Уж все одно. Чего там? Анархия! Подлющий народ…
Бер вдруг замолк и прислушался. С поля в местечко мимо крыльца шел человек. По тому, как он ступал, было ясно, что человек-то большой, грузный, что идет он издалека и что он устал. Бер вскинул на руку винтовку, щелкнул затвором и негромко спросил: «Кто идет?» Из темноты тотчас же ответил спокойный, густой, как труба, голос:
– Свои.
– Кто свои?
– Да я же, Антон.
Человек повернул к крыльцу. В темноте неясно маячила дородная фигура, и густой голос тянул нехотя с зевком:
– Караульщики, што ль?
– Ты откуда это? – вместо ответа спросил Бер.
Антон Микитенко, рослый, черноволосый мужик, до войны барышничал и конокрадничал. Последние годы, когда торговать стало трудно, он работал в кузне, но коней крал по-старому. Мужик он был умный, хитрая бестия. Поймать его было невозможно, – всегда выходил сухим из воды. Посадят его, продержат сколько там и выпустят – улик никаких. Упорно говорили, что Антон знается с бандитами, с «зелеными». Но опять – только молва, а улик нет.
– Ты откуда это? – спросил Бер.
Антон ответил не сразу. Он присел на ступеньке крыльца, рядом с Бером, смачно зевнул, почесал спину, грудь, потом достал из кармана кисет с самосейкой, поднес Беру – «Хошь?» – закурил и только тогда ответил и то вяло как-то, через силу:
– Тута, – сказал он, – близко. Застенковский Авсей, знаешь? – сына женил, Игната. Хлебнули малость. Они-то еще гуляют, а я, видишь ли, до хаты, спать. С утра в кузню. Рабочий, видишь ли, человек. Им-то, мужикам, лафа, гуляй, сколько влезет, хоть до свету. Мужик-то ноне, видишь ли, барином заделался. А нам нельзя. Трудом кормимся. Верно?
– Тебя сегодня спрашивали, Антон, – сказал Степа, – двое. Один – очкастый, а другой на дезертира похож, толсторожий, в лаптях.
– Знаю, – сказал Антон, – заходили. Заказчики, елки-палки. – Антон презрительно фыркнул. – Показывает железное кольцо, очкастый-то, поломанное. «Запаяй», – говорит. «Не, – говорю, – я сделать вам как след не могу. Больно тонкая, видишь ли, штука. Не по нам. Идите, говорю, к другому кому». А потом насчет самогону спросили. Я их тогда к твоему батьке, Степа, послал. Один ведь он, видишь ли, на все Славичи благодетель такой.
Степа скривился. Ехидный, холера. Скользкий мужик. С ним сцепишься – и не рад будешь.
– Он уж больше не торгует, – сказал Степа.
– Не торгует, говоришь? – повторил Антон, – не бойсь. Для хорошего человека у него бутылочка про запас найдется. Завалящая какая. А самогонщик он здоровый. Чисто работает, хорошо. Это верно. Не самогон – спирт, настоящий спирт, ей-богу. Агроном недавно брал – нахвалиться не мог: «Хоть, говорит, американскому царю на ужин, и то не стыдно».
– В Америке нет царя, – сказал Бер.
– Скажи ты! – удивился Антон. – Там что же значит: советы или как?
– Президент, – сказал Бер.
– Учредиловка вроде? Так, так, понимаем.
Некоторое время Антон молчал. Он потягивался, что сытый кот, скреб бороду, протяжно зевал «а-а-а, господи», но потом, как бы спохватившись, что сидеть так и зевать невежливо, равнодушно сказал:
– Есть слышок будто бандиты близко, – сказал он, – ти правда это?
– Тебе кто говорил? – быстро спросил Бер.
– Не упомню, – неопределенно ответил Антон, – говорили. Верно это?
– Не знаю, – промычал Бер.
– Думается – брешут, – сам себе ответил Антон, – не полезут они на огонь, побоятся. Они, видишь ли, не дюже храбрые ребята. Самогонку дуть – это они молодцы, а как до боя, так они не тае. Кабы они знали, что охраны нет, тогда может решились бы, а теперь-то, думается, не полезут, побоятся. Верно?
Не дождавшись ответа, Антон заговорил опять.
– Вот объясни ты мне, мил человек, – сказал он, обращаясь к Беру, – как это так. Я что-то, по дурости, не понимаю. Вот савецкая власть говорит: «Все, которые трудящие, – братья, товарищи, значит». Верно? А кто-кто, крестьяне-то уж в сам деле трудящие. Что «баре» – это я смеялся. Крестьянин, он большой труженик. Верно? А гляди, милый человек, что получается: одни-то крестьяне идут в камитеты бедноты, в камунисты, другие – в банды, в «зеленые». И режут друг друга, стреляют, насильничают. А чего? Ей богу, не пойму. По дурости или как, а не понимаю. По мне, знаешь ли, жили бы все мирно, по-братски, по-товарищески, значит. Бог-то у всех один. А жисть каждому дорога. Вот и жили бы тихо, полюбовно, без драки и всем бы хорошо. Верно?
Бер вдрут сердито засопел носом, заворочался.
– Слыхали, – сказал он, – старые сказки.
– Верно, – охотно согласился Антон, – про это давно уже говорили. Все больше духовного званья особы, конешно. Поп там из евангелия читал или так, проповедник какой. А только иной раз и духовная, видишь ли, особа скажет впрок и евангелие не соврет. Вот говорят – граф Толстой так тот очень даже уважал евангелие. Попов не любил, а евангелие уважал. А може, это я все по глупости говорю. Человек-то я, видишь ли, необразованный, темный. Вам-то нынешним, молодым, видней, конешно. Но по мне, по-стариковски, выходит, что так: коли братья, товарищи, то уж и живите по-братски. Это по-мне значит, по-стариковски.
– Ты чего врешь? – сказал Бер. – Какой ты старик? Тебе сколько?
– Сорок три года, милок, – с достоинством ответил Антон, – срок, знаешь ли, не малый.
– «Не малый», – Бер хмыкнул, – а мне сорок шесть. По-твоему, мне что? Тоже в старики записаться?
– Кому как, конешно, – Антон встал, – пойду, посплю, – сказал он, зевая, – что-то спать охота. До свиданья, товарищи. – И дородный, величавый, как гусак, неторопливо зашагал по улице.
– Вредный мужик, – тихо вслед ему сказал Бер, – гадина.
– Ходит, все хо-одит, – протянул Меер, – вынюхивает.
– Сынку потом доложит, – сказал Никита, – у него сын, Ефрем, в офицерах служит или у бандитов он. Шут его знает.
– Да и шпионы к нему не зря наведывались, – сказал Степа, – было верно о чем поговорить-то.
– Не без того, – сказал Бер. – Знаешь, Меер, поди-ка сейчас за ним. А? Проследи, домой ли он или куда. Навряд ли он у Евсея был. Сомнительно. И не домой он отсюда. Врет. Проверь, одним словом. Ладно?
– Ладно. – Меер встал и, как всегда, угрюмо начал собираться; застегнул куртку на все пуговицы, надвинул поглубже шапку, дунул зачем-то в ствол винтовки.
– Живей, парень, – сказал Степа, – а то пока ты соберешься, Антон состарится и помрет.
– Не горит, – мрачно сказал Меер, – успеется.
Он спустился с крыльца и сразу же пропал, стал невидим. Тьма была такая густая и плотная, что казалось ее можно рубить топором. Только слышно было, как они шагают оба: Антон и Меер. Антон не спеша и твердо ставит нога, а Меер семенит, догоняет.
Вдруг где-то на Пробойной загорелся огонек. Огонек вспыхнул и потух и раздался долгий оглушительный свист. И опять загорелся огонек.
– Косой, – сказал Степа, – карнач.
Бер приложил к губам свисток и ответил таким же переливчатым, как бы захлебывающимся свистом. Все в порядке, карнач! Все на месте!
Вскоре появился и сам Леша, шумный, запыхавшийся, шапка набекрень, в руке карманный фонарик. Леша был не один. За ним, как тень, ходил помнач, молчаливый, губастый Мота, а сбоку, то залетая вперед, то отскакивая назад, шаром катился Сонин – учитель местной школы, круглый жирный человек, лысый, краснощекий, в бархатных шароварах и в чесучовой толстовке, крепыш, обжора и болтун.
Удивительный это был человек, Сонин. Купаться он ходил верст за десять от Славичей, озеро нашел, по его словам, целебное. А то и так: пойдет шататься по большим и малым дорогам и пропадет на неделю, на две. Хлебом накормит встречный мужик, воды напьется в ручье, поспит в лесу, во мху, на полянке. Вернется и, не заглядывая домой, сразу же в школу: «Ну-с, сверчки запечные, на чем мы третьего дня остановились?» «Не третьего дня, а две недели тому назад», – поправит его кто-либо из учеников побойчее. «Что ты, братец? – искренно удивится Сонин, – неужели две недели? Да все равно. Валяй». Но едва начнется чтение, как Сонин упадет головой на стол и захрапит на все Славичи. Чудак человек.
Легко помахивая суковатой дубинкой – а в дубинке без малого полпуда – Сонин катился рядом с Лешей и без умолку тараторил. Слова у него изо рта вылетали такие же жирные и круглые, как он сам. Не слова – лепешки.
– Вам, коммунистам, этого не понять, – продолжал он ранее, по-видимому, начатый разговор, – вы человека сушите, как сушат глину на кирпичи. Всю влагу из него вон. «Партийный человек». «Классовый человек». А я говорю – «Просто человек». «Просто человеку» что надо? Налопаться, чтобы быть сытым, выпить, чтобы быть в духе, – человеку, коллега, влага нужна, не думай – надо ему поработать сколько там требуется, а затем развалиться на лугу, под солнцем и, задрав ноги, зубоскалить с приятелем. И все. Конец. Остальное к нему присобачили. «Классовая борьба». «Классовая ненависть». Чепуха, коллега. Человеку важно одно – чтоб его не трогали. «Не лезь ты ко мне – и я тебя не трону», – вот что «просто человек» хочет. А вы и то, и се, и третье, и десятое. Ерунда, братец. Сочиняете…
– Так что же по-вашему – человек? – кричал обозленный Леша, – скотина? вол? Час пахал – и на травку? Так?
– Во! Во! – восторженно подпрыгивал Сонин – «час пахал и на травку», святая правда, коллега. А вола ты напрасно хаешь. Чудесная скотина. Добродушная. Благородная. Но человек не хуже, не-ет, не хуже. Добродушней и благородней человека нет. Поверь, братец. Только дайте ему волю. Дайте ему жить как хочется – и увидишь…
– Это какому такому человеку? – кричал Леша. – И буржую? и бандиту? Видали! Вот «зеленые» вольно живут. В поле. В лесу. А каковы пташки?
– Чем плохи? Чем плохи? – наскакивал на Лешу Сонин, – чудесные парни. Жрут, пьют, на гармошках играют…
– И режут, – мрачно подсказал Мотэ.
– А вы их почему расстреливаете? – набросился на него Сонин. – Вы к ним добром попробуйте и увидите, что за человеки…
– А ты пробовал? – грубо сказал Мотэ.
– Нет, не пробовал, но…
– Ну и молчи!
Подошли к крыльцу больницы. Леша пошарил фонариком и спросил важно, начальство же:
– Все в порядке?
– В порядке.
– Меер где?
– Тут по одному делу пошел, – проворчал Бер. Он не хотел при чужом, при Сонине, рассказать об Антоне. – А у вас как? Благополучно? – спросил он.
– Благополучно, – сказал Леша, – вот одного гражданина задержали, – он показал на Сонина. Сонин при этом стукнул дубинкой об пол и захохотал, – блондает как неприкаянный по улицам и песни орет. Ну, на бандита не похож. Отпустили мы его: «идите, говорю, домой». А он не хочет, теории тут всякие размазывает. Слыхал?
– Слыхал, – сказал Бер.
– Очкастый сегодня говорил батьке что-то вроде, – сказал Степа, – тоже все «клетка да воля».
Сонин заинтересовался.
– Это кто такой? – спросил он. – Очкастый-то?
– Да.
– Тоже прохвост, – ответил за Степу Бер. Сонин опять захохотал.
– Это как понять «тоже»? – сказал он. – Я – прохвост и он тоже. Так, что ли?
– Как хотите, так и понимайте, – жестко сказал Бер.
Вернулся Меер.
– К дьяку пошел, – доложил он.
– Арестовать ба его, – сказал Никита.
– Это кого же, ребята? – спросил Леша.
– Так, – сказал Бер. – Человека одного, – и тихо Леше:
– Был на почте?
– Был.
– Связи нет?
– Нет.
– Плохо.
Помолчали.
– Спровадь-ка этого олуха, – шепнул Бер Леше, – поговорить надо.
– Так вот, гражданин Сонин, – громко сказал Леша. – Спор наш мы продолжим завтра. Идет? А теперь отправляйтесь временно до дому. Не полагается ночью по улицам ходить. Вредно.
Сонин фыркнул.
– Это мне-то вредно? – сказал он и стукнул себя кулаком в грудь, – ого!
– Вредно не вредно, а идите домой, – строго сказал Леша, – а то придется вас до утра под арест. Поняли? Ну до свиданья.
Сонин, разговаривая сам с собой и посмеиваясь, ушел. Леша сел.
– Яна видел? – спросил Бер.
– Он у Губарева, – сказал Леша, – совещаются.
– К организации пока не приступили? – спросил Бер.
– Где там? – сказал Леша. – Глушь. Полночь. Приступим с утра. Как посветлеет, махнем до дому, – час, другой поспим, а там приступим.
– Наших-то собрать – дело плевое, – сказал Меер, – беспартийных, главное, сколотить и вооружить. Вот что.
– Сколотим, – сказал Бер, – «низ» я беру на себя. Там, верно, мало кто остался, а уж кто есть, тот сам побежит. Ты, Степка, на слободе у себя пощупай. С Федором поговори, из комбеда который. Он парень хороший.
– Оружия надо, – хмуро сказал Никита, – народ я и у себя, в Самсоновке, подберу. Беднота-то пойдет, кабы оружия дать. А то они: «Куды, мол, с дубиной против пулемета? Башку отхватит и аминь».
– Оружие будет, – уверенно сказал Бер. – Уре достанет. Будь спокоен. Раз сказал – достану, достанет. Ясно.
– Значит так, – сказал Леша, – часов в пять можно домой на боковую. Потом за дело. Смены не дам. Ребята нужны будут все. Опасаться, видать, пока нечего. Бандиты, коли Каданер не спутал, еще далеко. Ну, Мотэ, потопали.

Близился рассвет. Посвежело. Снова подул ветер. Но темнота не поредела. Как всегда перед рассветом, темнота еще сгустилась, окаменела. И вдруг далеко в поле встало огромное пламя. Пожар. Даже над Славичами – а пожар был верст за десять, не ближе – небо побурело и сделалось тяжелым, как свинец. Значит, сразу занялась целая деревня. До местечка не доходили ни треск огня, ни вой погорельцев. Была тихая черная ночь и в ночи стояло огромное зарево. Караульщики, собравшись в кружок, долго смотрели на пожар. Никто не сказал ни слова. О чем тут говорить? И так все ясно.
– Сволочи, – процедил наконец Бер, – бандитьё!
– Думаешь – они? – тихо спросил Степа.
– А то кто же? – сердито буркнул Бер, – Георг Вашингтон?

Глава четвертая
Бандиты
Степа крепко закрыл глаза. Пожар неожиданно приблизился вплотную. От огня шел дым и глазам было больно. Вокруг огня суетились люди. Они таскали на плечах домашний скарб и были похожи на горбатых. Мужчины кричали и ругались, а бабы выли тонкими голосами, по-собачьи. Вдруг кто-то забил в колотушку, дробно и четко: тк-тк-тррр. Степа, не видя, знал, что это Маркелл, базарный сторож, долговязый старик с зеленой болотной бородой. «Ты чего, Маркелл? – сказал Степа, – брось!» Но старик только пуще разошелся. Звон стоял в ушах от его неумолчного треска. «Уймись ты, холера!» – крикнул Степа и проснулся.
Было утро. Через окно в хату врываюсь солнце. Оно ослепляло и жгло. Топилась печь. Около печи неторопливо ходила мать, Ганна. Осипа не видать было, то ли он был на дворе, то ли в Славичах. А с улицы доносились крики и беспрерывная трескотня.
Степа стоял посреди хаты, заспанный, взъерошенный, в измятой рубахе, – он спал, не раздеваясь, – и старался понять, что за крики и что за треск. Глаза сами собой смыкались, до черта хотелось спать – сон сливался с явью и Степа не знал, снится ли это или действительно пожар. И в то же время ему было ясно: нет, не пожар, что то другое. Но что?
– Что там, а? – осипшим от сна голосом спросил он мать.
– А где жа? – певуче сказала Ганна.
– На улице?
– А стреляют жа, – сказала Ганна.
Степа очухался мигом, словно его водой окатили.
– Кто стреляет? – тревожно сказал он.
– А лях жа их знаит, – равнодушно пропела Ганна, – бандиты, што ль.
Вот так да! Б-ан-ди-ты! – А отряд? Эх, ты!
– Давно? – быстро спросил он.
– Что жа? – сказала Ганна.
– Давно стреляют, ну?
– А недавно жа, – сказала Ганна, – с полчаса, што ль.
Так и есть. Засыпали. Степа пощупал карман – наган туг, есть наган. Но кто стреляет? Бандиты? Бандиты, конечно. Но в кого? Или успели ребята? Или Уре вернулся? Да, нет, навряд ли. Рано ему. Эх-ма! Что делать-то? А?
– В Славичах? – отрывисто спросил он.
– Чего? – не поняла Ганна.
– Бандиты уже в Славичах?
– А лях жа их знает, – сказала Ганна, – тама будто.
Степа одним духом вылакал кружку холодной, как лед, воды, пустую кружку кинул в угол и, как был, без шапки, немытый, взлохмаченный, выскочил на улицу. Ганна нашла кружку, поставила ее на стол и удивленно сказала: «Ти ошалел ты, Степка?» Но, оглянувшись, увидела, что хата пуста, что Степы нет. И тут впервые в это утро Ганна испугалась. Она кинулась к окну. – «Степа! – закричала она, – Степа!» Никго не откликался. «Степа, где жа ты? Сте-па!» Ни звука. Тогда Ганна тяжело опустилась на лавку, закачалась, как маятник, из стороны в сторону и тягуче завыла: «Степка! Сыночек мой родненький! А куда жа ты? А убьют жа тебя! Степ-ка!»
Курица в сенях ответила на вой заботливым бормотанием, залопотала что-то. Она стала на порог и, не мигая, долго смотрела на Ганну круглыми глупыми глазами. И вдруг, встревоженная чем-то, шумно захлопала крыльями и закудахтала беспокойно и хрипло с частыми трубными криками.
А Степа стоял у ворот, не зная, в какую сторону повернуть. Стрельба доносилась с разных концов Славичей. Одно время и на слободе где-то палили. Но сейчас тут угомонилось. Было раннее утро. Улица – в тенях и солнечных бликах – была пустынна. Люди спрятались в домах, закрылись ставнями и заложили двери крепкими засовами. Но из местечка на слободу шли крики и грохот и эхо нестройных залпов. В Славичах шел бой. Но с кем? Ведь ничего же нет! Ни отряда, ничего. Ребята же спят после дежурства. А Каданер еще не вернулся, не мог он так скоро вернуться. Не успеть ему. Отчего же такая пальба? В кого это они, сволочи?
Скоро Степа увидел – в кого. По дороге вдруг затарахтела телега, затопали кони и с поля через слободу к мосту в облаке пыли пронеслась двуколка, запряженная парой. С двуколки стрелял пулемет. Слобода была как вымершая, кроме Степы не было ни души, а пулемет все же стрелял безостановочно. Несдобровать бы Степе, скосила бы его пуля, если бы он вовремя не догадался пригнуться к земле. Пули рассыпались веером во всю ширину улицы. На землю, кружась, падали сбитые ветром листья тополей и берез.
«В безоружных стреляют, гады – с мрачной злобой подумал Степа, – измываются».
Сам толком не понимая, что делает, Степа пустился бегом за двуколкой, в Славичи. Он знал одно: надо найти кого-нибудь: Яна, Лешу, Бера, все равно кого. Надо что-то узнать, что-то сделать. Так же нельзя! Но, добежав до моста, он остановился. На берегу в кустах лежал кто-то и вопил как полоумный: «О-о-у-у!» Это была женщина, старуха, Степа ее знал – Акулина, гончара Якова жена. Ее ранило в ногу, в икру правой ноги, навылет. Рана была неопасная. Но старуха исходила предсмертным звериным воем. Она лежала на спине, раскинув руки, зажмурив глаза, вопила и в промежутках скороговоркой причитала: «Ой, смертушка моя пришла! Ой, православные! О-о-у-у!»
– Тише, бабка, тише, – сказал Степа, – не помрешь ты, не бойсь. Тише, ну!
Но старуха, не открывая глаз, не глядя на Степу, не замечая его, никого и ничего не замечая, продолжала вопить истошным голосом и в промежутках скоро-скоро причитала: «Ой, православные! Ой, смертушка моя пришла! О-о-у-у!»
Степа осмотрелся: еще бы кого, а то одному не дотащить ее до хаты. Но никого. Пустынный берег. Безлюдье. Как в лесу. Вот народ! Он забарабанил в ставень ближайшего дома:
– Эй, открой!
На стук ответил испуганный топот: «Кто там? Чаго?»
– Открой, – крикнул Степа, – подсобь дотащить ее до хаты.
– Кого? – спросил голос.
– Акулину, гончариху. Раненая она.
– А пущай, – сказал голос, – все равно ей подыхать. Старая.
– Чтоб тебе, холере, самому издохнуть! – сердито крикнул Степа, плюнул и отошел.
Он вернулся к старухе и удивился. Акулина уже не лежала пластом, не вопила и не причитала. Приподняв ногу, она аккуратно и хозяйственно перевязывала рану головным платком.
– Поможь-ка, сынок, встать. – попросила она Степу, когда он подошел. Степа, понатужившись, – старуха была толстая, пятипудовая, – приподнял ее и поставил на нога.
– Довести? – сказал он.
Акулина нерешительно сделала шаг.
– Не надо, сама я, – проговорила она.
Чуть помедлив, старуха вдруг ринулась вперед и так прытко, хоть молодой и здоровой впору, заковыляла к хате, что Степа только рот разинул. Ну и старуха! Дуболом!
Пока Степа возился со старухой, он решил, что не стоит ему сейчас соваться в Славичи: – «Подожду, – решил он, – один-то я что? Что я один сделаю? А поймают – укокошат. Зашибут, как щенка».
Степа пошел домой. Он торопился, – скорее, скорее, а то на кого-нибудь нарвешься. Однако, пройдя шагов двадцать, он замедлил шаг. Остановился. Постоял, подумал и круто повернул назад, к мосту. Плевать! Что со всеми ребятами будет, то и с ним, со Степой. А дезертировать и трусить не годится. Не годится, парень, дезертировать. Плевать!
Трескотня, ненадолго затихшая, возобновилась снова. Она все приближалась. Сухие выстрелы рвались уже в приречном переулке по ту сторону моста. Вдруг из переулка вынырнул человек, невысокий, коренастый, в белой рубахе враспояску, без шапки и босой. За ним, пригнувшись к шее коня, несся бандит в бурке, с небритым щетинистым лицом, с выпученными круглыми глазами, весь колючий, как еж. Рядом мчался второй бандит, молодой паренек, озорной, чубатый хват. Он на скаку писал и размахивал обнаженной шашкой. Сталь на солнце сверкала, как молния.
Человек бежал не спеша, он, видимо, берег силы. Держа руки, зажатые в кулаки, на уровне груди, он мерным шагом, – хоть бандит в бурке был уже близко, – поднимался на мост. Степе человек показался знакомым. Где-то он его видел. Но человек опустил голову и его трудно было узнать. И только заметив впереди Степу, человек резко вскинул голову. Степа его узнал. Губарев! Продком!
А Губарев, должно быть, не узнал Степу. Он метнулся в сторону, быстро и зорко, по-волчьи, оглянулся – догоняют! Капут! Но, не ускоряя шага, неторопливо добежал до перил. Он ухватился за перила руками, оттолкнулся от моста и повис над рекой. Бандит в бурке проскочил мимо, – не остановить было коня. А чубатый с размаху рубанул шашкой. Сталь со звоном врезалась в дерево, не причинив Губареву никакого вреда. Он вовремя разжал пальцы, пролетел сажени две в воздухе и с плеском бухнулся в воду.
Бандиты спешились. Зычно ругаясь, они суетились на мосту, свешивались через перила, глядели в воду: не выплывет ли? В одном месте, где было сильное подводное течение, образовалась воронка. Степа знал это место, не раз купался тут. Но чубатый решил, что это комиссар. Он сорвал с плеча винтовку и, не целясь, выпустил в воронку всю обойму. Вода фонтаном рассыпалась от пуль, а Губарева не было. Утонул, что ли?
– Утоп, тудыт его растуды, – прохрипел бандит в бурке, – а говорят, дерьмо не тонет.
– У ниго от Комиссаровой жратвы жилудок тижолый, на дно тянет, – голосисто крикнул чубатый и сам первый захохотал.
– Отъелся, паскуда, – сказал бандит в бурке, – гладкий кабан.
Губарев выплыл. Хороший, верно, был пловец. Он вынырнул далеко от моста и плыл так же размеренно и не спеша, как перед тем бежал.
– Гляди, Митрей! Плыветь! Плыветь, раз его в дуло! – закричал чубатый. – Стрели! Стрели, ну!
Бандит в бурке прицелился и выстрелил. Голова Губарева скрылась под водой. Навряд ли его задела пуля. Он, должно быть, решил укрыться так от огня. А то уж больно цель завидная – темная голова на светлой реке, тут и левша подстрелит.
Чубатый вмиг вскочил на коня.
– Не уйдешь! Врешь! Врешь, ссука! – цедил он, торопливо оправляя седло, сползающее вбок. Но бандит в бурке его остановил.
– Брось, – лениво сказал он, – делов и без него много, а комиссаров хватит. Не скули.
Он бережно обеими руками снял с головы шапку и вытряхнул себе под ноги лист бумаги, сложенный в четвертушку. Подняв и развернув лист, он медленно по складам стал читать.
– Бе-бе-бер Ге-ззи-ин. Имечко, трясци его матери, – сказал он чубатому, – подавишься.
Чубатый свесился с коня и сочувственно кивнул.
– У них, у жидов, имена тижолыи, – серьезно сказал он, – Шмерка, да Берка, да Тудрес. А где живет написано?
– Синагогальная улица, – прочел бандит, – леший ее знает, улицу-то эту. Спросить бы кого.
Степа все время стоял на мосту, плотно прижавшись к перилам и стараясь занимать возможно меньше места. Дернула же его нелегкая повернуть в Славичи и вступить на мост как раз тогда, когда на мосту показались бандиты. И вот теперь стой, как пугало, не дыши, не моргай – заметят, а заметят – плохо. Обыщут: «А, наган? Откуда наган? Нашел? Знаем, как нашел. Бабушке расскажешь на печке. А пока идем-ка с нами до атамана». Эх ты, Степа! Засыпался ты, парень! Пропал!
– Леший ее знает, эту улицу, – сказал бандит в бурке, – спросить бы кого.
Он обвел вокруг выпуклыми мутными глазами. Это кто там стоит? Паренек, кажись.
– Э, браток, – негромко позвал он и поманил Степу пальцем.
Степа похолодел. Готово! Каюк! Он сделал вид, что не расслышал и не пошевелился. К нему подъехал чубатый.
– Паренек, слышь, – сказал он мирно, – тебе.
– А? Что? Меня? – Степа усиленно моргал, как бы не понимая, – меня? Да?
– Тебе. Тебе, – Чубатый носком сапога подтолкнул Степу в спину, – иди.
Бандит в бурке, глядя на Степу в упор, сурово спросил:
– Грамотный?
– Н-да.
– На, читай, – он ладонью прикрыл лист таким образом, что видна была только одна строчка, – читай. Что тут написано?
Когда бандит заговорил, на Степу дохнуло чем-то затхлым и кислым, – перегаром самогона, что ли. Степа слегка отодвинулся. Бандит это заметил и рассвирепел.
– Ты чего, сукин сын? – рявкнул он, – читай!
Слова на бумажке были написаны замысловатыми, полу-славянскими буквами, вязью. Писал, видно, поп или дьяк.
– Бер Гезин, – прочел Степа.
– А улица?
– Синагогальная.
– Значит так, – сказал бандит.
Надвинув шапку на лоб и откинув полу бурки, бандит сел на коня.
– Веди! – коротко приказал он.