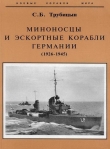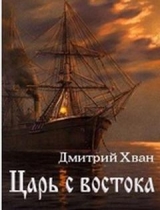
Текст книги "Царь с востока"
Автор книги: Дмитрий Хван
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Глава 12
Гродна – Белосток, Царство Русское. Август 1654.
Багровое солнце садилось, уходя за тёмные просторы принеманских лесов скрывая в надвигающихся сумерках дальние дымы пожарищ – то крестьяне громили и жгли усадьбы шляхтичей, либо дружины поляков разоряли окрестные селения, заподозренные в симпатиях к москвитянам. Воевода князь Хворостинин, не раз уже выручал селян, посылая отряды драгун и казанцев, вылавливая и уничтожая шайки шляхтичей. А посланцы к воеводе шли безостановочно, поминая обиды, принимаемые крестьянами от помещиков и ксёндзов. Доходило до неприличных для поляков случаев. Так, один из посланных воеводой отрядов – а это были смоленские драгуны, столь резво преследовали мародёров, что, увлёкшись погоней, углубились в необжитые места. На исходе вторых суток преследования, драгуны окружили и вырубили, к чертям собачьим, всю шайку у давно покинутого людьми хутора, после чего настало время возвращаться к Гродне. Однако вояки под началом капитана Людвига Мартинса из Фландрии заплутали, более того, встреченные ими селяне, оробевшие при виде озлобленных москвитян, указали им не то направление. Смоленцы, оказавшись у Белостока, были приняты местным гарнизоном за приближающееся войско князя Черкасского, до сих пор стоявшего под Люблином. В итоге гарнизон Белостока бежал, а драгуны заняли опустевший замок, когда-то принадлежавший шляхтичам Веселовским. Отправив двух местных хлопцев с посланием к воеводе в Гродну, Мартинс решил оборонять городок своими силами, покуда есть возможности для оного. Через несколько дней Хворостинин прислал подмогу – войско боярина Матвея Шереметева, состоящее из восьми сотен солдат-калужцев с полковником, сотни московских рейтар и Аренсбургский полк союзников-эзельцев. С солдатским полком прибыли и три пушки.
Сам князь Хворостинин тоже ожидал помощи от царя, посылая одну за другой грамоты с просьбами в его ставку в Полоцке. В свете скорой осенней распутицы и долгих холодных дождей укрепиться в Гродне было бы весьма полезным делом, считал Фёдор Иванович. Сей город был оставлен польскими воеводами практически без боя. Гетман Павел Ян Сапега, после короткой, но жаркой схватки передовых отрядов, в ходе которой он чудом избежал пленения, поспешил уйти на запад, оставив Гродну на милость князя Хворостинина. Победитель, заняв город на Немане, не стал преследовать совершенно расстроенные отряды поляков – войску Хворостинина требовался длительный отдых, кроме того, необходимо было пополнить запасы, поскольку захваченного в Гродне пороха было недостаточно.
Поправить дело смог бы давно обещанный пороховой караван из Пскова, но до сих пор в ставке воеводы не было известий о его прибытии. Другой же обоз, что приближался со стороны Минска, миновав Лиду, стоял теперь всего лишь в трёх дневных переходах от Гродны. В обозе том находилось четыре десятка уральских пушек, предназначенных для усиления обороны Гродны. Кроме того, множество телег было занято семьями и пожитками тех стрельцов, чей полк сопровождал пушки от самой Москвы. По приказу государя, многие стрелецкие полки уходили на поселения во вновь отвоёванных русским оружием землях древней Руси. Так, один из московских полков поселялся близ Гродны, а второй полк уже выходил из Москвы, чтобы осесть на земле неподалёку от первого. Вяземские стрельцы осели у Берестья и Кобрина. Иные близ Пинска, Луцка, Каменца, Львова, Владимира на Волыни и Галича. Каждое из поселений стрельцов представляло собой несколько слобод, укреплённых на манер крепостицы да усиленные пушками, которые располагавшиеся неподалёку от посада того или иного города. Во главе каждой из них становились видные, опытные в ратной службе люди, что показывало чрезвычайный интерес царя в этом предприятии. Так, стрелецкими слободами, кои должны будут построены у Гродны, начальником был назначен стольник и голова московских стрельцов Авраам Никитич Лопухин. Военные поселенцы, которые, по задумке государя Никиты Ивановича должны были утвердить его власть на новых украйнах, получали за свою службу высокое жалование, доходившее теперь до восьми рублей в год для рядового стрельца, уплачиваемое помимо хлебного оклада. Кроме того, каждый из них получил деньги за оставленное им прежнее жилище.
Саляев, чей полк проходил через Гродну, где и остановился на несколько дней отдыха, узнал об этой идее русского царя от Фёдора Хворостинина, посетившего походный лагерь эзельцев и отобедовший там. А по прибытию в Белосток, в первый же вечер обустройства на новом месте, Ринат по достоинству оценил решение государя в беседе с Бекасовым:
– Нравится мне этот царь! Определённо, есть польза в изменении истории... Вот он сейчас свои погранвойска селит на новых рубежах. Хорошее дело! Крепости пограничные укрепляют, пушки льют новые...
– Линия Никиты Ивановича? – оторвавшись от карты, проговорил Бекасов.
– Сдаётся мне, назовут её линией Никиты Великого, – ухмыльнулся Саляев.
– Ну да, – согласился Сергей. – Петру бы уже ничего прорубать не пришлось. Да и вообще – за него уже многое сделали – и армия новая создана, и заводы строятся уральские, и выход к морю завоёван, и флот на курляндских и немецких верфях уж заказан...
– И шведов с поляками угомонили, – добавил Бекасов. – Крым остался.
– Это вряд ли, – нахмурился Ринат. – С Турцией опасно сейчас всерьёз схватываться, разве что за усы подёргать – Азов захватить реально, ногайцев в низовьях Днепра разгромить.
– Товарищ полковник! – в проёме шатра, занимаемого Ринатом и его помощниками, появился штаб-капитан полка, усатый немец из Аренсбурга, крепко державший за руку хнычущего паренька лет двенадцати. – Дозорные из разведроты поймали его на реке, с той стороны переплыл. Говорит, к воеводе у него слово есть.
– Пусти мальца, Ганс, – поднялся с лавки Ринат. – Пусть говорит.
Однако отпущенный офицером парень затараторил на такой адской смеси польских и русских слов, что Саляев с Бекасовым в сей же миг скривились, будто от зубной боли.
– Я позову Игнатия! – всё понял Ганс, ощерившись в подобии улыбки.
Игнатий, старшина из роты разведки, присел на лавочку рядом с парнем, который представился Олесем, дал ему кружку горячего копорского чая и подсохший крендель, после чего принялся выспрашивать. А через некоторое время доложил:
– Говорит, что большой конный отряд ляхов к Белостоку от Суража движется, стяги королевские видал. Есть и кареты в обозе. Думаю, не более тысячи их будет, али чуть больше. У страха глаза велики! – хрипло рассмеялся разведчик, потрепав паренька по соломенного цвета волосам.
– Передовой отряд? – спросил Бекасов.
– Похоже на то, – кивнул Саляев. – Чего ещё говорит?
– Просит, чтобы отпустили его, – смягчил тон Игнатий. – Он лошадёнку в лесочке оставил, вертать её надо старосте.
– Ты это, Игнат... Скажи там, пусть Олесю немного монет дадут, ну и одежонки какой, – задумавшись, проговорил полковник. – А мы пока к встрече подготовимся.
О близости поляков был извещён боярин Матвей Шереметев, сын воеводы Василия Петровича Шереметева, который стоял сейчас в Перемышле, где находились и гусары Рыльского, а также конноартиллеристы Вольского. Матвей Васильевич немедленно созвал военный совет, на который, помимо Саляева, были приглашены его коллега-калужанин, а также драгунский капитан Мартинс и капитан рейтар Лыков. Шереметев-младший выслушал своих подчинённых, а после решил – ввиду отсутствия укреплений в городке, дать встречный бой на переправе, а в случае неудачи, отступить к Гродне, под защиту пушек тамошней крепости. За сутки, которые были у гарнизона Белостока, были устроены нехитрые фортификационные сооружения у бродов на той невеликой речушке, через которую шла дорога на город. Солдатский полк калужан занял фланги обороны, аренбуржцы же, по настоянию Саляева, укрепились в центре позиций войска воеводы Шереметева. Рейтарская сотня к вечеру была отведена в ближайший перелесок, а драгуны Мартинса, спешившись, усилили резерв, расположившись у невысокого холма, где находился личный отряд воеводы и миномётная команда эзельцев.
К обеду следующего дня воевода, осмотрев созданные солдатами укрепления, нашёл их удовлетворительными и, отослав гонца в Гродну, приказал занять позиции – польский отряд ожидался Матвеем Васильевичем совсем скоро. Дорога от Сурожа сухая и широкая – накатанная ранее частыми торговыми караванами, сейчас она была пуста – война всё же докатилась до этих мест и польские власти запретили поставлять провизию для царских полков. Зато купцы с восточной стороны сейчас получали отличные барыши, снабжая русские войска.
Матвей Шереметев, находясь у пушек, что обороняли мост и держали под прицелом броды, позвал к себе эзельского полковника – молодой боярин был наслышан о Сибирском царстве, теперь же он желал поговорить с одним из представителей царя Сокола наедине. Расположившись на пустом бочонке из-под пороха, воевода пригласил Рината сесть напротив и, с интересом вглядевшись в лицо полковника, начал беседу:
– Ты из казанских татар, верно ли?
Саляев в ответ едва улыбнулся и молча кивнул, посмотрев на Матвея – снова здорово, начинается стандартное дознавание. Татарскую фамилию сразу узнают, но не имя Ринат – современники сего века видели в нём европейское Ренатус. Мода у казанцев на европейские имена, привычные веку двадцатому, такие как Марсель, Альфред или Рафаэль, в семнадцатом веке совершенно отсутствовала.
"О, сейчас спросит, крещён ли я", – внутренне усмехнулся Ринат, предугадывая следующий вопрос воеводы.
– Крещён ли? – продолжил Матвей.
Его собеседник вновь молча вытащил из-под ворота куртки простенький крестик на шёлковом шнурке. Шереметев удовлетворённо кивнул, распрямил спину и подобрал полы кафтана.
– Скажи мне, полковник, каков прок царю Соколу посылать тебя воевать за нашего государя с ляхами? Нешто не легше, как герцог курляндский – свои пределы оборонить?
– Так мы не курляндцы, чтобы всякий раз хозяев менять, – усмехнулся Ринат. – А то, что я здесь – то наше общее, народное желание – помочь в меру сил царю единоверному. И тут, и на заводах уральских...
– Ха, то верно! – воскликнул Шереметев, хлопнув ладонями о колени. – Ныне уж слыхал от калужанина тово, полковника Коробовского, что людишки на Урал деревнями бегут – будто при заводах и житьё сытнее, и мошна ширше.
– Он говорил, будто к Калуге мор пришёл, чего же не бежать?
– И то верно, – важно кивнул Матвей. – Ох, лихомань проклятая, много народишка помрёт... На то и воля Божья.
– Не Божья тут воля, а дьявола! – нахмурившись, заговорил Ринат. – Ещё же при Иване Великом люди знали, как с мором бороться! Нужно болеющих сразу отделять от здоровых, запретить людям выезжать из чумных мест в иные стороны. Надобно также сжигать одежды больных, потому как блохи, что в ней живут, переносят мор да, особо, изводить крыс ...
– Ну, так уж и изведёшь их, как же! – махнул рукой воевода.
– Кошаков нужно заводить да объедки не раскидывать, кухни в чистоте держать, – поясняющим тоном говорил Саляев. – Скотобойни особо...
Ангарец вдруг замолчал, уставившись в землю. Воевода тоже задумался, прикрыв глаза и поглаживая бороду. У переправ уже раскладывали костры, чтобы они горели всю ночь, освещая подходы к реке. Прожекторы до поры зажигать не стали, приготовив их для момента столкновения с неприятелем. Над лагерем разносились ароматы варёного мяса, каши и масла. Солдаты перекрикивались друг с другом, шутили – ужин был почти готов и все находились в предвкушении скорого отдыха после сытной трапезы. Кроме тех, кто был назначен в караулы, разумеется. Шереметеву первому поднесли на серебряной тарели порцию солдатской еды, после чего и у котлов началась карусель едоков. Каждый из них, зачерпнув немалой ложкой обжигающе горячей каши, отходил в сторону и снова становился в очередь к котлу.
– Глянь, – ложкой указал Матвей Васильевич. – А твои-то свою плошку наполняют и отходят.
– Не круговерть же у котла устраивать, – пожал плечами Ринат.
Воевода, жуя кусок мяса, ответил нечто невразумительное, покивав. Ангарец усмехнулся, отвернувшись от занятого едой собеседника. Взгляд его зацепился на какое-то движение на той стороне у моста. Будто бы началось...
– Что такое, ляхи? – Шереметев поднялся, отставив тарель, вытер масляные губы рукавом кафтана.
– Да! – увидав сигнал, ответил Саляев. – Прикажи трубить тревогу, Матвей Василич!
Совсем скоро дюжина молодцов, перекинув через плечо кожаные ремни, на которых они носили барабаны, принялись лупить в них, что есть мочи. Протяжно затрубили и трубачи, заставляя Рината морщиться от противного их звучания. Его полк и морпехи Бекасова быстро заняли окопы по берегу и весь периметр обороны, калужцы тоже не сплоховали – Коробовский оказался неплохим начальником. Прошло около часа, когда на дороге показался конный отряд разведки, застучали копыта коней по мосту, и вскоре Саляев принял доклад старшего, позже продублировав его воеводе Шереметеву. По словам старшего разъезда, конный отряд поляков насчитывал до двух тысяч человек, но он был связан большим обозом и каретами. Действительно, разведчики видели и королевские штандарты и гербы, коими были украшены кареты.
– Видимо, в Белостоке планируют ночёвку устроить... – проговорил Ринат подошедшему Бекасову.
– На кой чёрт им кареты? – задумался Сергей, то и дело поглядывая на дорогу.
– Может, шишка какая знатная? – ответил Саляев. – Говорят, каждый второй тут знатный да гонористый шляхтич. Хотя...
– Идут! Вона! – заволновались воины оттого, что на дороге показались первые всадники.
Явно не ожидавшие увидеть тут укрепившихся москвитян, поляки остановили коней. Перед ними лежала единственная в округе наезженная дорога, ведущая к Гродне. Кто-то из верховых ускакал обратно. Наконец, вперёд, к мосту выехали несколько всадников с королевскими стягами и направились к позициям своего врага. Ехали медленно, с достоинством.
– Посольство то ляшское, в Полоцк небось идёт, – только и произнёс Шереметев, сплюнув в сторону поляков.
Воевода направился к шатру – одеваться для переговоров. Прошло совсем немного времени и Матвей Васильевич, одетый в роскошные одежды и панцирь, появился верхом на вороном коне у моста, сопровождаемый офицерами и знаменосцами.
Вперёд выехал знатный поляк и, откашлявшись, прокричал:
– Я Ежи Кароль Глебович, комиссар короля Яна Казимира, уполномочен им вести переговоры с государем и царём русским Никитой Ивановичем! Требую пропустить нас к Полоцку и не чинить препятствий!
– Не думаю, что моему государю нужно видеть под Полоцком столь много ляхов! – заговорил Шереметев. – Коли говорить о мире желаешь, то ни к чему гусарию с собою вести! Оставь воинов да прикажи им возвращаться, а сам с малым отрядом и обозом иди к Белостоку, а там и до Гродны. Сопровожденье я дам. Я всё сказал, а коли пойдёшь супротив, то у меня пушки и добрые мушкеты на то имеются.
Сжав кулаки, Ежи посмотрел на небо. Смеркалось, а скоро и совсем стемнеет. Опытный дипломат, удачно проведший недавшие переговоры с казацкими мятежниками, он с трудом сумел обуздать клокочущие внутри эмоции и согласился с требованиями русского воеводы. Ибо на карту было поставлено слишком многое, чтобы препираться с первым же москвитянином, оказавшимся на его пути.
Полоцк, четыре недели спустя.
Польских послов Никита Иванович выдерживал в отведённых им дворах в полоцком посаде и не позволял начинать переговоры, вовсе не для того, чтобы унизить представителей недружественного государства. Это уже было сделано – послов у Полоцка встретил вовсе не боярин и даже не дворянин из старого и честного рода, а обычный драгунский полковник из простых людей с небольшим отрядом солдат. Русский царь ожидал известия о взятии Люблина войском князя Черкасского, которое двинулось к этому городу за две недели до прибытия послов в Гродну. Ведь начиная переговоры, нужно иметь на руках какой-нибудь козырь. Провизии, однако, посольским людям, их многочисленной свите и лошадям посылалось во вполне достаточных объёмах, так что жаловаться на отсутствие внимания полякам было никак нельзя. Но вот, как только гонец от князя Якова Куденетовича привёз долгожданное известие о занятии Люблина, осаждаемого почти что полтора месяца, царь вызвал к себе голову Посольского приказа Ордина-Нащокина и, подробнейшим образом разъяснив тому, что стребовать с поляков за желаемый ими 'вечный мир', велел Афанасию Лаврентьевичу готовиться к скорым переговорам.
И действительно, известие о сдачи Люблина омрачило королевского комиссара Глебовича. Положение Польши было весьма сложным. Шведы хозяйничают в северо-западных землях, русские отняли восточные воеводства, казаки шалят в окрестностях Варшавы. Кроме того, приказный голова, начавший переговоры, сообщил о предложении, что получено его государем из Вены, от императора Священной Римской империи. Фердинанд Габсбург настоятельно предлагал Романову приступить к разделу польских земель с помощью шведов. Теперь положение стало абсолютно безнадежным, это понимал и Ежи Глебович, и Ордин-Нащокин. Посол имел приказ заключить мир не только от короля, под которым всё сильнее раскачивался трон, а также Сейма, но и настоятельные рекомендации от многих виднейших и могущественных магнатов. Условия вечного мира, выдвинутые Ординым-Нащокиным, оказались столь тяжёлыми, что поначалу Глебович отказался продолжать переговоры и заперся на дворе, где жил последний месяц. Но и съезжать он не съезжал, да и не смог бы – государь Никита Иванович не дал бы комиссару такой возможности. Наконец, после трёх недель долгих препирательств, жарких споров и яростной торговли по каждому пункту договора, вечный мир был, всё же, заключён. Во время начала церемониала подписания выступил думный дьяк Иларион Лопухин, поздравивший всех собравшихся и призвавший стороны свершить присягу над текстом соглашения. Русский государь целовал крест над текстом окончательного соглашения, призвав в свидетели Пресвятую троицу, Христа и Богоравную Деву, что означало торжественное принятие мира, заключённого Лаврентием Афанасьевичем. А перед тем, Ежи Глебович, совершил аналогичный обряд, положа руку на Евангелие, после передав бумагу царю.
Уже на следующий день в одном из каменных домов Верхнего замка Никита Иванович встретился с польским посланцем наедине, тут же было составлено письмо к Яну Казимиру, в коем царь предлагал свою помощь в деле защиты польских земель от шведской агрессии и алчности империи Габсбургов. После роскошного обеда Глебович в великой спешке отбыл в Варшаву, дабы известить короля и Сейм о заключении 'вечного мира' с Русью. Несмотря на внешний успех своей миссии, на душе у Ежи было неспокойно – цена мира казалась ему непомерной, чудовищной. Возвращая короне Люблин и окрестности Варшавы, царь отнимал у Польши не только Литву, Подолию и Волынь, но и большую часть Подляшья с Бельском, а также Русское воеводство, включающее в себя древние города Киевской Руси, такие как: Галич, Львов, Холм, Ярослав и Перемышль. Кроме того, статьи договора утверждали ранее свершившийся факт перехода Курляндии под руку русского царя. Другой польский вассал – прусское герцогство теперь оказывалось в совместном управлении держав. Этим Никита Иванович напрочь разрушил давно вынашиваемые планы Фридриха Вильгельма, бранденбургского курфюрста, который также был и герцогом Пруссии, на полное избавление герцогства зависимости от поляков и объединение своих земель. Для этого Фридрих тайно сносился со шведским канцлером и Делагарди подтвердил будущий суверенитет курфюрста над герцогством, в случае если бранденбургские войска будут участвовать в грядущей войне. Но все карты спутал воевода Фёдор Хворостинин, который по приказу государя вторгся в Пруссию, приводя жителей её к присяге без всякого насилия. Без боя сдалась и столица герцогства. называемая поляками Крулевец. Шведы не решились на противостояние с Русью, опасаясь за Ригу, в опасной близости от которой стояли курляндские полки и псковское ополчение. А вскоре окрик из Копенгагена заставил шведов и вовсе пришлось убраться из изрядно ограбленных ими земель Польши.
День задался с самого утра – солнечный свет щедро заливал полоцкие окрестности, стояла безветренная, сухая и тёплая погодка. Короткое бабье лето перед скорыми дождями и осенней серостью раскисших дорог. В душе у Никиты Ивановича словно музыка играла – никому из прежних правителей Руси не удавалось за одну войну освободить едва ли не все земли Древней Руси. Но в тоже время царь понимал, насколько сложно будет теперь удержать их – юго-западная граница Руси стала русско-турецкой границей, включая крымские владения, протянувшейся от Дона до владений Габсбургов. А Польша будет рада любому союзу, направленному против Москвы.
'Хоть шведа окоротили вконец' – вздохнул Романов – царь едва ли не ежедневно добрым словом поминал прочный союз с датским королём Фредериком.
– Великий государь! Посольского приказу голова... – Никита Иванович, поморщившись, замахал руками, прогоняя дьяка за двери.
– Заходи, Афанасий Лаврентьевич! – государь подошёл к боярину, вернувшемуся с докладом к монарху, после того как верхом проводил гостей до стен Заполотья.
– Вовек земля Русская не забудет тебя и трудов твоих! – Романов заключил смутившегося дипломата в свои крепкие объятия.
– На то я и поставлен тобой, государь Никита Иванович, – пролепетал Ордин-Нащокин, – царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателем.
– Устал, Афанасий Лаврентьевич? – царь пригласил приказного голову сесть на креслице напротив себя. – Устал, знаю. Хочешь ли на отчину отбыть? Псков недалече, а ведь в родных местах и отдыхается лучшей, особливо после тех долгих дней и бессонных ночей, что ты над миром великим трудился.
– Благодарствую, великий государь, – боярин поднялся с места и поклонился Романову. – Непременно съезжу на отчину. А покуда есть дела и тут.
– Куда без них, Афанасий Лаврентьевич, – махнул рукой государь, вздохнув. – Это со стороны видеться, будто приобрели мы землиц отчих, а ведь опричь их теперь ворог злейший затаил злобу до поры. А Порта? Будет ли она взирать на наше усиленье со спокойствием?
Ордин-Нащёкин молча покачал головой.
– То-то, – молвил царь. – Нынче думать надобно быстрее прежнего, смекаешь? Знаю, смекаешь, Афанасий, друг мой.
– Государь, – встав с креслица, боярин обошёл его и, взявшись за спинку, заговорил:
– Верно, слыхал ты о тех речных кораблях, кои в Ангарском царстве по рекам плавают? Силушку они имеют огромную – будто морские корабли!
– Самоходные корабли-то, слыхал! Через купцов узнавал – пусть и не много их, а реки держат под ангарцами... Думаешь, купить у царя Сокола корабли оные? Полно! Не продаст, ведаю о том.
– Так зачем покупать, государь? Пушки надобны, а уж корабль, пусть и гребной, завсегда можно сработать, – убеждённо проговорил дипломат.
– И то верно... – монарх задумчиво теребил бородку, устремив взгляд на слюдяное оконце, сквозь которое пробивался яркий солнечный свет.
– Государь, – понизив голос, снова заговорил боярин. – Каков будет твой ответ императору Фердинанду?
– Не желаю я Польшу с ним делить! – отмахнулся Романов. – Сам посуди...
Ордин-Нащёкин довольно и торжественно кивал, слыша разумные слова русского самодержца.
'Женился б ещё' – тоскливо подумал Афанасий.
– ... умножать внутри границ русских племя оное – горячее, склонное к вольнице и изменам? Нет уж, пусть будет Польша!
– Так что Фердинанду писать будем? – умильным тоном повторил вопрос приказный голова. – Супротив короля союза учинять не станем, стало быть...
Дождавшись уверенного царского кивка, боярин произнёс:
– Но негоже и от предлагаемого союза отступаться, надобно предложить иное. Турецкая граница у Руси ныне стала велика, да и император от турок беды претерпевает разные... Разумею я, коли союз против турок создать, пользы оттого всем станет больше.
– Верно, Афанасий Лаврентьевич! – воскликнул царь, встав с креслица.
Заложив руки за спину он недолго походил по застланному коврами полу, после чего остановился и посмотрел на дипломата:
– О том и пиши! Супротив турок союз учинять будем, а с ляхами нам самим решать!
– Да, государь, – поклонился Афанасий, пряча довольную улыбку в бороде.
Анти-турецкий союз с императором Священной Римской империи будет создан уже в конце следующего года. Фердинанд охотно пойдёт на заключение с Москвой оборонительного договора, по собственной инициативе назвав это предприятие 'Священной лигой', поминая этим одноимённый союз Испанского королевства и итальянских государств, некогда успешно противостоявший тем же туркам. Едва узнав о заключённом союзе, Венецианская республика известила Вену о своём желании присоединиться к нему. Венецианский дож Франческо Молин отчаянно просил помощи, ведь республика уже воевала с османами, отбиваясь в осаждённой ими критской крепости Кондия и более успешно воюя с турками в Далмации. Однако Фердинанд даровал венецианцам только лишь право найма солдат в своих владениях, более всего беспокоясь о своих пределах. Москва, силой оружия заявившая о себе в борьбе со своими соседями, стала объектом надежд православных народов. В Вильно, куда окончательно переехал Никита Иванович, зачастили послы из Молдавии, где с помощью лояльных царю казаков на престол вернулся Василий Лупу, активно развивавший отношения с Русью. Были у Романова и послы от черногорских кланов, от константинопольского патриарха Афанасия Пателара, которые призывали русского царя идти на Царьград, дабы сокрушить турок и освободить древний город. Никита Иванович всякий раз подолгу разговаривал с посланцами, многое узнавая от них, однако неизменным его ответом было сетование на силу турок и сложность такого похода для государства. 'Токмо о сбережении пределов своих думаю, на Бога уповая' – упрямо отвечал царь, отпуская послов с богатыми дарами. После окончательного замирения на западных границах и ухода шведов из изрядно опустошённых ими северо-западных и центральных польских провинций, Никита Романов обратил свой взор на Юг.
Воронеж, апрель 1658.
Сей год стал первым, в который Русь не закупала шведского железа и вдвое уменьшила покупку олова и меди у голландцев и датчан. Постоянно выраставшие в числе уральские казённые заводы, начальником производства на которых Никита Иванович назначил Петра Беклемишева, сына почившего три лета назад боярина Василия Михайловича, с каждым годом давали всё больше выплавляемого металла, изделий из него, а главное – пушек, с помощью которых русское воинство громило своих неприятелей. Строгановским же заводам наказывалось то количество орудий, которое они должны отливать для нужд государства – эта продукция шла на восток, в сибирские городки и остроги, в степные крепостицы, только через которые и могли проходить хивинские купцы, во избежание торговли людьми. Посылались уральские пушки и в казачьи области – на Терек, Сунжу и Дон.
– Э-эх! – последний удерживавший галеру канат был перерублен дюжим раскрасневшимся бородачом в распахнутом полушубке. Подпорки, удерживавшие судно, уж были выбиты ударами топоров его товарищей и, сопровождаемое торжествующими выкриками и свистом, галера, плавно спустившись со стапеля, шумно плюхнулась на воду. То была тридцать вторая по счёту галера из состава Азово-Донского флота. А вскоре последовал тройной орудийный залп, ознаменовавший окончание основных работ. Теперь оставалось оснастить галерные корпуса парусным и пушечным вооружением, установить вёсла, и, погрузив припасы, готовить корабли к походу на Азов. Кроме галер, русские корабелы с помощью курляндских мастеров построили и три двухпалубных корабля, вооружённых тремя десятками пушек каждый. Получившие от государя имена 'Орёл', 'Коршун' и 'Сокол', они стали первыми единицами южного флота Руси. На Балтике же Русь имела полтора десятка кораблей, построенных на курляндских и немецких верфях. Вкупе с флотом вассального герцогства, это число весьма заметно увеличивалось до шести десятков боевых кораблей и восьми десятков торговых судов, в основном флейтов. Ну а после замены устаревших курляндских пушек на уральские бомбические орудия сила Балтийского флота возрастала ещё более существенно. Теперь и герцог Якоб с оптимизмом смотрел на дальнейшую колонизацию Вест-Индии, где курляндцы укрепились на острове Тобаго и успешно продолжали экспансию на соседние земли.
Никита Романов же, наконец, решился бросить вызов османам, коих на Чёрном море прежде беспокоили лишь казаки, устраивавшие дерзкие набеги на прибрежные селения. Грабежи, которыми занимались казачьи ватаги, сильно расстраивали отношения Москвы и Константинополя, но теперь царь открыто поддерживал набеги, щедро снабжая донцов с запорожцами оружием, порохом и хлебом. Захват Азова укреплял позиции Руси на южных её границах. Одним из важнейших последствий приобретения устья Дона становилась свободная и безопасная торговля с Персией. Кроме того, освоение южных земель получало новый импульс – ведь богатейшие чернозёмы, не знающие до сих пор крестьянского плуга, покуда контролировались кочующими степняками. Усмирить ногайцев и татар да преподать урок и самим туркам – такова была задача этого похода. Подробный план всего предприятия, как и предложение о его разработке, Никита Иванович получил от ангарского посла и эзельского воеводы Лазаря Паскевича, который, вместе со своим штабом, стал советником при главном воеводе князе Якове Черкасском. Сам Никита, поначалу намеревавшийся сопровождать армию в походе, в начале весны слёг с недомоганием после двух дней охоты на зайца. Кроме прочих лекарей был вызван человек и из Ангарского Двора в Вильне, принятый иными весьма прохладно и даже открыто враждебно. А всё из-за того, что врачом в представительстве сибирского царства была женщина – одна из лучших учениц Дарьи Поповских, ректора медицинского факультета АГУ. В итоге, после нескольких дней кровопускания и рыбной диеты царь приказал ближним людям допустить к себе ангарского лекаря, которая вскоре стала довольно часто посещать царские палаты. Вскоре Никита пошёл на поправку, но к Азову так и не отправился, оставшись в Вильне. Начавшая выдвигаться к югу армия была поделена на несколько частей – первая, состоящая из гусарских полков, запорожцев и молдавских ватаг под началом воеводы князя Ивана Хованского и генерала Христофора Рыльского, усиленная конной артиллерией, шла правым берегом Днепра к его низовьям – громить ногайские кочевья вплоть до Дона. Основное войско приближалось к Азову несколькими путями – московские стрелецкие и солдатские полки воеводы Семёна Урусова плыли на судах – из Москвы-реки в Оку и далее по Волге до Царицына, а оттуда до Дона. Войско князя Юрия Барятинского, состоящее из солдатских полков, осадных команд, а также специалистов минного дела, собиравшееся в Воронеже, плыло на кораблях и бесчисленных стругах из реки Воронеж по Дону. Здесь же, на "Коршуне" находился и сам князь Яков Куденетович Черкасский со своим штабом. Правым берегом шёл огромный обоз, а по обеим сторонам реки перегонялись табуны лошадей и неисчислимое количество мелкого и крупного скота. Наконец, из Тамбова выдвигался шеститысячный отряд князя Семёна Пожарского. Не считая донцов, которые должны будут присоединиться к соединившейся у Азова армии Черкасского, она уже насчитывала более двадцати семи тысяч человек. К Азову воронежская флотилия плыла почти четыре недели, усердно сохраняя в пути порядок. В условленном месте корабли были встречены двухтысячным войском донцов, атаман которых при встрече с царскими воеводами похвалялся им недавним разгромом нескольких ногайских кочевий и захватом турецкой галеры, кою казаки взяли в ночном бою.