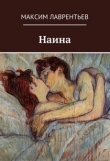Текст книги "Дочь гипнотизера. Поле боя. Тройной прыжок"
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
«Ага!»
«…Мы вдвоем напились до безобразия, чего раньше никогда не делали. В тот вечер, в ту ночь безобразие стало для нас единственным возможным способом восстановить привычный – „нормальный“ – ход вещей…»
«Балерину помню, а остальное – смутно, гадательно… Кажется, я пытался в тебя что-то засунуть, свечу, а ты… нет, забыл…»
«…На следующее утро, приводя себя и квартиру в порядок, мы смеялись, вспоминая ночные проделки. Встреча с Раей и ее новыми друзьями отошла далеко-далеко…»
«Теперь я понимаю, что в твоем сне делает чулок… А как насчет засвеченной пленки?»
«Об этом я тебе тоже никогда не рассказывала. Я ждала тебя к обеду, но ты не появлялся. Я вдруг страшно встревожилась. Воображение рисовало сцены из сводки происшествий. Я позвонила в издательство, собиравшееся печатать твою книгу, они сказали, что ты обещал зайти на следующей неделе. Позвонила Тропинину. Он ничего не знал о твоем местонахождении. Почему-то эти звонки, никак не просветив, принесли мне успокоение. Если тебя нигде нет, с тобой все в порядке, беспокоиться не о чем. Я посмотрела мексиканский сериал, решила сходить в магазин и купить что-нибудь дорогое и бесполезное. Светило солнце, обливая блеском стекла витрин. Каскады багровой мишуры с гипсовых капителей, искусственные цветы, голая девица на мотоцикле (не живая, манекен), целая комната мебели, как будто из нее только что вышли, с недоеденной тарелкой супа на столе. Скользнула сквозь зеркало. Зашла в обувной и примерила несколько туфель. Мне помогал продавец – бледный, веснушчатый юноша с большим носом. Помнишь, какие красивые у меня были ноги? С коробкой я вышла на улицу. Мне не хотелось возвращаться в квартиру, где не было тебя. На бульваре я надела новые туфли и выкинула в урну старые. Вдруг мне показалось, что кто-то мною ведет и все то, что принадлежит мне, мои чувства, мысли, мое прошлое, уже мне не принадлежит, а служит чужой, неведомой мне прихоти. Если я шла прямо, значит, кто-то хотел, чтобы я шла прямо. Если я заворачивала за угол, кто-то понуждал меня завернуть. Это было жутко и странно приятно. Только ты мог меня расколдовать, освободить от чужой, враждебной воли. То, что эта оживлявшая меня воля мне враждебна, я не сомневалась, я ощущала это каждой клеткой отнятого у меня тела. Это – временно, утешала я себя, это пройдет. Жизнь давалась мне слишком легко. В глазах рябили нескончаемые цифры – номера домов, номера автомобилей, даты концерта на афише, цифры на часах, цены. Я должна пройти от начала до конца, думала я. Должна найти выход. Легко мне было оттого, что из меня выжали всю тяжесть времени. Стоило мне только захотеть, и я оказывалась на другой стороне улицы. Мальчик зажег спичку и бросил в щель почтового ящика. „Вот так же и ты…“ – подумала я. Это было похоже на то, что я испытала в детстве, сидя на дереве, но тогда мне было хорошо, а сейчас – дурно. Если бы я знала, куда иду, то, наверное, не смогла бы сделать и шагу. Как будто мне дали задание обжить чужое пространство. Неудобное положение. Я чуть-чуть опережала события. Я сама себе нравилась, качалась, как поплавок на волне, чувствуя напряжение уходящей вниз лески с крючком. Я была юным телом, отбившимся от рук скаредных старцев. Прохожие оглядывались на меня, спеша запомнить. Я боялась только одного – невольным промахом выдать свое несоответствие их ожиданиям. Как всякая женщина, я знала, что во мне нет того, что они мне приписывают. Я не питала иллюзий, потому что сама была с головы до пят тонкой иллюзией, как ушлый луч, затерявшийся в хитроумной системе зеркал. Я чувствовала, что вхожу в роль, отрываюсь от земли, раскрываю сомлевшие крылья. Мое лицо превращается в маску, меня оскотинивая. Все, что произошло, произошло только потому, что тебя не было рядом со мной. Одна, я не могла справиться с твоим отсутствием. Ты купил меня, заплатив наличными. Мне стало страшно. Что если в этот самый момент, когда я думаю о тебе, ты с другой приятно проводишь время, забыв обо мне… Даже если эта другая – я, отпущенная на свободу? Стоило мне подумать, как я увидела тебя с ней. Я еще не догадывалась, кто она, но уже знала, что мне не понадобится больших усилий, чтобы увидеть ее так же отчетливо, как тебя, и еще меньше усилий, чтобы изобрести способ, как ее, отмокающую в ванне после приятно проведенного времени, уничтожить…»
«Вот, значит, как все было на самом деле! Только не понимаю, зачем ты так долго скрывала от меня».
«Потому что ничего не было или, вернее, было, но иначе. Когда вспоминаешь, всегда что-то ускользает, самое главное то, без чего остальное теряет всякий смысл. А тут получилось наоборот. Я запомнила смысл, а все остальное забыла».
«Твои сны, они говорят сами за себя».
«Можешь передвинуть меня на несколько ходов вперед».
«Пожалуй. Что дальше?»
«Минут через десять новые туфли начали натирать, я не могла и шагу ступить от боли. Пришлось сесть в первую остановившуюся машину. Водитель, круглолицый, в очках, с короткими усами, вылитый Агапов, довез меня до дома. Наша квартира показалась мне ужасно уродливой. Мебель, вещи, даже узор на обоях – все, нажитое нами за время совместной жизни, постепенно обставившее и заполнившее нашу жизнь, раздражало меня. Как случилось, что наши отношения, неизменно нежные, плотные, сложные, породили вокруг себя это тупое уродство? Что именно уродливого, я не могла сказать. Должно быть, на взгляд постороннего, как и на мой прежний взгляд, наша квартира казалась вполне обычной, простой, банальной. Действительно, в ней не было ничего, что отличало бы ее от сотен других квартир. Уродство было не в самих вещах, не в форме стула, не в расцветке покрывала, а в их расположении и сочетании. И теперь, сделав открытие, я не знала, что предпринять. Вызвать грузчиков и попросить их вывезти все подальше, так чтобы остались одни голые стены?.. Начать все заново, осмотрительно… Не приносить домой ничего, что вызывало бы хоть малейшее сомнение. Покупать каждую вещь вдвоем, обсудив все „за“ и „против“… Конечно, я не могла на такое решиться. Менять жизнь тогда, когда жизни, по-видимому, ничего не угрожает, только потому, что мне что-то померещилось, что-то не понравилось! Ты бы счел меня больной. Нет, придется жить так, как мы жили раньше, делать вид, что все в порядке, все на месте, ничего не произошло… Ты вернулся усталый, почему-то пахнущий пылью и застоявшейся водой. Я спросила, где ты был, ты сказал, что в издательстве утрясал рукопись. Я не стала ни о чем расспрашивать. Но с этого дня во мне начало происходить что-то мне непонятное и страшное. Я чувствовала: что-то происходит, но не видела – что. Рассматривала себя в зеркало и видела в зеркале – себя. Я не замечала в себе никаких перемен. И до сих пор не могу понять, что со мной произошло. Глядя в зеркало, я вижу себя такой, какой была всегда…»
20
Огнедышащее синее-синее небо, зеленое-зеленое море, подернутое блестящей дымкой. Рейсовый катер, покачиваясь, отражался черным боком в ласково-беспокойной воде. Матрос ловкой петлей накинул трос на чугунную тумбу. Протянули трап, сняли цепь. Пассажиры, утомленные поучительно-нудным плаванием, грустно улыбаясь, торопились сойти на берег. Толпа на пристани пришла в центробежное вращение. И моментально рассеялась, оставив на раскаленном асфальте сентиментальные отходы – смятый носовой платок, розовую ленточку, раздавленное пенсне, букет цветов, банановую кожуру, пустую бутылку, недоеденный бутерброд и прочую никчемную мелочь, которую оставляют люди прежде, чем вернуться в небытие.
После дурных предчувствий и предательских поцелуев, выворачивающих наизнанку тонкую душу, после холодных объятий и бдительных прощупываний (прибывающий по морю всегда отчасти призрак, копия себя самого, подделка), после вопросов и восклицаний, после церемоний, подразумевающих прямо противоположное тому, что демонстрируют, после великой лжи и мелких, темных истин, после торопливых переодеваний – тишина, плеск волн, крики чаек.
И вот уже Хромов, который никого не встречал и потому счастливо избежал участи во мановение ока пропавшей толпы, стоял на солнцепеке один, если не считать замешкавшегося на причале невысокого человека в темных очках и серой дорожной паре. Человек держал в руке чемодан и озирался по сторонам, без любопытства, скорее, с некоторым недоумением.
Хромов собрался уходить, когда незнакомец в темных очках, опустив чемодан на землю, окликнул его:
«Эй, вы там, подождите!»
Его голос не допускал отказа. Хромов удивленно остановился.
Незнакомцу было около пятидесяти, загорелый голый лоб, седые перья волос за ушами.
«Есть здесь какая-нибудь приличная гостиница?»
«Я вас провожу», – сказал Хромов.
Незнакомец улыбнулся:
«Будьте так любезны!»
Но сказал так, точно, доверившись, сделал Хромову одолжение.
«Я здесь бывал раньше, но очень, очень давно».
Они шли по узкой пятнисто-тенистой улице. Человек с чемоданом не счел нужным представиться и болтал без умолку, будто торопился назвать все, что встречалось на пути, дать всему определение, указать каждому дому, каждому дереву его место. Лишь иногда он обращался к Хромову за каким-нибудь мелким разъяснением и тут же спешил утвердить свое мнение об увиденном.
«Терпеть не могу приморских городков! – говорил он. – Эта публика, эти отдыхающие душой и телом, грязные пляжи, сомнительные рестораны, безликие дома, пыльные сады: все напоминает мне плохую книгу, современную книгу, не надо быть проницательным, чтобы понять, что произойдет на следующей странице, завтра, через месяц, через год. Каждый раз, когда я приезжаю в такой городок, непременно что-нибудь случается, злой рок, если угодно – сила вещей. Что это за стеклянный сарай?»
«Ресторан „Тритон“, морская кухня, игорный зал».
«Понятно, отдушина для тех, кто не знает, как истратить нажитое преступным путем, я когда-то тоже играл, в рулетку, на бильярде, спустил все, что имел, все, стал умнее, малым не обретешь великого, даже рискуя собственной жизнью, есть другие пути, нехоженые, представьте ребенка, который залезает на дерево и превращается в яблоко, а из яблока выползает червяк, но я люблю жару, волны, скалы: людей надо перевозить с места на место, не давать им застаиваться, протухать, у меня есть своя теория на этот счет, боги и герои, прекрасные женщины, мир так устроен, ничего не попишешь, обитание, маленькие битвы, пустые зоны, вода, золото, афиши, посмотрите на эту дверь, она приоткрыта…»
У белой стены сидел нищий с длинной рыжей бородой.
«Подождите-ка минутку…»
Незнакомец передал Хромову чемодан, подошел к нищему, присел и начал что-то нашептывать в коричневое мохнатое ухо. Нищий кивал, продолжая глядеть осоловело прямо перед собой. Потом облизнул сизым языком черные губы и пробормотал что-то такое, что привело незнакомца в восторг. Он вскочил, хлопнув в ладоши, и направился к терпеливо поджидавшему Хромову. На ходу порылся в кармане и, не оборачиваясь, щелчком запустил через плечо монету, которая, описав дугу, упала в стаканчик возле залатанного колена.
Они продолжили путь. Чемодан, неожиданно тяжелый, остался на попечении Хромова.
Потянуло чесноком, луком, пахнуло инжиром и изюмом, повеяло гнилыми абрикосами. На базарной площади незнакомец медленно прошел по рядам, прицениваясь. Купил соломенную шляпу, пару гранатов, персики и бутылку местного красного вина. Фыркнул на снулую кефаль.
«Из всей морской живности люблю только медуз!.. Кстати, здесь можно купить карту города?»
«Нет».
«Жаль, жаль. Впрочем, так я и думал. Так оно и должно быть».
Из-за угла показался Агапов. Он был чем-то озабочен и сердит. Серая бороденка торчала клочьями, брови сдвинуты углом. Едва кивнув на приветствие Хромова, он прошел мимо. Вельветовый пиджак с кожаными заплатами на локтях, черные брюки.
«Забавный экземпляр! – незнакомец приостановил шаг и, обернувшись, проводил взглядом вразвалку удаляющуюся фигуру. – Таких надо поискать, как говорится, сразу видно – мозги набекрень, богоотступник, посторонний, я знал одного такого, он плохо кончил, смесь макаки с гиеной, тот еще экземпляр, напал на привокзальную буфетчицу в привокзальных кустах сирени, жертва бессонницы, поставил все свое имущество на зеро и, проиграв, пустился в мелкое воровство, лишь бы угодить ненаглядной, которая только и думала, целуя, как отомстить лишившему ее счастья невинности, грустная история, и хорошо, что уже в прошлом, потерпевшие, как говорится, отделались легким испугом, получив по заслугам, долго нам еще идти?»
Он снял темные очки, и Хромова поразили его холодные голубые глаза.
«Ладно! Дорога живописная, нечего сказать, пыль, марево, мусор, пахнет свиньей, на каждом шагу забор или стена, деревья в столбняке, прохожие смотрят исподлобья, собаки громыхают цепью, одним словом, гадкий городишко, и зачем только я согласился сюда приехать?»
Ручка чемодана натерла ладонь, в плече заныло. Они проходили мимо дома Успенского. Хромов заметил за низкой оградой Аврору, поливающую цветы, и Настю, входящую в дом. Запах роз, настурций, резеды окутал его, как волшебный плащ, голова закружилась, как колесо рулетки: красное-черное, красное-черное.
«Что с вами? Нездоровится? Это солнце, темный напор света. Терпение, мой друг! Все пройдет, рекомендую дыхательную гимнастику, плохого не посоветую…»
Он достал из пакета персик, сжав двумя пальцами, сладострастно всосался в дрябло-нежную мякоть и продолжил есть на ходу, отстраняя руку, чтобы не брызнуть на костюм.
Незнакомец представлял удобное поле литературной деятельности. Хромов угадывал в нем тщеславие, волю, праздность, ограниченность, эгоизм, нежелание признавать свои ошибки… Он поместил его в комнату, оклеенную полосатыми обоями (не то голубыми, не то желтыми). В углу стоял шкаф с костями доисторических животных (как говорил Успенский: раскапывая культурный слой, всегда есть риск наткнуться на позвонок динозавра). На диване лежала раскрытая книга с цифрами вместо букв. По стенам висели картины из соломки. Сам незнакомец стоял посреди комнаты и надувал большой мяч. Хромов был абсолютно уверен, что никогда раньше его не видел, в то время как обычно, при знакомстве с новым человеком, ему казалось, что он уже где-то его встречал. Нет, это было совершенно новое, даром что ничем не замечательное, даже скорее вполне посредственное лицо, без выражения, без рисовки. И хотя здесь, на отдыхе, он уже научился ценить любого мало-мальски развязного собеседника, в незнакомце Хромов не находил ничего, что могло бы его привлечь и позабавить. Все было слишком известно, и эта вспотевшая лысина, и темные очки, и торопливая несдержанность речи, ловкие, а в сущности, суетливые жесты, провинциальная манера выставляться перед первым встречным. Соотнестись с другим всегда задача, но что, спрашивается, делать, когда другой выдумал себя от начала до конца? Эта нехитрая диалектика Хромова не пугала, но сдерживала. Многие знали, что он не только двуличен, но и вторичен. Ему не прощали оговорок, уклончивых шуток, обиняков. Обвиняли в подтасовках. Иногда он намеренно вел себя не лучшим образом, точно испытывал нового знакомого на прочность. Мастерство писателя, говорил он, определяется умением создать героя, которому читатель не захотел бы сочувствовать и сопереживать. Увы, это почти невозможно. Какого злодея, какого зануду ни выведи, какую ничтожную душонку ни опиши, читатель все равно в конце концов проникнется симпатией и с неприязнью встретит любую попытку автора избавить мир от своего злополучного создания, хотя бы отправив его в путешествие на планету в созвездии Близнецов.
21
Успенский познакомился с Авророй героически. Увлеченная блеском волн, она заплыла далеко в море и угодила в водоворот («как будто кто-то схватил меня за ноги и потянул вниз»). Случайно оказавшись на берегу, Успенский услышал вопль и, не раздумывая, кинулся на помощь. Ему удалось, ухватив за длинные волосы, вытянуть Аврору на берег, где к тому времени уже собралась толпа зрителей. Бесчувственную Аврору подхватили, понесли, какой-то щуплый, наголо бритый студент со шрамом на затылке сделал утопшей искусственное дыхание. Успенский не успел опомниться, как та, которую он только что сжимал в объятьях, стала недосягаемой. Там, где она лежала, можно было еще различить дивный, даром что затоптанный отпечаток. Быстро темнело. Ветер заполнял песком забытый лифчик купальника…. Позже, при других, не столь драматических обстоятельствах, сойдясь с Авророй, исхитрившись покорить ее своей робостью и подобострастием, он много раз порывался рассказать, что именно благодаря ему она еще дышит, ест, поливает цветы, спит, но не решался. Только после того, как она согласилась расписаться, он признался. Аврора не поверила. Произошла первая ссора. Она назвала его хвастуном и подлизой. Он не смог привести никаких убедительных доказательств. Помирились они, когда Успенский, по настоянию молодой жены, отрекся, сказав, что да, солгал – хотел выглядеть в ее прекрасных глазах героем. Аврора часто шутливо попрекала его этой небылицей, добавляя, вполне искренно, что, если бы он и вправду вытащил ее из морской пучины на берег, она бы никогда не вышла за него замуж и даже не смогла бы полюбить, поскольку нельзя же любить человека, который спас тебе жизнь! Успенскому было все равно, в конце концов, они столько лет прожили если не душа в душу, то бок о бок. История уводила его все дальше и ниже во тьму веков, от которых осталось только безъязыкое свидетельство в ломаной линии горных пород и ржавой проволоке кустарника.
С тех пор как в горах были отрыты руины древнего храма – «святилища», Успенский потерял покой, но обрел счастье, ибо что есть счастье, если не потерянный покой? Борьба статуй за место под солнцем. Постамент займет тот из богов, кто лучше других сумеет распорядиться судьбами действующих лиц и исполнителей, соединит линии так, чтоб неповадно было.
«Входя внутрь, я чувствую себя свободным и настоящим, а все, что осталось по ту сторону невидимых стен, предстает как мой же собственный вымысел, достойный иронии и сострадания. Здесь желания обретают форму женщины, которой принадлежу».
«Авроры?» – спросил Хромов. Он слушал невнимательно, думая о своем, наболевшем.
«Увы, она не понимает, не хочет понять! Впрочем, так и должно быть. Если бы женщина понимала, она бы перестала быть женщиной, превратилась в зеркало, хуже – в стеклянный шар, свивающий банальные отражения в гримасы художественного ужаса и любострастия».
Густой звон кузнечиков, прохладный ветерок, расчесывающий тяжелый зной. Синева над головой…
Обойдя широкую яму, на дне которой лежали грубо обтесанные глыбы – все, что осталось от святилища, Хромов подошел к обрыву. Скала уходила отвесно вниз, упираясь в узкий полумесяц бухты. Хромов не смог устоять, присел, осторожно заглянув через край. Далеко внизу на серой гальке лежала девушка, ничком (ему не пришлось бороться со своими чувствами), как цитата, подставляя солнцу порозовевший тыл. Хромов пожалел, что не взял бинокль. Глядя на распластанное под тяжестью солнца тельце, уменьшенное отвесным расстоянием до размеров шахматной фигурки или ручки веера, Хромов вдруг догадался, чего ему не хватало в книге, которую он никак не мог начать писать, – непосредственной натуры, притягивающей взгляд. Перенести действие из гостиной в будуар или на берег моря, что одно и то же. Мысль, которой не суждено трепетать дольше того, что ей отпущено, чтобы прийти на ум. Хромов встал, отступая от края.
«Нельзя исключить, что руины – подделка», – сказал Успенский, рассматривая найденный в траве обломок, похожий на наконечник стрелы.
Хромову представилась пустая комната, выцветшие обои, запертые окна, солнце, пыль. Пора назад. Успенский ехал на велосипеде медленно, вцепившись руками в руль, пригнувшись и напряженно глядя вперед. Вероятно, он уже сожалел, что привез Хромова на место, которое так много для него значило. Во всяком случае, Хромов, рассеянно кативший побоку, никак не выразил своего отношения к увиденному. Святилище осталось для него такой же отвлеченной идеей, какой было до того, как Успенский уговорил его посмотреть на руины. Успенский корил себя, что был недостаточно ясен в объяснениях, но он надеялся, что Хромов тот человек, который поймет его с полуслова, без дурацких вопросов.
Неблагодарное занятие посвящать в то, что ценишь, и все же трудно удержаться. Ценность собственности раскрывается по мере того, как уступаешь ее другому, вот и Аврора… Успенский еще напряженнее уставился на дорогу, бегущую через серо-желтые виноградники. Он готов был простить Хромову выражение рассеянной беспечности, если бы тот сказал сейчас хоть что-либо, а не вращал педали молча – с отсутствующим видом.
«Дочь гипнотизера», – сказал Хромов.
«Что?» – не понял Успенский.
Хромов рассмеялся:
«Так, ерунда…»
Он вдруг рванул вперед и, разогнавшись, отпустил педали.
В пустой комнате окна были заперты, нечем дышать, пыль покрывала стол, стулья, подоконник, обои выцвели настолько, что невозможно проследить орнамент, стакан воды из-под крана, запах пота, духов, платье, брошенное на пол. Сегодня весь день какой-то женообразный, подумал Хромов, полый.
22
В школе его звали Клоп. В то мерклое время он и сам считал себя самым некрасивым и неприятным человеком на свете. Каждая встреча с зеркалом была трагедией. Дичился. Злость не находила другого выхода, кроме как в сухой траве, раздирающей заплаканное лицо, в море, похожем на битое стекло, в слоновых облаках. Он научился подчинять себе не только те вещи, которые можно взять в руки, сжать, сдавить, придушить, но и вообще все, что попадает в поле зрения. Он чувствовал задатки власти в сладкой тоске, охватывающей его, когда просыпался не там, где, как помнил, укладывался спать. Его преследовали слова «пыльца», «пестик», «тычинки». В том, что мир полон богов, он убедился однажды, встретив на пустыре возле виноградников (ему было двенадцать лет, он был предоставлен самому себе) человека, одетого в черный костюм и, несмотря на жару, не снимавшего черных перчаток. У человека искрились глаза и растягивался, точно резиновый, рот. Он попросил Клопа сбегать в город за сигаретами и дал подержать большой армейский бинокль. Уже добежав до табачной лавки, Клоп понял, что сигареты можно не покупать, а деньги оставить себе. Несколько дней он не выходил из дома, боясь повстречать где-нибудь на улице человека, одетого в черный костюм. Но страх прошел: раз человек послал его за сигаретами, значит, сам по каким-то причинам не мог войти в город, значит, бояться нечего. Клоп потратил деньги, купив билет на представление заезжего гипнотизера: он давно уже засматривался на аляповатые афиши. Перед одним из своих номеров гипнотизер обратился в зал, призывая кого-нибудь из зрителей принять участие в эксперименте по чтению мыслей. Желающих не нашлось. «Что ж, – сказал гипнотизер, – придется мне самому выбрать…» Он обвел глазами притихший зал и ткнул в Клопа:
«Иди-ка сюда, малыш!»
Клоп нехотя поднялся на сцену.
«Напиши какую-нибудь мысль и спрячь в конверт!» – приказал гипнотизер, вручая опешившему Клопу листок бумаги и карандаш.
Клоп, как ему было велено, сел за столик, отгороженный от нетерпеливо щелкающего пальцами гипнотизера ширмой, и уставился на пустой листок бумаги. Его охватил ужас. Ни одной мысли не приходило в голову.
«Ну что там, поторопись! – недовольно подгонял его гипнотизер. – Ты же не хочешь сорвать мое представление! Посмотри, сколько взрослых людей тебя ждут!»
Клоп морщил лоб, сглатывал слюну, водя карандашом в воздухе, но мысль не приходила.
«Хоть что-нибудь!»
В голосе гипнотизера появились умоляющие нотки. В зале засмеялись.
Клоп наклонил голову почти к самому столу и вдруг написал: Я большой. Поскорее сунул сложенный листок в конверт.
«Наконец-то… Можешь оставить конверт у себя».
Гипнотизер прошелся взад-вперед по сцене, вытирая платком лоб.
«Наш маленький друг, – сказал он, обращаясь к залу, – не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Знаете, что он написал? Удивительно. Как только такая мысль могла прийти к нему в голову! Вы не поверите. Он написал… Он написал… – гипнотизер закрыл глаза, широко улыбаясь, – наш маленький друг написал: Меня нет! Аплодисменты!»
Зал послушно взорвался аплодисментами.
«Неправда! – закричал Клоп. Глаза его затопило слезами. – Я этого не писал».
Зал продолжал хлопать.
«Минутку, – движением руки гипнотизер восстановил тишину. – Кажется, наш молодой друг чем-то недоволен».
В наступившей тишине Клоп, вытирая кулаком слезы, повторил:
«Неправда, я не писал ничего такого…»
«Ась?»
Гипнотизер склонился, подставив ладонь к уху:
«Что ты сказал? Громче!»
«Там не это написано!» – с тупым упрямством повторил Клоп. Зал загудел.
«Наш маленький друг утверждает, – гипнотизер окинул взором мгновенно притихший зал, – что я ошибся и на листе написано совсем не то, что я прочитал…»
Он выхватил конверт из рук Клопа, разорвал и развернул листок:
«Читай!»
Клоп взглянул и похолодел. На листке было написано «меня нет».
«Каждый может убедиться, кто из нас прав!»
Гипнотизер метнул листок в зал. Сидящий в первом ряду господин с бородкой подобрал листок, прочитал, усмехнулся и передал сидящей рядом с ним даме.
Клоп хотел убежать, но гипнотизер крепко держал его пальцами за шею и отпустил только тогда, когда листок прошел по всем рядам.
«Иди, и больше мне не попадайся!»
А через несколько дней в городе произошло событие, которое в воспоминаниях Клопа соединило человека, одетого в черное, и гипнотизера. Был застрелен мэр города. Газета писала об оптическом прицеле и терялась в догадках, кому мог встать поперек дороги мэр, добрейший человек, за всю свою жизнь не сделавший никому ничего плохого… Получилось, что Клоп – единственный, кто знал убийцу в лицо. Знал, но никому ничего не сказал. Ищите, ищите! Человек в черных перчатках, хоть Клоп и обманул его с сигаретами, вызывал в нем зависть и восхищение. Средь бела дня! Не оставив никаких следов! Подозревали гипнотизера: кто его знает, зачем он к нам пожаловал… И Клоп ощутил разочарование, когда услышал, что после многочасового допроса, не обнаружив никаких улик, гипнотизера отпустили на все четыре стороны…
Ко времени знакомства с Раей он уже давно из ничтожного Клопа превратился во внушительного Циклопа. Его «управление» приносило стабильный, слегка испачканный кровью доход. Деньги стекались безропотно, припуганно. С каждым годом увеличивалось число людей, обязанных ему жизнью и благополучием. Как-то приехав в столицу по делам, он познакомился на светском рауте с Раей и впервые понял, ради чего вел опасную игру. Красота не может устоять перед силой, и наоборот. Она сказала, что мечтает «стряхнуть столичную пыль», уехать подальше от всех этих бессовестных умников и прожженных умниц, жить на берегу моря, в свое удовольствие, без свидетелей… Он окружил ее фантастической роскошью. Какие платья он ей скупал, какое белье, какие принадлежности! Самоцветы, металлы, стекло. Мягкая мебель на пружинах. Орхидеи. Духи. Картины. Она входила во вкус. Она могла многое себе позволить. Царь-девица, венец творения, предел желаний. «Управление» признало ее, не могло не признать.
После того как Рая убежала и покончила с собой (ванна, оголенный ток), Циклоп внешне сохранил все свои жизненные привычки и деловую хватку, но время перестало забегать в будущее, остановившись на настоящем. «Другой такой не будет», – убеждала его каждая новая наложница, умная, глупая, тонкая, толстая. Когда время замирает, душа теряет покой. Рая унесла с собой все, что было незыблемого в его жизни. Циклоп почувствовал то, что так часто чувствовал в детстве: он один, в мире без стен, без пола, без потолка. Он стал патологически прозорлив. Все, до чего он дотрагивался, не имело содержания. Как месяц на ущербе, переходящий из облака в облако, он переворачивал пустые страницы. Он ощущал себя механизмом, воспроизводящим себя в бесконечном ряду копий. Один только раз он видел ее во сне: розовая каемка заплаканных, точно затянутых плесенью глаз, опухшая, раздутая щека («зуб нарывает»), шрам от выдавленного прыща на подбородке, замазанная йодом ссадина на лбу, пластырь на запястье («порезалась»), царапина на шее. Она слегка прихрамывала и сморкалась в большой, мятый платок («течет»), прикладывала ладонь к уху («звенит»). Сказала, что с утра у нее болит живот, развела какой-то красный порошок в чашке. Потом стала показывать вещи, оставшиеся от бабушки и дедушки: деревянную маску, покрытую смуглым лаком, с темными узкими прорезями для глаз и рта, ремень, дверную ручку с медными шишечками… Он впервые испытал страх за свою жизнь. Власть, которую прежде считал само собой разумеющейся, утратила очевидность. Его стало удивлять, что столько людей готовы выполнять то, что он им приказывает, покорно несут дань, даже погибают ради его выгоды. Невозможно понять, о чем думает шофер, несущий его по шоссе мимо виноградников, о чем думает девица, когда по его приказу заголяет зад, о чем думает телохранитель, расхаживающий целый день у ворот. Его стала пугать эта податливость, отсутствие какого бы то ни было сопротивления. Он вязнул, барахтался, тонул. Что если все они – части машины, созданной только для того, чтобы его раздавить, как – клопа?.. В последнее время стали происходить странные вещи. Все говорило о том, что в городе у него появился сильный, безжалостный враг. Люди Циклопа гибли, то и дело происходили мелкие стычки, а ведь еще недавно казалось, что соперники уничтожены: винный завод, санаторий, городской пляж, «Наяда», «Тритон», все вошло в его «управление»…
Минуло пять, нет, уже шесть лет, и она стала возвращаться. Вначале подкидывала свои вещи, потом явилась сама. Он ехал в машине, направляясь в редакцию газеты, чтобы лично разобраться с зарвавшимся редактором. И она была рядом с ним – шелест платья, запах духов, он боялся пошевелиться, чтобы не рассеять ее. И сегодня ночью, когда он зашел в гостиную, она сидела на диване, листая журнал, покачивая ногой, почему-то забинтованной. Он не посмел с ней заговорить, только стоял и смотрел.
Он не стал рассказывать об этом Тропинину, что-то удержало его. Но, покончив с делами, как бы между прочим, в продолжение какого-то давнего разговора, спросил, не видел ли тот Розу (что подруга Раи приехала со своим мужем, известным писателем, ему своевременно донесли). Вопрос удивил Тропинина.
«Она сейчас здесь, в гостинице, – сказал он. – Больна, не выходит».
«Ты ее видел?»
Как обычно у себя дома, Циклоп был совершенно голый. Его мягкое безволосое туловище напоминало вываленное в муке тесто, со множеством тонких, расходящихся складок вокруг отдельно круглящегося живота с глубокой лункой пупка. Чем бесформеннее становилось его туловище, тем большей любовью, замешанной на любопытстве, Циклоп к нему проникался. Как и прежде, он не терпел зеркал. Вместо того чтобы осматривать прущую из холодной пустоты тушу, он предпочитал себя ощупывать, перебирать дряблые мышцы, мять обвисшие груди, оттягивать щипками тонкую, легко тянущуюся кожу. Даже разговаривая с Тропининым, он не переставал одной рукой поглаживать сморщенную подмышку, а другой с ласковой машинальностью теребить крохотные причиндалы, изящную розовую бирюльку, которую никто бы не посмел назвать детородным органом.