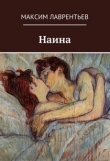Текст книги "Дочь гипнотизера. Поле боя. Тройной прыжок"
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Мы не имели случая встретиться раньше, – сказал управляющий, обращаясь ко мне, – о чем я теперь искренно сожалею. Но я о вас многое знаю, мне докладывали о вашей добросовестной работе, ваше усердие, прилежание, самоотверженность не прошли незамеченными, хотя и не были оценены по заслугам, тут уж мы все перед вами в долгу, но, смею вас уверить, вы всегда у нас были на особом счету… Все же вас, наверно, удивляет, почему я решил обратиться именно к вам… В наше время нелегко найти порядочного человека… Я попал в неприятную проделку… В беду, если угодно… Долго объяснять… Скажу без обиняков… Конкуренты, завистники, проще говоря, враги хотят меня устранить, физически… Им не довольно того, что я унижен, подавлен, поражен, что производство остановлено, колеса не вращаются… Даже если я пойду на все их условия, а я знать не знаю, что это за условия, они успокоятся только тогда, когда меня уничтожат. Тут уже никакого практического смысла, принцип удовольствия. Только одно может меня спасти… Я должен у вас переночевать, в безопасности, а завтра спозаранок проберусь к начальству и попытаюсь перехватить инициативу… Я хотел первым нанести удар, но не получилось, промахнулся, не того прихлопнул, подставное лицо… Они окружили меня подставными лицами… Охрану скупили оптом… Девочки разбежались кто в чем был…
Рассказ управляющего произвел странное впечатление на нашего соседа. Глаза залоснились, по лицу, как по натертому воском паркету, прошмыгнуло довольство невезучего человека, которому вдруг подфартило, мелко, некрасиво, подло. Прежде трусливый и грустный, он бы теперь перегрыз горло всякому, кто встал бы на его пути. Зря, что ли, я всю жизнь тянул лямку, горбатился? Он впопыхах спихнул на пол рюмку и, тщетно пытаясь убрать жирную гримасу радости, пятясь к двери, забормотал, что ему пора, пора, давно пора домой, он устал, устал, засиделся, хочет спать, завтра много работы, не обессудьте, прощайте, прощайте…
После его ухода мы долго сидели молча, я, хозяйка, управляющий, прихлебывая чай, прислушиваясь к тиканью часов, жужжанию лампы, потрескиванию половиц, приходящих в себя после удаления подвыпившего соседа. Каждый был погружен в свои мысли, которые вряд ли пересекались. Я вспоминал серые в черных ресницах глаза, оторванные руки, ноги.
– Ну что же, и нам пора на боковую, вам завтра рано вставать, – сказала наконец Анна Леонидовна, складывая нитки в коробку. – Я вам постелю здесь, на диване.
Укладываясь спать, я нашел под подушкой, между матрасом и спинкой кровати, маленькую розовую расческу, которая, пополнив коллекцию полунамеков, еще долго не давала мне уснуть, пробирая тонкими зубьями: «чеши, чеши, чеши…» – а когда я проснулся, точно после продолжительной и опасной операции, за окном было пасмурно, по рельсам, забитым полынью и чертополохом, моросил дождь, я с трудом разглядел на часах половину десятого.
В гостиной было темно и пугающе тихо. В желтоватом сетчатом сумраке поблескивал золотыми гранями стакан на столе. Тут же лежал перочинный нож, испачканный в томатном соусе. Продребезжало стекло вслед отъезжающей машине. Хрустнула под каблуком раздавленная рюмка. Желудок отозвался робким бурчанием. Волосы зашевелились за ушами.
Большой черный диван был пуст. Одеяло сбилось в башню. Грушин лежал на полу, навзничь, по-лягушачьи согнув ноги под голым пузом. Из оскаленного рта свесился черный язык. Выпученный глаз был похож на вишню. Я бы не узнал Грушина, управляющего заводом, если бы на его месте мог лежать кто-либо другой.
Признаюсь, я впервые видел такую грубую смерть воочию. Как известно, на поле боя не умирают, а приобщаются к бессмертию, получив повестку на пир богов. Даже карикатурный урод, павший в бою, становится писаным красавцем. Павшие в бою на одно лицо. Нечему удивляться и не на кого обижаться. Здесь же, в городе, я стоял над безжизненным телом, бесшумно истекающим, в ужасе и недоумении. Я не испытывал к зарезанному Грушину ни сострадания, ни отвращения. Да и где он сейчас, этот самый Грушин, на какой ветке, в какой норе? Я смотрел на его труп, как на инструмент моей злосчастной судьбы. И чем дольше я на него смотрел, а смотрел я не на него, а по сторонам, подмечая то стакан, то портфель, то коробку с цветными нитками, и это дольше в общей сложности продолжалось не дольше двух-трех минут, тем ближе я подходил к пониманию того, что подозрение в первую очередь падет на меня и я не сумею найти для себя убедительных оправданий. Убийство было подстроено в расчете на халатность следствия и предвзятость суда. Я легко укладывался в схему заурядного преступления. Я был одинок, беспомощен, несчастлив.
Я схватил портфель цвета копченой селедки, раскрыл, но внутри оказалась всякая дрянь – рваная оберточная бумага, грязная вата, пустая бутылка. Из чего следовало, что мне должно немедля уносить ноги, сматывать удочки.
Но, прежде чем удалиться быстрым шагом, возмущая сапогами радужные лужи, – руки в карманах, воротник шинели приподнят к ушам, поля шляпы опущены на глаза, розовый платок закрывает роток, – я позвонил в дверь соседа по лестничной клетке. Царапнула надежда, а ну как ему что-нибудь известно и он сможет мне объяснить, растолкует, выведет из затруднения. От битвы осталась сухая ботва. Гул канонады сжался в комариный писк. Тянется запах.
Дверь открыла какая-то тетеря в халате, с подвязанной щекой.
– Дормидонт? Да уж неделя, как съехал… И не заплатил, гаденыш…
В который раз с горькой усмешечкой я осознал, что нахожусь в глубоком тылу и без всякой надежды вновь попасть на передовую. Дождь кончился, но солнце не воссияло.
Я дошел до щербатого угла кирпичного дома, обогнул помойный бак с приставленным к нему трехногим стулом, завернул в узкий проход, охраняемый арбузной коркой, слева – ряд низких окон в решетках, кукла на подоконнике между темным стеклом и тюлевой занавеской, стопка книг, микроскоп, справа – ограда, торчащая вверх чугунными пиками с прихотливыми завитками, за которой внизу дворик, выложенный красной плиткой, деревья в кадках, несколько женщин в одинаковых желтых платьях сидят на скамейке, в нише большая глиняная ваза, плющ взбирается по стенам, тихо журчит вода. По крутым ступеням я спустился на улицу, прямо к дому с двумя балконами и заколоченной накрест дверью. Показался магазин «Бумага и перья», на пороге стоял человек с обритой головой, дальше – два дома в обнимку, нырнул под арку, темную и сырую, чуть не упал в глубокий ров, идущий вдоль улицы, на дне в воде черные трубы, через ров перекинуты деревянные мостки. Высокая сетка окружает пустую площадку, провода протянуты наискосок, опять моросит.
– Откуда у тебя эта шляпа?
Вася Тарарыкин, друг моей юности, маленького росточка, светловолосый, с рыжеватой бородкой, в очках, помог мне освободиться от намокшей шинели и, подергивая пальцы, смущенно, смотрел, как я стаскиваю сапоги. Хотел помочь, да не помог, и впрямь, давненько не виделись.
– Как тебе нравятся мои апартаменты?
Фисташковый пол, канареечные стены. В рамках горностаевые фотографии барышень в неудобных положениях. Маленькая, хрупкая, шаткая мебель.
– Присаживайся.
Лампа светит матово.
– И все-таки я часто вздыхаю по той квартирке на пятом этаже, помнишь, где мы выпили столько стаканов жидкого чая, выкурили столько папирос, обсудили столько вечных вопросов? А помнишь качающийся стол, чашку с васильком, занавески какого-то буро-красного цвета, матрас, на котором ты, кажется, впервые познал все подвохи любви, пока я просиживал в библиотеке, зевая над Шпетом… Как ее звали – Лиза, Маша, Зина? Впрочем, я редко теперь ночую дома, одна хористка помогает мне уснуть, у нее проблемы со зрением, Но какие ляжки, ты бы видел!..
Тарарыкин работал корреспондентом в газете и при этом был похож на человека, которого однажды и навсегда сбили с толку, рассредоточили. В период инфантильных вылазок и ювенальных мытарств я был для него если не образцом, то уж, во всяком случае, примером для подражания. Я умел внушить ему свое превосходство, а Вася привык полагаться на мой расчет. Ему удобнее было идти по моей указке, особенно в темные, дождливые, осенние вечера, нежели по своему почину срывать засов с двери и залезать на чердак. Вряд ли я ошибался, полагая, что он до сих пор сохранил на дне души, как осколок зеркала, это расположение к подражанию. Мое неожиданное появление должно было пробудить в нем чувство признательности. С одной стороны, он мог убедиться, что в итоге меня превзошел: пока я терял дни на поле боя, в грязи и пламени, он всходил по лесенке, совершенствуя мозг и упражняясь в любви. Теперь уже он мог оказать мне покровительство, помочь, вытащить из беды. С другой стороны, с тех пор как мы расстались, случайно, бессознательно, ему наверняка не хватало человека, на которого он мог опереться, переложить ответственность. И хотя он много потрудился, чтобы зашторить эту нехватку, довести ее до женских пропорций (вот они – фотографии на стенах), все-таки моя незваная особа должна была мгновенно воспроизвести в нем конфигурацию отживших страхов и вернуть надежду на избавление от них. Бывает так приятно течь по старому руслу и вращать жернова мельницы, которая давно уже ничего не мелет. Я давал ему случай замкнуть оба направления – легкой удачи и невыносимой зависимости.
– Ну, рассказывай.
Он озабоченно взглянул на часы и осторожно опустился в маленькое кресло на тонких ножках.
– Прямо с линии фронта? Таких, как ты, сейчас много в городе…
Я торопливо развернул канву своих злоключений. Он слушал с недоверчивым сочувствием, пощипывая лишнюю на лице бородку, кивая невпопад головой и поправляя сползающие очки. Под конец, когда я все чаще и чаще терял нить повествования, он насупился, надувая щеки, встал, прошелся по комнате, сел и – вдруг рассмеялся совершенно беззаботно.
Я уставился на него, как на идиота.
– Извини, – сказал он, улыбаясь, – я вспомнил, как мы с тобой искали в парке сокровища и нашли в овраге, под прелой листвой, одноногий манекен, у которого из всех дыр текла вода.
Раздался телефонный звонок. Тарарыкин, пройдя в соседнюю комнату, поднял трубку.
– Мне надо бежать, – сказал он, вернувшись. – Всучили срочное задание… Солдат, вроде тебя, укокошил управляющего крупным оборонным предприятием, надо сгонять на место, пронюхать, пока не выветрилось, расспросить… Дождь кончился?.. Вообще-то я не занимаюсь уголовной хроникой. По этой части у нас Сашка Гмырин дока, но он сейчас, как нарочно, болен, лихорадка, лежит пластом. Я сам в отделе искусств подвизаюсь – гастроли, премьеры, фестивали.
Он вдруг засуетился:
– Ты, должно быть, голоден, не стесняйся, холодильник битком, чего хочешь, свиные отбивные, куриные грудки, утиный паштет. Не стесняйся. А я уж побегу. В наше время главное – поспеть. Завтра еще всласть поговорим, нам есть что вспомнить…
Я и не думал, что в ближайшие часы меня ждет участь какого-то Гмырина. Как только Тарарыкин, путаясь в реверансах, наконец ушел по заданию, я почувствовал настоящее бурление, влажный подвижный жар, вскипающий ужас, тяжелый пар, я еле-еле дополз до – не знаю, до чего я дополз, меня бросало из стороны в сторону, слева направо. Маша в зеленом платье и желтых чулках ходила под именем «какофония». Я прикрывал мятой газетой незаживающую рану. Поезд увозил нас, уложенных и сплоченных, в район боевых действий. Мы смотрели в щели на убегающие поселки, поля, перелески. Всего не расскажешь.
Очнулся я на железной кровати, под суконным одеяльцем, у бугристой стены, в длинном коридоре, в больнице. Мимо меня сновали врачи, что-то бурча себе под нос, в бороду, записывая в блокноты, расходились по палатам, не обращая на меня внимания. Я не представлял научного интереса, банальный случай. Само заживет. Туда и обратно проплывали медсестры, все как на подбор, высокие, грудастые, в очках, таинственно шелестя и поскрипывая (что за амуниция у них там, под халатами, диву даешься). Они не только не смотрели в мою сторону, но даже и не отворачивались. О лекарствах я мог только мечтать. Добрая старушка, уборщица, приносила мне в трясущемся кулаке слипшуюся горсть разноцветных таблеток: «Кушай, сердешный». Да иногда парень с распухшим прыщавым лицом, прислонив костыли, садился на край моей кровати и молча ковырял спичкой в зубах. Хоть бы Зинаида пришла, думал я, но нет, не приходила, обидел я ее чем-то…
Удивительно, что они еще и не соглашались меня выписать. «Мы не можем поручиться за ваш подорванный организм» – так мне сказали в регистратуре. Впрочем, когда я однажды утром собрал под кроватью свои манатки, набросил шинель и, пошатываясь, вышел из больницы, никто не удосужился меня остановить, удержать, предостеречь…
За время моего отсутствия даты так основательно перемешались у меня в голове, что даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу с уверенностью сказать, что было вчера, а что будет завтра. Поэтому то, что маленький анекдотец, которым я хотел бы заключить свой рассказ, не имеет подходящего места в моей жизни после битвы и вообще как будто не укладывается во времени, вовсе не значит, что я его выдумал с начала до конца на потеху публике.
Железная лестница, изломанная между площадками битого, хрустящего под сапогами кафеля, гулко громыхала в темном колодце лепящихся квартир. То справа, то слева неожиданно распахивались провалы с наклонно простертыми улицами и веером крыш, деревья тянули сучья, испачканные бурой листвой, мглистые тучи наплывали откуда-то сбоку, студеной сыростью бил порывистый ветер, рука в ужасе хваталась за острую ленту вихляющих перил, каблук скользил по накрену ступеней…
Сразу за дверью, ободранной, хлипкой, висела маленькая кособокая комната, в которой уместились и кровать, и круглый стол в углу, и шкафы, и раковина умывальника, и газовая плита, ни повернуться, ни передохнуть, сесть пришлось вплотную, уткнувшись коленями под скатертью.
– Как тебе удалось меня найти?
Лиза ласково сощурилась, поглаживая свой необъятный живот круговыми движениями. Жуткое оранжевое платье липло к ней, собранное под грудью, похожее на ночную рубашку.
– Я не искал.
На столе, задвинутом в угол, на скатерти в пятнах – лоскуток, катушка, иголки, очки в толстой оправе. На коричневом покрывале низкой кровати глубокая вмятина. Окно сплошь затянуто рыженькой занавеской. Лампа светит янтарными волнами, расползаясь по стенам шафрановой рябью, потолок сонно колышется. Обступают шкафы со множеством выдвижных ящиков, как в библиотеке. На краю раковины с грязной посудой висит зеленая резиновая перчатка. На полочке под рукой рулон туалетной бумаги.
«Что все это значит?» – вертится вопрос, как волос на языке.
Мне вдруг представилось, что я барахтаюсь в большом сачке лжи, в этой мягкой воронке из грязной марли, глупый мотылек, треплющий крылышки.
Вновь перед глазами, как встарь, замаячила бурая неровная равнина под серым неровным небом, взрывы, крики, лужи крови, пустые ржавые ведра рядком вдоль окопа…
– Что Островский?
Она встретила вопрос настороженно, покусывая горчичные губы, помолчала, неуверенно взвешивая.
– Его в тот же день зарубил неприятель. А я вот теперь ему произвожу потомство. От боевых схваток к родовым.
Из дыры мохнатого тапочка лезет, как подосиновик, большой палец с накрашенным ногтем.
Чем отчетливее я припоминал поле боя, тем меньше у меня оставалось шансов вернуться в будущее хотя бы для того, чтобы поцеловать Лизу в узкий вырез. Лиза отбрасывала меня назад, в дым и грязь, время уходило у меня из-под ног, как шаткая лестница, я цеплялся за край поля боя, картонный, намокший, расползающийся в клочья.
Она провела ребром ладони по скатерти, сгребая сухие крошки, бросила на пол. Пронзила задумчиво длинной иглой катушку с красными нитками.
– Видишь, я совсем беспомощна. Некому слова сказать, все одна да одна. Родители от меня отказались, я не оправдала их ожиданий. Продаю помаленьку, что осталось от Яшеньки, тем и перебиваюсь. Он был такой добрый, доверчивый, мне во всем потакал, рискуя жизнью. А как он любил! В наши нахрапистые времена уже так не любят, прихотливо, вкрадчиво.
И опять – выстрелы, выстрелы, выстрелы…
Я бросился к окну через удерживающее меня движение Лизы, откинул занавеску, но получил в лицо лишь глянцевую черноту, по которой расплылось пористым блином пятно, пялящее на меня мои же глаза. Как быстро поднялась ночь! Сконфуженный, я опять забился в угол и принялся рассказывать ей срывающимся голосом о пяти стогах сена, о Зинаиде, о солдатиках, о перочинном ноже…
– Ты ведь, Витек, не думал встретить меня опять? – перебила Лиза, кокетливо пихнув надутым животом.
И тут же призналась, что пишет стихи, на туалетной бумаге, что-то длинное-длинное со случайными женскими рифмами на -ала, -ила.
– И знаешь, сколько мне заплатили за описание ваших подвигов? На это не проживешь и одного дня!
Пышет жаром откуда-то снизу, из-под стола, из тьмы, как батарея парового отопления.
– Бедный, ты, наверно, весь изранен, изувечен. – Она осторожно дотронулась до моей тужурки. – Голоден?
Тяжело вскарабкалась на стул и сняла со шкафа картонную коробку с какими-то стеклянными банками, промасленными кульками, свертками.
И хотелось рассказывать незнакомцу в холодном трясущемся поезде, закрывшемуся газетой: «…И на попе у нее сквозила печать лукавства…»
За шкафом неприметно белела дверь в соседнюю комнату. Во время нашего бестолкового разговора Лиза тревожно туда поглядывала, так что у меня появилось подозрение, уж не хоронится ли кто там?.. Я заразился ее беспокойством и напряженно перебирал, кто из моих встречных-поперечных мог бы сейчас распахнуть дверь и войти, прервав нашу беседу, кто подслушивает, затаившись, сжимая кулаки, скрипя зубами?..
Пропуская мимо ушей ее журчание, я считал, сбиваясь со счета, загибая воображаемые пальцы, и получалось, что прошло не больше трех месяцев с тех пор, как я ее видел в последний раз в автомобиле, застрявшем среди свекольных грядок. Когда же она успела так раздаться? Вот незадача! Что-то смешалось в моих перипетиях и перпетуях. Я уже предвидел с содроганием мочевого пузыря, что сегодня ночью в моем беспокойном сне эта неприметная белая дверь с шумом распахнется и в комнату решительно войдет человек в цивильном костюме, с гладко выбритым лицом несколько обезьяньего типа, подзабытый, в очках. Так вот чем он занимался там, на поле боя, отсиживаясь в воронке, пока мы шли напролом!.. И все, что я так долго и трудно вынашивал – битва, история, подвиги, приказы, выстрелы, – жахнет во тьму беспамятства, как риторический хлам, по буквам, разлетится, рассеется и – не о чем мне будет рассказывать вам, господа.
– Останься со мной, – виноватая детская улыбка скользнула вымученно с увядших горчичных губ и прорезала щеку тонкой морщинкой. Влажно блеснул припухший серп нижнего века, дрогнул, встрепенулся.
– Не могу.
– Не хочешь? – вздохнула она машинально и, раздвинув колени, придерживая живот, полезла куда-то под скатерть, в темноту, достала мешочек, как оказалось – с трофеями.
– Хотя бы возьми что-нибудь с собой на память…
И до сей поры меня не отпускает скорбное выражение ее маленькой лживой руки.
Тройной прыжок
(Повесть)
Глава первая
У меня большие планы на будущее. Я не шучу. Но, чтобы исполнить задуманное, я должен удалиться, уступить место другому – тому, кого не пугают обещания, кто готов побираться здесь, сейчас, среди разрозненных, неживых вещей, вызванных будто наугад, по наитию, искать то, что когда-то имел и потерял без сожаления, без вопросов.
Взгляните на грязные мраморные плиты, заплеванные, загаженные, на неказистый выводок лжеколонн, узкие ниши с пивными бутылками и горками окурков, кожаные, грубо исполосованные кресла, разбитые окна, заделанные фанерой, стопки старых книг, газет, журналов, перетянутые веревками, розово тлеющие кружева люстры, темные коридоры, внезапные зеркала, рыгающие трубы и сопливые краны, обрывки оберточной бумаги, опилки, одичание, запустение…
Промозглый сумрак огромного вестибюля, все эти разрозненные, неживые вещи, названные как будто наугад, поломанные стулья, ящики, шкафы, обманчивое повторение того, что уже было однажды, шляпы, бусы, перчатки – на какое-то время его обескуражили, как если бы он не знал заранее, что возвращение его на круги, на ступени, будет обставлено подобным образом, подобным, подобным, подобным… Подобным тому, как был обставлен его уход, вернее – бегство, удирание, выдирание, когда он, Лавров Геннадий, наскоро собрав свои пожитки, навсегда покинул стены, усеянные, точно сыпью, художественной мозаикой. И хотя сейчас, насколько проникал взор, не было вокруг ничего такого, чего бы он не видел раньше, в более счастливые часы, он осваивался с опаской, ожидая подвоха даже от лежащего поперек пути старого веника. Будто и не было этих пяти лет на стороне, промотанных, протравленных, – мнится, еще вчера, подвыпив, проходил он этим коридором с тускло горящей лампой на столе отсутствующего по причине болезни вахтера, спускался по лестнице, задевал этот угол, открывал ту дверь, спотыкался на том пороге.
Он не желал признавать, что все здесь то да не то, сдвинуто на край, подрисовано. Старался не замечать новых, явившихся, пока его не было, вещей, которым не находил назначения. Вот этот железный куб с резиновым шлангом или эти спицы, скрепленные кожаным ремнем, эти цепи, свисающие с потолка, – чему они служат? В некоторых местах, чтобы пройти, нужно раздвинуть тяжелые буро-зеленые шторы, обдающие пылью и затхлостью. Пригибаться. Просачиваться.
Как и прежде, ему нравились плоские аллегории, смутно мерцавшие на высоких серых стенах: въевшиеся на века – Судьба и Случай, Любовь и Смерть, Сила и Лень. Приятно походя проводить ладонью по вмурованным желтым, зеленым черепкам, по красным стеклышкам, по вкраплениям розового и голубого.
Лавров понимал, что никто его здесь не ждет, никому он здесь не нужен, а все-таки было обидно, что не выходят навстречу, то ли затаившись в сговоре, то ли прозябая в безразличии. Забыли! А ведь пять лет назад любой почел бы за честь повесить Лаврову на шею лавровый венок. Где все эти охрипшие, отбившие ладони прихлебатели? Неужели напрасно он срывал листки календаря, со дня на день откладывая возвращение? А ну как игра закончится, не начавшись?
Сейчас он был как та женщина, которая, проведя мучительный день у зеркала, снимая и надевая очки, меняя черный бюстгальтер на бордовый и вновь заправляясь в черный, перепробовав на губах все цвета радуги, приходит на свидание у фонтана, сухого, загаженного, чтобы получить от своего юного поклонника, сына подруги, вместо хрустящего букета роз – поникшую прядку мимозы, наверно, купленную впопыхах в переходе у пьяной старухи в пальто и резиновых сапогах.
А еще он был похож на человека, который, спеша по делам, вдруг, замечтавшись, останавливается у лотка и приценивается к маленьким, бурым грушам.
И уж, конечно, само собой напрашивалось сравнение с путешественником, который еще только начал укладывать чемоданы – не забыть ракетку для пинг-понга, ручную кофемолку, эспандер – а в мечтах уже бродит по незнакомому городу, осматривает мосты, башни, статуи, обедает в уютном ресторане на берегу моря, находит обугленные руины оперного театра (в поезде из газеты узнал о пожаре), заглядывает в картинную галерею со странным названием «Последний день Помпеи», знакомится с девочкой, хромой, косоглазой, трогательно прыщавой, приводит в гостиницу, дарит деревянную куклу (не забыть положить!), целует, балует…
Горестно вздохнув, Лавров оторвал взгляд от тлеющей на мглистой высоте люстры и, пнув подвернувшийся теннисный мяч, продолжил путь. Явившись незваным, он не мог рассчитывать на снисхождение. Оставалось, пятясь в прошлое, демонстрировать послушание, вновь завоевывать доверие, отражаясь в бессонных глазах.
Вот почему он не осмелился взойти вверх по широкой лестнице, покрытой протертым, грязным ковром, а свернул налево, скользнул мимо фосфоресцирующей поганки на столе у хронически отсутствующего вахтера, мимо пронумерованных деревянных ящиков, каких-то дверей, уборной, зала для игры в мяч, спустился по узким ступенькам, отодвинул занавес на железных кольцах и очутился там, где и должен был очутиться, проделав проделанный путь – в плавательном бассейне.
Это было небольшое сумеречное помещение, обнесенное бетонными стенами. Здесь всегда стояла промозглая сырость. Пахло плесенью и прокисшими овощами. С низкого потолка на проводах спускались лампочки в жестяных колпаках. Свет умирал в тусклых отблесках мутных отражений. Звуки разбегались гулкими воплями. Бассейн был известной квадратной формы, примерно двадцать на двадцать шагов, облицованный пожелтевшим кафелем. Справа накренилась башенка для прыжков в воду, слева неровными рядами громоздилась трибуна, сколоченная из досок. На дальней стене рисовались две двери, ведущие в раздевалки, женскую и мужскую.
Одна дверь, поменьше, была неряшливо обита узорчатой, но сильно уже почерневшей клеенкой, точно когтями продранной в нескольких местах. Другая, пошире, замалевана темно-рыжей краской, сильно облупившейся, вместо ручки вбит большой загнутый гвоздь. Но вот что странно: Лавров напрочь позабыл, в какую дверь мужчинам вход запрещен.
Подойдя к скользкому краю бассейна, он смотрел на зыбь, затянутую жирными пятнами, размокшими окурками, щепочками, волосами, как будто за прошедшие пять лет здесь ни разу не меняли воду. Удивительно, что в этом отстойнике до сих пор не завелось флоры и фауны! Невольно вспомнилась уборщица Клавдия Моисеевна, в тот роковой день ползавшая по дну с тряпочкой в руке.
Эта бедная хлябь почему же так манит пловца? Не потому ли, что от нее несет вседозволенностью, можно подумать, что здесь, в этом дрянном водоемчике, предназначенном для спортивных состязаний низкого пошиба, накануне резвились двуполые Боги. И эти брызги – они еще дрожат золотом и пурпуром на стеклянных переборках его, припозднившегося Лаврова, души. Остаться на берегу, не поддаться, дозволено только неживому предмету, пропотевшей вещице, вроде рубахи, штанов, пиджака, башмаков.
Хотя плавание не было его гордостью и даже не влекло в качестве здоровой забавы, Лавров, после недолгих сомнений, решил, будь что будет, окунуться для начала, войти, так сказать, в среду. Может быть, ссылаясь на якобы присущие ему повадки пловца, он хотел лишь унять бессознательный жар, которого тщился не замечать, приписывая свое внутреннее состояние внешнему воздействию, мол, не жар, а жара.
С некоторых пор один вид воды, пусть несвежей, тянул его искупаться, залезть по шею, погрузиться, всплеснуть. Только изведав Лаврова, дочитав до конца, можно было, не впадая в литературу, оправдать нырок в мутный водоем. Что ж, отдадим его без предубеждения серым жирным волнам, качающим дряблое тело, обнимающим его и выталкивающим, постепенно сглаживаясь, пропадая…
Только б не захлебнуться с непривычки, думал между тем Лавров, с удивлением не доставая пяткой до дна, казавшегося сверху, сквозь воду, таким близким. Воды было слишком много на одного, вода была теплой, солоноватой и неприятно пахла. Требовалась врожденная выдержка, чтобы невозмутимо качаться на липнущей к коже поверхности и не затонуть с досады. Утешали гулкие отголоски тяжелого плеска и волшебная игра световых пятен, многолико отраженных на потолке и по стенам. Лавров размечтался, плывя навзничь, отгоняя ладонью приблудную волну. Он уже не раскаивался в том, что бросил все (ничего) и вернулся сюда (никуда), быть может, насовсем. Ему было легко и не больно, как будто мир стал одной сплошной отдушиной. Лавров даже позволил себе рассмеяться, заметив, как оттопырились у него трусы. Если бы она видела его в эту минуту, да где уж там!
«Барахтаешься?»
От неожиданности Лавров перевернулся, бултыхнувшись, глотнул воды, но не захлебнулся и, едва сдерживая тошноту, чудом восстановил равновесие, отпихивая ногами бездну, хлопая обеими руками по вскипевшим волнам…
Сквозь дерюгу брызг увидел он возле башенки для прыжков толстого человека в мешковатом зеленом костюме и тотчас узнал, смиряя переполох волн, ну конечно, кому как не ему быть первым встречным-поперечным в этой топкой западне.
«Как ты можешь, в таком болоте!..» – брезгливо сказал Лобов, ибо это был он.
Лавров виновато выбрался из бассейна, одной рукой хватаясь за ржавые поручни, другой подтягивая набрякшие трусы. Он уже успел заметить, что не один Лобов наблюдает за его заплывом. Две выпукло-стройные фигурки в бикини примостились на дощатой трибуне. Напрашивалось слово «занозы».
«Что еще за нимфодоры?» – спросил Лавров. Вода стекала с него грязными ручейками. После парной мути его пробирал озноб.
«Лучше не спрашивай, шустрые душки, успеешь ошалеть и проволочиться…» – пробормотал шипяще Лобов.
«Ты не торопишься? – перебил его Лавров. – Схожу в душ…»
Взяв в охапку одежду, черный пиджак, черные штаны, желтую рубаху, желтые ботинки, стуча зубами, выронив галстук, он поспешил к раздевалке, прочь от недруга, прочь от знойных фигурок, пришпиленных с краю засаленных вод.
«Угораздило с первых шагов пойти на попятную!» – сокрушался он, ткнувшись в дверь, выкрашенную охрой.
Но дверь была заперта.
Глава вторая
«Ну а ты как жил все эти весны и осени?»
«Да никак, прозябал, перебивался. Думал в два счета привыкну к новому расписанию, ан нет – душа не на месте, сон нейдет. Разве мог я предугадать, что мои робкие попытки сделаться обыкновенным, заводным человеком спишут на самонадеянность, но куда бы я ни просовывал свою башку, меня, в лучшем случае, брили наголо, а чаще просили подождать, пока сбегают за топором („в сарае, за поленницей, обернутый в рогожку“). Одна дама в отделе кадров вообразила, что я – старое драповое пальто, которое должно висеть на деревянной вешалке в прихожей при погашенном свете. По пальцам могу перечислить тех, кто принял меня за нечто большее, нежели испорченный будильник, без стрелок, без пружины, без звона. Я жил безболезненно, но под большим вопросом, как разменная монета. Порой казалось, что меня составили из нескольких частей, назвали глидерманом и пустили пресмыкаться, мол, не зевай, действуй, принимай участие… Выяснилось, что я не осведомлен в том, что общеизвестно, на чем держится мир. Мне достались обрезки образцов, беззубые забавы, тоскливые сетования, комната в конце коридора, глаза, уши…»
«А Лиля?»
«Я ей благодарен, но она, сам знаешь, далеко не та, которая… Давай, не будем об этом. Лучше скажи, пока я одевался, куда подевались прелестные девы?.. – Лавров рыскал глазами по кисельно-мутной поверхности. – Что-то не видать брызг и фонтанов!»