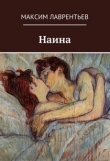Текст книги "Дочь гипнотизера. Поле боя. Тройной прыжок"
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Но Лобов был не расположен к легкомыслию:
«Пойдем отсюда!»
Отмахнув сырой, пахнущий плесенью занавес, они поднялись по лестнице, пошли по темным переходам, через спортивные залы, нигде не задерживаясь. То плелись по пыльному ковру, то стучали каблуками по каменным плитам, скрипели половицами, скользили по линолеуму, мимо зеркал, шкафов, столов, стульев. Выкурив сигарету, Лобов бросал ее на пол и давил подошвой с таким удовольствием, точно она была живая. Ботинки у него были большие, на толстой подошве. Лавров осматривался. Зайдя в туалет, отвернул кран и, ностальгируя, долго пил, черпая кислую струю ладонью.
Хмуро молчавший Лобов наконец не утерпел:
«Зачем ты здесь? Вернее, что ты здесь забыл?»
Они пробирались через кладовую, набитую матами, гимнастическими снарядами, мячами, штангами, битами и прочим, пережившим свой век, инвентарем.
«Хочу вернуться в спорт!» – твердо сказал Лавров, шлепнув большую кожаную грушу с ощеренным швом.
«Хочешь? Но ведь его уже нет, твоего спорта!»
Лобов был рад, что сразу сразил собеседника наповал. Шаг за шагом он набирался сознанием своего запоздалого превосходства, ведь теперь ему было известно многое из того, о чем Лавров, отставший от жизни, даже не догадывался. Лобов полностью владел обстановкой, по своему выбору мог об одном – проболтаться, про другое – умолчать. Ложь была на его стороне. Он даже позволил себе пококетничать, признавшись со вздохом:
«Я нынче тренирую от случая к случаю, на подхвате, так сказать, извожусь по мелочам, а чаще – околачиваюсь без дела, в надежде, что подвернется какая-нибудь хромая гимнасточка или однорукий бегун, такие, от которых все отказались… Да, довольствуюсь малым, ничего не попишешь! Еще скажи спасибо, что не выставили за дверь, даже платят иногда, поощряют, черт бы их всех побрал…»
Они остановились у шведской стенки, изрядно поредевшей с тех пор, как Лавров, напоследок, вскарабкался по хлипким жердочкам и – только затем, чтобы, сдувая с носа паутину, из-под потолка окинуть трагическим взором место и инструменты ее гибели…
«Здорово ты меня тогда отделал, до сих пор болит, – снисходительно усмехнулся Лобов. – Сгоряча едва не лишил мужского достоинства!»
Лавров отвернулся, как будто вытянул из нижнего ящика безобразную сцену – мокрую замаранную марлю и, уловив неприятный запах, быстро запихал обратно, запер ящик на ключ.
«Так ты не ждал, что я вернусь?»
Искупавшись, он чувствовал теперь ползущий по телу зуд.
«После всего, что произошло? Шутишь! Да кто же после такого возвращается! Каким, прости господи, надо быть нахалом, чтобы здорово живешь плюхнуться вспять в эту сточную канаву! Какую загогулину надо совершить, чтобы не испугаться позора! Как низко пасть, чтобы ожить! Разве не ты вопил – никогда, никогда, никогда! Или это кто-то другой, может, я запамятовал, обозвал нас всех, остающихся здесь, дармоедами и лизоблюдами?..»
Они прошли мимо двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен».
«Новые порядки!» – буркнул Лобов, опять закуривая. Он шел так быстро, что Лавров за ним не поспевал и отвечал вдогонку. Возможно, Лобов намеренно забегал вперед, чтобы Лавров не заметил на его толстом усатом лице гримасу тоски и страха, как будто Лавров тянул его назад в тот темный, зловонный зоопарк, где безобразные, жестокие и неуемные дети бросают камнями и тыкают палками в дряхлых чудовищ, лениво пережевывающих и испражняющихся. Да, Лавров был из тех, кто умеет в считанные минуты нагнать тоску и вселить страх. Да-да, нагнать, вселить. Едким взглядом или кручиной губ он обезоруживал человека, отнимая подручные средства защиты от пустоты и безумия: «Мы еще посмотрим, кто из нас настоящий!» При всем своем неподъемном весе, Лобов побаивался этого плетущегося за ним дохляка. Кто знает, что он задумал, какой готовит прыжок с шестом! И если уж никак невозможно держаться от него подальше подольше, приходится водить его взад-вперед, чтобы не дать повода ввязаться в рукопашную.
Высокая девушка с маленькой мордочкой, коротковолосая, резко двигая бедром, вращала обруч. Лавров засмотрелся, ему понравились остекленевшие от напряжения глаза, вздернутый носик с зияющими ноздрями, влажно снующий язык, узкие груди, скачущие под застиранной майкой с номером «три», осиная талия… Блестящий обруч вращался, повизгивая от удовольствия. Девушка, покачивая головой, сжимала и разжимала пальцы приподнятых рук. Закуривая очередную сигарету, Лобов тянул Лаврова дальше.
Но Лавров уже досыта насмотрелся на отжимающихся парней и подпрыгивающих девчат. В его время они точно так же отжимались и подпрыгивали. Проводник из Лобова был никудышный. Можно подумать, что ему нравится по сто раз смотреть одну и ту же ленту, ради одного неприметного кадра. Кружа по спортивным залам, он приходил в восторг, когда заставал гимнастку в той же позе, что и полчаса назад. Лавров не желал быть с Лобовым заодно. Он смотрел не в ту сторону, куда указывал палец Лобова (ломберные столы), и затыкал уши, слыша рвущееся из подвала конское ржание (Лобов: «Обзавелись конюшней, устраивают подпольные скачки! Помнишь наше заветное:
Явилися мы рано оба
На ипподром, а не на торг…»)
Лавров с нетерпением подсчитывал часы, которые отделяли его от бега с препятствиями, от метания копья, от перетягивания каната… Теперь, когда он уже ступил в мир мышц и сухожилий, пусть слегка переиначенный новыми веяниями, подпорченный, но несокрушимый, никакая личность или безличность не может его попридержать. Он двигался в одном направлении, как стрела: «Они еще пожалеют!..»
Наверху, под низким потолком, несколько мужчин и женщин молча, багровые от натуги, со страшно выпученными глазами, цепляясь за протянутые веревки, пытались выполнить какую-то сложную акробатическую фигуру, шевеля зависшими ногами.
Даже не взглянув, Лобов презрительно фыркнул и прошел дальше, шумно сопя. Уж он-то успел насмотреться на эти возвышенные муки. И когда Лавров, догнав его за углом, выпалил: «У них ничего не получается!», Лобов с досады только махнул рукой. Свое брюзжание он продолжил лишь после того, как, вернувшись в вестибюль, они уселись в кресла напротив мозаичной стены:
«Все изгадили, испортили! Куда ни сунься, вонь и грязь, никто не убирается, говорят, денег у них нет. Закупать тоннами бананы и колготки у них деньги всегда находятся! А посмотрел бы ты, что творится на той половине… – Лобов обиженно причмокнул. – И, как ни странно, вся эта катавасия началась после той прискорбной, прескверной истории, которая разлучила нас навек с твоей дражайшей… Они использовали случившееся как повод, чтобы вытурить старого нашего, душевного Дормидонта, мол, ему нельзя доверять такой коллектив, такое сооружение, развел безобразие, выжил из ума, распустился… Довели старика до того, что сам попросился: Отпустите меня, говорит, ради Бога на все четыре стороны. Ну его и отпустили – на все четыре…»
Лобов перегнулся и поднял с пола старый теннисный мяч, смял задумчиво в руке, хотел бросить, но не бросил, сунул в карман, пригодится.
«Что скрывать, у нас здесь сплошь пришлые проходимцы, с одной целью – обогатиться и унести ноги, новая порода, им что спорт, что цирковое представление – одна морока, сам увидишь, что к чему, что почем. Вместо соревнований – состязания, да и те уже скоро перейдут в сражение. Свободное пространство поделено непрямыми и непримиримыми линиями, так что невежда, вроде тебя, рискует с первых шагов нарушить неписаные законы, впасть в преступное детство, потерять независимость. Вот ты давеча полез с бухты-барахты купаться, ведать не ведая, что бассейном с недавних пор могут пользоваться только лица и тела, находящиеся в связи с теми двумя вертихвостками, Ло и Лу (не слабые кликухи?), которых ты имел счастье наблюдать возле трибуны. Неписаное правило, можно возмущаться сколько угодно, иронизировать, но уже ничего не поделаешь…»
«А что бронзовые статуи? Они-то хоть уцелели?» – прервал его Лавров, некоторое время глядевший на пустые ниши.
Лобов не смог сдержать улыбки перед наивностью собеседника:
«Уцелеть-то они, может, и уцелели, да только давно уже пошли по рукам. А Лялина знаешь где? В кабинете директора, в качестве украшения. Это еще, считай, повезло… – и, не обращая внимания на горестную гримасу, добавил: – А еще тут бродят стаи одичавших кошек. Смотри, как меня исцарапали…»
Он отвернул рукав и показал красные полосы на волосатой руке.
Глава третья
За окном, которому нечем было прикрыться, слабый, бледный дождь напрасно пытался смыть грязные пятна лип, неровно подкрашенных желтизной, бетонные кубики корпусов, зеленый дерн футбольного поля, кривую скамейку, грузовик с брезентовым верхом и прочие приметы действительности, которая в это утро совсем не занимала бессонного Лаврова. Впрочем, лежа на низкой кровати, он мог видеть лишь серое однобокое небо и кровавые когти ветки, царапающей стекло. Мысли забегали вперед, ибо положение его было таково, что малейшая ошибка могла опрокинуть в прошлое и уже безвозвратно. Он должен опередить свою судьбу, иначе несдобровать. События, как он их провидел, выстраивались сами собой, но он чувствовал, что в этом сами собой и таится то главное препятствие, которое надо преодолеть.
Итак, добраться до директора, кто бы он ни был, и взять за горло, старческое, дряблое. Вступить в плотскую связь с Ло и Лу, лучше с обеими одновременно. Установить рекорд. Установить причину Лялиной гибели и собрать вещественные доказательства – чем больше, тем больше. Вспомнить то, что забыл. Сделать Лилю счастливой.
В ящике стола он нашел колоду карт, пустую гильзу, тупой карандаш. В шкафу висели узкие зеленые панталоны со штрипками и красная рубаха в золотых блестках, забытые прежним постояльцем в спешке или за ненадобностью: игра окончена, dahin, dahin!..
Комната, в которой ему предстояло жить ближайшие недели, а может быть, и месяцы, если не годы, была не намного меньше той захламленной каморки, в которой он провел столько незапамятных лет душа в душу с Лялей, а после ее отвратительной гибели – столько же случайных, бессознательных, хотя и бесповоротных лет с ее сестрой Лилей, обычных, обстоятельных лет, где не отвернуться, не спрятаться, не обмануть, выбирай: зачать или зачахнуть, где перестаешь думать, что истины исходят из тела, и ставишь вещи туда, где они стояли, чтобы не потревожить сложившийся из вдохов и выдохов порядок, словом, околеваешь помаленьку, без зазрения совести, тихо, тихо.
И вот еще забавное совпадение. Здесь, между кроватью и дверью, так же как дома, смугло выцветала на стене в пыльной раме «Княжна Тараканова».
Томясь с утра избытком воображения, склоняющегося к веерам и подсвечникам, Лавров взял с полки книгу, наугад, сел в кресло у серого окна без занавесок. «Искушение святого Антония», зачитанное до дыр. Допустим.
Взглянув на себя давеча в зеркало, покрытое белесыми завитками присохшей мыльной пены, Лавров подивился тому, как сильно, если отражение не врет, он пожух, истощился за последнее время, ничего не осталось в нем в целости и сохранности от прежнего Лаврова. Вместо души – разорванные клубы желтого дыма, запах гари, нудная морось, вместо тела – ржавый остов швейной машины в зарослях крапивы. И то, что он, надраивая чужой щеткой дуплистые зубы, подумал: «поправимо, поправимо…», не прибавило ему решимости, ведь всякому известно, что наверстать упущенное возможно лишь в том случае, когда упущенное яйца выеденного не стоит.
Передышка перед боем, думал Лавров, механически листая зачитанное до дыр «Искушение», а взгляд, отвлекшись, шатался по комнате, из темного угла в темный угол, от приоткрытого шкафа с вылезшим красным рукавом к приоткрытой двери в ванную, где еще держалось («на соплях») ветхое отражение. Вот так и все в этом мире, думал Лавров, держится на соплях.
Предстоящий успех, в котором Лавров не сомневался, пугал его, как театральный занавес, который, опустившись на исходе перипетий и ламентаций, разделяет потрясенных, всхлипывающих зрителей и актеров, спешащих смыть грим, переодеться, чтобы поскорее попасть домой, в кухню, где грязная посуда, пресная еда, жидкий чай, рыжие тараканы, сын с дудкой и дочь с ножницами. Но ведь он взыскует другой успех, сомнительный, тот, который заводит в пустыню, чтобы показать на дне высохшего колодца занесенное черным песком изображение неведомого Бога!
Вот почему Лавров не торопился с утра пораньше в спортивный зал вращаться на брусьях или поднимать пудовую гирю. Он был столь же не уверен, что с первого захода поднимет пудовую гирю, насколько был убежден, что с легкостью одолеет этот вес со второй попытки. Однако начать с провала и выставить себя посмешищем было бы в высшей степени неразумно и самонадеянно. Тому, кто хочет быть первым, нельзя быть вторым даже по отношению к самому себе. Высоту должно взять сразу, одним махом, не разбегаясь, либо вообще отказаться от прыжка.
Еще там, у грязного зеркала, надраивая зубы, и даже раньше, накануне, получая ключи у смотрителя общежития, Лавров решил переждать будущие неудачи, обусловленные исключительно привходящими обстоятельствами, как то: длительным перерывом в физических нагрузках, расслаблением души, передрягами, Лилиным невозможным характером и т. д. и т. п., дабы позднее с первого прыжка оставить соперников далеко внизу, он даже нашел своему бездействию название – «переподготовка», лишь бы оправдать себя в глазах покойной супруги.
Лавров был знаток по части промедлений, ведущих к цели, которая, впрочем, по какой-то злой участи, неизменно оказывалась недостойной не только промедления, но и самой быстрой погони. Что сказать о человеке, который, ценой невероятных усилий, приходит первым – и только для того, чтобы получить в награду, из рук в руки, сломанный будильник, без цифр, без стрелок, без пружины, тупым звоном будящий, когда ему вздумается, замученного бессонницей доходягу? Отложив свой победный прыжок, Лавров одолжил немножко праздных деньков, мелких денежек, чтобы, в конечном счете, израсходовать их на бесполезную и болезненную роскошь воспоминаний, но вместо того, чтобы бередить прошлое, тратил время передышки впустую, мучаясь, вопрошая, чем он будет расплачиваться, когда заимодавцу приспичит? И при этом считал, что ему еще повезло! Хотя даже в том, что он брал в долг, а не отбирал то, что ему полагалось по праву, сказывалось какое-то врожденное упущение, лукавый поддавок природы, не любящей пустоты, но и не брезгающей уродцами.
По серому небу пролетела стая черных птиц. Лавров закрыл глаза, выждал, сколько хватило терпения, открыл и – вновь по серому небу пролетела стая черных птиц. Невольно закралось подозрение, что внешний, отдаленный мир уже давно стал всего лишь продолжением вялой работы его извилин.
Рано или поздно, он должен был убрать Лилю в подсознательное, подальше. А чем она мне не угодила? – думал Лавров. Ума не приложу, какой малостью? Уступает ли она хоть на вершок почившей сестре? Взять наряды. Ляля в солнце и дождь, дома и в гостях предпочитала шерстяной тренировочный костюм, а Лиля выбирает из пестрого вороха самое тонкое, почти прозрачное, кружевное, прохладное. И вот что странно, если Ляля, в тренировочном костюме или без оставалась всегда равной себе самой по крепости обаяния, по пленительной простоте обихода, будь она в плавательном бассейне или на теннисном корте: те же обесцвеченные химией кудряшки, те же близоруко-водянистые глаза, короткие толстые ноги, то Лиля – востроносая, перламутровая, напротив, меняется изо дня в день, точно ночь не проходит для нее даром, Лиля перевоплощается, успевая за темные осенние сутки примерить бессчетно лиц и настроений. «Ты любишь ее только потому, что она умерла!» – корила Лиля, позевывая. Лавров молчал.
Лялечка! Она не боялась потерять форму, ни в чем себе не отказывала, наедалась до тошноты, любила красный перец, соленые огурцы, селедку, макароны, была по-женски неравнодушна к водке, настоянной на рябине, неповоротливая, могла проспать до заката, кутаясь летом в пуховое одеяло, прея в бесконечных снах, нечесаная, немытая, курила дешевые папиросы и не сомневалась в очередной своей победе: «У меня нет соперниц, а поддаваться не умею!» И, сидя на трибуне, он, зачарованный, глядел, как она молотит руками по воде, отбрасывает волны, рвется вперед, сшибая водоворотом тщедушных товарок, бурно перелагая свои порывы с брасса на кроль, с кроля на баттерфляй, будто не мышцы гнали ее к победе, а пресловутая vis intellectualis, побеждающая пространство и время.
Чтобы восстановить свои силы, говорила Ляля, достаточно правильно отдышаться. Встав перед распахнутым окном, она, гаркнув, вбирала воздух в легкие и потом, приседая, медленно выпускала через нос. Или, возлежа на диване, тихо пофыркивала, прижимая пальцем правую и левую ноздрю. Попеременно.
Заядлая пловчиха, Ляля не терпела естественных водоемов. Почему-то она была уверена, что река – это баловство, озеро – дурная привычка, а море – скучный разврат. Сестры воспитывались в религиозной семье, обращенные стыдом к Богу, в половозрелом страхе, но только Ляля уповала на будущую жизнь в ее первобытной наготе. И, в то же время, никакие посулы не могли принудить ее заголенно лежать на диком пляже, навзничь или ничком. Но и лесная чаща со всей этой листвой и хвоей ее не манила. Спорт признает лишь искусственные сооружения, промеренные и просчитанные. Ее голова была набита готовыми понятиями, не терпящими возражения, но при всем том Ляля умела искренно веселиться и частенько хохотала до слез без всякого повода. Случалось даже, ночью она будила Лаврова, смеясь: «Послушай, что мне приснилось! Будто я мясорубка, а ты…» – «Не надо, не надо!..» стонал Лавров, закрываясь подушкой.
Лавров разрабатывал дельтовидные мышцы на тренажере, когда ему, пристегнутому и придавленному, начали приносить, по частям, отвратительное известие, кто что сумел раздобыть. Вначале он узнал о штыре, потом о сальто, наконец, о кольцах. Когда ему, наконец, удалось высвободиться из ремней и пружин, уже можно было не торопиться.
Он опоздал. Уборщица ползала по полу, выжимая красную тряпку в ведро. Кольца под потолком слегка покачивались на сквозняке. Старый Дормидонт трясся, закрывая лицо ракеткой для пинг-понга. Какие-то незнакомые люди в плащах измеряли лентой стены. Птицын курил, сидя боком на кожаном коне. Лобов ушел, тихо прикрыв дверь. Что произошло? Где она? Куда ее увезли? Он умолял, требовал, угрожал… Тщетно. Вместо истины в ответ – вздохи, бормотание, невнятные соболезнования. Только немая массажистка Валя сверлила пальцем кулак, пытаясь что-то ему объяснить. Да Петя Иванов, рыжеволосый гребец, уже с утра надравшийся, как-то косо подмигивал и воздевал мозолистые ручищи.
Только через два дня, когда малиновый гроб, намертво заколоченный гвоздями, опустили в яму и засыпали землей, придавили сверху большой мраморной плитой и обнесли высокой оградой, старый Дормидонт отвел Лаврова в сторону и, трясясь, рассказал, что же там, в гимнастическом зале, произошло.
По его словам, Ляля, Бог ее простит, делала в голом виде – ты же ее знаешь! – упражнения на кольцах, раскачиваясь, кувыркаясь, сгибаясь, и вот, понимаешь, пальцы соскользнули, тело, повинуясь законам баллистики, выполнило двойное сальто, извиняюсь, морталле и, по несчастной случайности, опустилось нижней своей частью прямо на – старик так затрясся, что уже ничего нельзя было разобрать в слюнявом клокотании. Есть ли очевидцы происшедшего? Увы, нет.
Много позже до Лаврова дошла еще и другая версия, не более, но и не менее достоверная. Якобы Ляля прыгнула с вышки, дважды перевернувшись в запаренном воздухе, не подумав прежде заглянуть в бассейн, где воды в тот день набралось по щиколку…
Лаврова оставили горевать с двумя смертями, двумя полуправдами и бесконечным выводком подозрений, ибо один только намек на «несчастный случай» приводил Лаврова в бешенство. «Несчастный случай! – вопил он. – Сама ты несчастный случай!» Лиля обижалась и уходила в кухню резать морковь для супа или в ванную стирать белье.
Теперь, вернувшись на место преступления, Лавров надеялся, что прошедшие годы, отдалившие события настолько, чтобы сделать их недосягаемыми для злого умысла и праздного любопытства, помогут ему распутать Лялину гибель. Сидя в кресле против серого окна и листая книгу, давая себе передышку накануне решающих спортивных испытаний, он невольно уверился, что у него есть только одно прошлое и укротить его не составит труда, как только он осуществит то, что составляет цель и оправдание его присутствия здесь, сейчас.
Лавров прошелся по комнате. Присел возле картины, чтобы получше рассмотреть крыс, срывающих с несчастной княжны подмокшее платье. Вернулся в кресло, раскрыл книгу, задумался, забылся, ушел…
Но он не успел уйти далеко. Дверь у него за спиной содрогнулась под ударами. От неожиданности он выронил книгу. Стало страшно. Казалось, удары сотрясают не только дверь, но и всю комнату, вот-вот рухнет люстра, завалится шкаф, стены лопнут, как яичная скорлупа, и княжна Тараканова упадет на пол, разметав волосы…
«Войдите, войдите!..» – закричал Лавров в ужасе.
Удары тотчас прекратились. Дверь медленно отворилась и в комнату, у которой еще бежали мурашки по грязным обоям, прошаркал смотритель общежития. В одной руке, замотанной по запястью пожухлым бинтом, он держал большой чайник, в другой – прищепом – два стакана.
«Прошу прощения за беспокойство, – пробубнил он, ставя чайник и стаканы на стол. – Вот пришел проведать, посмотреть, как вы устроились. Чай индийский, извольте испить…»
У смотрителя, человека не старого, было длинное, вялое лицо, серо-голубые глаза растекались в линзах очков, желтая борода росла из носа, такая густая, что рот обнаруживался лишь тогда, когда он хохотал, а хохотал он редко и страшно.
«Да вы не робейте, чай хороший, настоящий…»
Он разлил по стаканам бурую гущу. Сам же, из-под руки, обшаривал комнату.
«Всякий люд у нас тут обретается. Иной за одну ночь таких художеств разведет, что потом за год не отскоблишь, – он приподнял край одеяла и, присев, заглянул под кровать. – Это я к тому, что, пожалуйста, не церемоньтесь, чувствуйте себя как дома, помните, еще Гегель говорил: „Легкомыслие, как и скука, суть предвестники того, что приближается нечто иное…“»
Смотритель поднял с пола книгу, бережно отряхнул и поставил на полку. Подсел за стол к Лаврову, отхлебнул, придерживая замотанной рукой бороду.
«Здесь у нас дикие кошки, они царапаются», – ответил он на взгляд Лаврова.
«Кровать у вас хорошая, мягкая, на пружинах, есть шкаф, письменный стол, книги для легкого чтения и картина для, так сказать, эстетических переживаний (помните, у Гейдеггера: „Картина висит на стене, как охотничье ружье или шляпа“?). Все в полном соответствии с инструкцией… Располагайтесь и ни о чем не заботьтесь, за вас все сделают, уберут, постирают, подотрут. Механизм, в основном женский, отлажен так, что практически невидим. Об одном только прошу, – смотритель перешел на шепот, – не пачкайте стен, особенно кровью, особенно чужой, а то знаете, есть любители…»
Лавров запротестовал.
«Ну-ну, – снисходительно уважил его смотритель, – все мы люди, за редкими исключениями, я вас еще ни в чем не обвиняю, поживите, проспитесь, так сказать, а там посмотрим, что вы за фрукт. Еще не родился тот человек, который был бы мне не по зубам!..»
Желтая борода смотрителя встрепенулась.
Лавров сохранял почтительное молчание. Он уже выпил полстакана. В голове у него собралась вязкая муть, не иначе как под действием восточного напитка.
Смотритель не унимался:
«Вашу покойную супругу, Алевтину Егорьевну, не имел счастья знать лично, однако был горячим поклонником, следил за достижениями… Насколько могу судить, замечательная была женщина, уникальная, но, увы, как заметил еще Иммануил Кант, „перчатка с одной руки не может быть употребляема для другой…“»
Лавров внимательно всмотрелся в сидящего напротив него шута, и что-то недоброе шевельнулось в памяти, красные грозди в сухих листьях, растоптанный циферблат, песок в ботинке… Нет, это из другого рассказа, в который его не приняли, в котором ему не нашлось места.
«Я одобряю ваше прегрешение, – оговорился смотритель, – я хотел сказать – решение. Никто не сознается, все сделают вид, что они вне игры, но, буду откровенным, вас, Геннадий Тимофеевич, здесь ждали, пять лет ждали, когда же вы, наконец, найдете в себе силы вернуться, сомневались только для приличия, у вас большое будущее, без вас им не управиться… Вспомните Прокла: „Способное возвращаться к самому себе – бестелесно“!..»
Лавров поблагодарил за доверие.
Смотритель долил ему из чайника.
«Друзья, которых у меня нет, – расчувствовался он, – считают, что я излишне категоричен. Домочадцы, которых у меня тоже нет, считают меня злым и высокопарным, именно так. А что прикажете делать? Рассыпаться мелким бесом? Лить воду на чужую мельницу? Или плясать под чужую дудку? Нет, я сам по себе! Что со мной ни делайте, в какую, прости господи, дыру ни суйте… Как сказано у Ницше…»
Он вдруг осекся, переводя дух, и некоторое время смотрел на Лаврова. Без слов.
«Да у вас, я вижу, совсем другое на уме, нет, нет, не отрицайте. Я вижу вас насквозь. Вам бы сейчас карты в руки, бубен, червей или… Ну конечно, перелезть через ограду в сад, где поваленные ветром статуи лежат в высокой траве…»
Разметая бороду вокруг клыкастой пасти, смотритель захохотал.
Глава четвертая
Как и следовало ожидать, столовая помещалась там же, где и в те давние, полузабытые времена, когда желудок Лаврова переваривал все, что разгрызали зубы, а зубы разгрызали все, что попадало в рот, а в рот попадало все, до чего дотягивалась рука, будь то кожа, кости, мозги, печень, почки или глазные яблоки рогатого скота, не говоря уже о домашней птице и пресноводной рыбе. И впрямь, кто бы решился передвинуть эту зловонную махину, кто бы покусился на этот прожорливый коловорот? Подблюдные сальности, чавкающий смех, икота, рыганье, пахучий шепот, брызгающий слюной, хлюп, хлип, шарканье ложки по склизкому дну, хруп разбитого стакана, опять смех, икота, скрежет зубовный – все это сливалось под низким потолком в смрадное месиво, которое вяло колыхалось над головами, впитывая жирные волны чада, валящего с кухни, где, как говорил кто-то из местных остряков, переводят продукты, которые не переводятся. Остряков в столовой было больше, чем спортсменов.
Надо было отстоять длинную очередь, чтобы приблизиться к перегородке, через которую толстые розовые руки выдавали миски с едой.
Наметанным глазом Лавров различал в толпе бегунов, велогонщиков, баскетболистов, гимнастов, прыгунов, городошников, пятиборцев, лучниц, наездниц, фехтовальщиц, даже здесь не расстающихся с рапирами, тяжеловесов, боксеров, метателей… Каждый вид спорта развивает не только особую группу мышц, но и определенное направление мысли. В ходе тренировки, Лавров знал не понаслышке, меняется голос, взгляд, жестикуляция. Появляются новые желания, новые страхи. Характер переиначивает облик. Посмотрите на велогонщиков, на их длинные, тонкие носы, впалые щеки, оттопыренные уши, послушайте, о чем они говорят перед стартом, затягиваясь последней папиросой, проследите, куда идут после финиша! Или взгляните на лучниц, толстощеких, губастых, грудастых, коротконогих, длиннопалых, лупоглазых!..
Теребя поднос, Лавров загодя искал свободного места, куда он мог бы втиснуть свое тщедушное тело, надеясь, что и его какой-нибудь знаток припишет подходящему виду спорта, пусть даже рытью нор в прибрежном песке, ужению рыбы с висячего моста!..
Скопление здоровья, силы, молодости, ловкости, удачи действовало на Лаврова удручающе. Он-то знал, на себе проверил, как нелегко найти всему этому применение в спорте. Конечно, на первых порах телесная крепость скрадывает скуку и тоску, но чем ближе к финишу, тем больнее нехватка знаний, надо думать, думать и говорить, говорить, а слов уже нет, ничего уже не вспомнишь, ни стихов, ни историй, ничего уже не осталось на победный рывок, только пот да экскременты.
Расплатившись, Лавров убедился, что ему везет – освободился столик возле колонны. Огромный детина в черной майке, загорелый, с плечами синими от наколок, с золотой цепью, встал, опрокинув стул, горстью захватил из стаканчика салфетки, вытер брыла, да-да, именно брыла, швырнул комок в тарелку и, набычившись, двинулся к выходу.
«Городошник!» – подумал Лавров, сдвигая груду грязных мисок в дальний угол, и принялся хлебать, невольно читая надписи, густо нацарапанные на колонне.
Но не успел Лавров распробовать и дочитать («улыбок тебе казак» и прочее), как Птицын, которого он уже давно заметил у окна с какой-то высокой, пышной дамой, пройдя по кривой через весь зал, поднял опрокинутый стул, уселся и обдал его заготовленным воплем: «Кого я вижу, Генка, вот уж не думал не гадал, как гром и молния среди ясного неба, ливень, песчаные дорожки, запах настурций…»
Радушие давалось Птицыну с трудом, он завирался. Это был плотно сбитый, низкого роста господин лет сорока пяти, с темным квадратным лицом, прямой линией сросшихся бровей и длинными, зачесанными назад волосами, которые неприятно лоснились.
Лавров еще помнил то время, когда Птицын подвизался в судейской коллегии, на запятках, а позже, пойманный с поличным, перевелся тихой сапой в бригаду тренеров, но никого не тренировал, довольный ролью ловкого посредника. Его услугами охотно пользовались те, кому не везло. Всегда на подхвате, он постепенно приобрел скрытое, но вездесущее влияние. Ему подыгрывали. Перепортив не одну дюжину легкоатлеток, он, наконец, женился на метательнице молота. Произвел двух девочек. Развелся. Отрастил бороду, потом сбрил. Стал щедрым завсегдатаем массажисток, предпочитая немых. Умел не упустить выгоду. Знал все входы и выходы. Но не только брезгливость была причиной того, что Лавров, едва завидев Птицына, отворачивался. Пустое место представляет опасность, причем опасность особого рода – унылую, расслабляющую. Вопреки своей фамилии, Птицын извивался.
«Да ты совсем не изменился, Геннадий, ну-ка, дай я на тебя погляжу, физкультурник ты наш дорогой, неисправимый!..»
Разговор между антагонистами получился столь ничтожным, что, будучи записан, по памяти Птицына, в дневник, который он вел уже на протяжении пяти лет, начав со скупой заметки о безобразной гибели Ляли, пловчихи, потерял и ту толику смысла, что против воли собеседников закралась в их слова (и это при том, что оба вкладывали в одинаковые звуки противоположное значение).