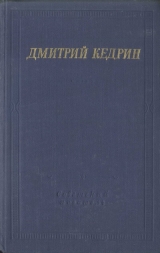
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Дмитрий Кедрин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Под гул севастопольской пушки
Вручал старшина Пантелей
Барчонку от смуглой старушки
Иконку и триста рублей…
…А сыну глядела Россия,
Ночная метель и гроза
В немного шальные, косые,
С цыганским отливом глаза!..
„Художественное произведение в конечном счете ценно тем, что оно дополняет в представлении читателя тот или иной исторический момент новыми чертами, углубляет и конкретизирует его“[24]24
ЦГАЛИ.
[Закрыть] – это суждение Кедрина возникло на основе личного поэтического опыта и помогает постичь процесс художественного мышления поэта, движение и развитие его поэтической мысли.
В том же 1944 году им написано стихотворение „Солдатка“, обращенное к дорогому для всей поэзии периода Великой Отечественной войны образу русской женщины, с особой проникновенностью запечатленному в стихотворении Михаила Исаковского „Русской женщине“. Великолепные стихи Исаковского остались гордой и горькой памятью войны, своеобразным поэтическим мемориалом „Родине-матери“. „Солдатка“ Дмитрия Кедрина своим лирическим и гражданственным пафосом устремлена в будущее. Кедрин написал о судьбе русской женщины, родившей сына уже после того, как погиб на первой мировой войне ее „работящий мужик“, хозяин и кормилец, о горькой вдовьей доле, о трудном детстве мальчика, о радости матери от его нехитрого подарка с первой получки, о появлении в доме помощницы, молодой сноровистой снохи, и о гибели на кровавых полях второй мировой войны солдата, так и не узнавшего, что станет отцом. Взволнованный голос поэта сливается с голосами погибших, тех, что не дождались встречи с близкими, кому не довелось повидать своих первенцев.
Гуманистическая направленность произведений Кедрина военной поры, вера в человека и боль за него созвучны раздумьям современной литературы, ее стремлению спасти планету для жизни и счастья людей. Стихи Кедрина, и те, что были напечатаны при жизни, и те, что пришли к читателю после его смерти, составили своеобычную страницу нашей поэзии. Развиваясь в контексте современной ему литературы, Кедрин был связан с классической традицией. Вместе с тем его светлое, гуманистическое дарование обращено к людям будущего, неизменно вызывая в сердцах „чувства добрые“. Художественный опыт Кедрина сопутствует поискам поэтов разных поколений и индивидуальностей. Кедринское начало ощущается в поэтическом освоении темы отечественной истории Сергеем Наровчатовым, Андреем Вознесенским, в видении русской природы Николаем Рыленковым, Михаилом Дудиным, Николаем Рубцовым и другими.
* * *
Творческий портрет Кедрина, характеристика его многообразного дарования не будут полны, если не сказать о его деятельности поэта-переводчика. Кедрин много и успешно работал в области художественного перевода и при жизни был известен главным образом как переводчик.
Сегодня, когда известность Кедрина-поэта утвердилась и продолжает расти, не следует забывать и об этом его вкладе в советскую поэзию и ее переводческую школу, тем более что в последние годы жизни художественный перевод составлял главное содержание работы Кедрина. „Он многое сделал для братства культур народов, для их взаимного обогащения как переводчик. И в этом ему не только я должен выразить свою признательность, – вспоминает Кайсын Кулиев. – Он был мудрым, доброжелательным, взыскательным и требовательным советчиком, неутомимым учителем молодых поэтов. Я хорошо помню, сколько их ходило к нему. В оценке произведений любого автора Кедрин был так же честен и откровенен, как и во всем, что он делал“[25]25
«День поэзии, 1967», М., 1967, с. 189.
[Закрыть].
В области художественного перевода раскрылась еще одна сторона дарования Дмитрия Кедрина, заложенная, по-видимому, в самой природе его поэтического таланта. Дар проникновения в отдаленные эпохи не только своей отечественной истории, но и в сокровищницу других народов и культур, постижение самых основ национального духа в таких произведениях, как „Приданое“, „Рембрандт“, „Певец“, уже свидетельствовали о потенциальных возможностях Кедрина как переводчика.
Переводческая деятельность Кедрина, начатая еще в 30-е годы, необычайно возросла в пору Отечественной войны, когда с такой отчетливостью проявилась историческая общность народов Советского Союза, поднявшихся на защиту не только своей государственности, но и национальной самобытности. „Работы у меня колоссальное количество. Меня совершенно завалили переводами. Я не солгу, если скажу, что за этот год перевел не менее 300 с лишним стихотворений. Написал две книги своих оригинальных стихов: одну о бомбежках, другую о России. Выйдет она или нет – еще не знаю“[26]26
Письмо к Г. Н. Литваку, хранящееся в личном архиве Л. И. Кедриной.
[Закрыть], – писал Кедрин одному из друзей в письме от 7 декабря 1942 года. По этому личному признанию можно судить о степени творческой активности Кедрина в военные годы. Упомянутые книги, как нетрудно догадаться, – это „День гнева“, которую поэт тогда не готовил к печати, и „Русские стихи“, представленные им в издательство „Советский писатель“ в конце того же года, но так и не увидевшие света.
Кедринские переводы из Гамзата Цадасы, Кайсына Кулиева, Мустая Карима, Мусы Джалиля, Андрея Малышко, Максима Танка, Владимира Сосюры, Саломеи Нерис, Йоханнеса Барбаруса открывали всесоюзному читателю сокровенный мир души сражающегося народа, духовный склад различных национальных характеров. По глубине проникновения в национальную стихию, по верности мысли и чувству подлинника при строгом соответствии существу и форме оригинала работа Кедрина представляет собой значительное явление школы советского поэтического перевода. Неоценимым качеством переводов Кедрина является проявленный им в этой области удивительный поэтический такт, идущий, по-видимому, от того исключительного душевного такта, которым, по воспоминаниям современников, был наделен поэт. А. А. Фадеев, отмечая в своей записной книжке недостатки в работе советских переводчиков того времени, выделил „очень хорошие“ переводы Кедрина[27]27
ЦГАЛИ.
[Закрыть].
Глубоко погружаясь в стихию подлинника, Кедрин постигает душу поэтического произведения, оставаясь в русле национальной традиции, строго охраняя оригинал от субъективистского произвола. Нередко талантливый поэт, с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым голосом, привносит эти свои достоинства в художественный перевод, не являющийся „вольным“, подавляет другую индивидуальность, лишая тем самым стихотворение его художественной самобытности. В современных переводах из национальных поэтов нередко безошибочно угадывается голос того или иного русского поэта, его интонация, его музыкальная тема. Кедрин умел передавать не только смысл, но и неповторимый дух оригинала, будь то перевод с польского, из Адама Мицкевича, или с татарского, из Мажита Гафури.
Записи Кедрина о психологии творчества, сохранившиеся в его блокноте, отражают и большой опыт переводческой работы. Его суждения о том, что „в поэзии нет места субъективности“, не только возводят истинного поэта в ранг объективного судии, но и адресуются мастерам художественного перевода.
Жизнь Кедрина трагически оборвалась на тридцать девятом году. Он погиб 18 сентября 1945 года при возвращении из Москвы домой, в Черкизово, не завершив многих творческих замыслов.
* * *
Кедрин был поэтом, ощущающим свое кровное единение с Россией, с народом, со всей Советской родиной. Он многого не успел, были у него, как у всякого мастера, свои взлеты и свои неудачи, но то, что он создал, позволяет судить о нем как об оригинальном и самобытном поэте.
„Я, как часы, заведен на сто лет“ – находим запись Кедрина в его рабочем блокноте 1944–1945 годов, содержащем богатейшую россыпь заготовок, планов, поэтических набросков к будущим, так и не родившимся произведениям. Здесь и обширные исторические справки о Семилетней войне, заметки о Ломоносове и Андрее Рублеве, об Афанасии Никитине. „Очередная работа: Повесть о войне, Папесса Иоанна, Графиня (о Параше Жемчуговой), о Лопухиной, смешной роман, Воспоминания, Любовь, Выигрышный билет, Рассказы, Стихи, Поэма, Семья“». В другом месте: «„Заметки к истории русской авиации“, книга „О психологии творчества“, „Розы Маяковского“». Его поэтические размышления об историческом прошлом, как и о современности, всегда содержат в себе развивающееся нравственное начало. В набросках к книге «О психологии творчества» Кедрин записывает: «Писать… любые стишки вообще – это слепое, бесперспективное занятие. Искусство и каждое его произведение в отдельности освещает и живет только чувством перспективы, завтрашнего дня, который как бы опрокидывается в него и зажигает его своим светом. Только при наличии перспективы все становится на свое место»[28]28
ЦГАЛИ.
[Закрыть]. Ярослав Смеляков, размышляя об исторических судьбах русской поэзии, о ее гуманистическом и интернациональном пафосе, о движении того лучшего, что создано советской классикой, в «коммунистическое далеко», к людям будущего, сказал о стихах Дмитрия Кедрина: «Думаю, что со временем их значение будет возрастать»[29]29
«Вопросы литературы», 1966, № 4, с. 126.
[Закрыть].
Поэзии Дмитрия Борисовича Кедрина суждена долгая жизнь, и не только в сознании его соотечественников. Лучшие из его произведений переведены на иностранные языки, его знают и любят в Чехословакии, Венгрии, Югославии, Франции и многих других странах. По-видимому, этот процесс счастливого узнавания будет продолжаться.
С. А. Коваленко
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1932–1945
1. КУКЛА («Как темно в этом доме!..»)2. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз…
На окне моем – кукла.
От этой красотки безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?
Что ж!
Прильни к моим стеклам
И красные пальчики высунь…
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле – много недель!
Кукла стала курносой и лысой.
Но не всё ли равно?
Как она взволновала тебя!
Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.
Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.
Дорогая моя!
Что же будет с тобой?
Неужели И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять – пить,
В десять – врать
И в двенадцать —
Научишься красть?
Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя —
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею – собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?
Нет, моя дорогая!
Прекрасная нежность во взорах
Той великой страны,
Что качала твою колыбель!
След труда и борьбы —
На руке ее известь и порох,
И под этой рукой
Этой доли —
Бояться тебе ль?
Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь, —
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?
И когда сквозь дремоту
Опять я услышу, что начат
Полуночный содом,
Что орет забулдыга отец,
Что валится посуда,
Что голос твой тоненький плачет,—
О терпенье мое!
Оборвешься же ты наконец!
И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись в калач,
И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,
И скажут:
«Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!»
1932
3. ПОЕДИНОК
Западные экспрессы
Летят по нашим дорогам.
Смычки баюкают душу,
Высвистывая любовь.
Знатные иностранцы
С челюстями бульдогов
Держат черные трубки
Меж платиновых зубов.
Днем мы торгуем с ними
Лесом и керосином,
Видим их в наших трестах
В сутолоке деловой.
Вечером они бродят
По золотым Торгсинам,
Ночью им простирает
Светлую сень «Савой».
Их горла укрыты в пледы
От нашей дурной погоды,
Желта шагрень чемоданов
В трупных печатях виз.
Скромны и любопытны —
Кто из них счетоводы
Солидной торговой фирмы
«Интеллидженс сервис»?
И ласковым счетоводам,
Прошедшим море и сушу,
Случается по дешевке
За шубу или сервиз
Купить иногда в рассрочку
Широкую «русскую душу»
Для старой солидной фирмы
«Интеллидженс сервис».
Он щупает нас рентгеном,
Наметанный глаз шпиона,
Считает наши прорехи,
Шарит в белье… И вот
Работу снарядных цехов
И стрельбища полигона
Короткий английский палец
Разнес по костяшкам счет.
Блудливая обезьяна,
Стащившая горсть орехов!
Хитрец, под великий камень
Подкладывающий огонь…
Союз – это семь огромных,
Семь орудийных цехов,
Республика – беспредельный
Рокочущий полигон!
Искусны у них отмычки,
Рука работает чисто,
А всё же шестую мира
Украсть они не вольны.
Поглядывающий в темень,
Бессонный дозор чекистов,
Глухо перекликаясь,
Ходит вокруг стены.
И мы говорим: «Джентльмены!
Кто будет у вас защитник?
И вот вам Киплинг для чтенья,
Вполне подходящий слог.
Друзья ваши рядом с вами,
Не вздумайте шуб стащить с них.
Прощайте! Да будет добр к вам
Ваш либеральный бог».
Шакалы газетных джунглей
Их сравнивают с распятым,
Но с низкой судебной черной
Скамьи, для них роковой,
Встает перед углекопом,
Литейщиком и солдатом
Лишь желтая старость мира,
Трясущая головой.
<1933>
4. ДОБРО
К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.
Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.
Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы…
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!
Ну что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,
Под горкой – два экипажа,
Да седенький доктор в черном,
С очками на злом носу.
Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,
И разве не наше сердце —
Арена ее борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,
Что ставило нездоровье
В колеса моей судьбы?
Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забила на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!
А знаешь, мы не подымем
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгина
Дешевую принесу.
Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюни,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли,
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?
Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,
Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш – не мой.
1933
5. КРОВИНКА
Потерт сыромятный его тулуп,
Ушастая шапка его, как склеп,
Он вытер слюну с шепелявых губ
И шепотом попросил на хлеб.
С пути сучковатой клюкой нужда
Не сразу спихнула его, поди:
Широкая медная борода
Иконой лежит на его груди!
Уже, замедляя шаги на миг,
В пальто я нащупывал серебро:
Недаром премудрость церковных книг
Учила меня сотворять добро.
Но вдруг я подумал: к чему он тут,
И бабы ему медяки дают
В рабочей стране, где станок и плуг,
Томясь, ожидают умелых рук?
Тогда я почуял, что это – враг,
Навел на него в упор очки,
Поймал его взгляд и увидел, как
Хитро шевельнулись его зрачки.
Мутна голубень беспокойных глаз
И, тягостный, лицемерен вздох!
Купчина, державший мучной лабаз?
Кулак, подпаливший колхозный стог?
Бродя по Москве, он от злобы слеп,
Ленивый и яростный паразит,
Он клянчит пятак у меня на хлеб,
А хлебным вином от него разит!
Такому не жалко ни мук, ни слез,
Он спящего ахает колуном,
Живого закапывает в навоз
И рот набивает ему зерном.
Хитрец изворотливый и скупой,
Он купит за рубль, а продаст за пять.
Он смазчиком проползет в депо,
И буксы вагонов начнут пылать.
И если, по грошику наскоблив,
Он выживет, этот рыжий лис, —
Рокочущий поезд моей земли
Придет с опозданием в социализм.
Я холодно опустил в карман
Зажатую горсточку серебра
И в льющийся меж фонарей туман
Направился, не сотворив добра.
1933
6. ДВОЙНИК
Родная кровинка течет в ее жилах,
И больно – пусть век мою слабость простит —
От глаз ее жалких, от рук ее милых
Отречься и память со счетов скостить.
Выветриваясь, по куску выпадая,
Душа искрошилась, как зуб, до корня.
Шли годы, и эта ли полуседая,
Тщедушная женщина – мать у меня?
Убогая! Где твоя прежняя сила?
Какою дорогой в могилу слегла?
Влюблялась, кисейные платья носила,
Читала Некрасова, смуглой была.
Растоптана зверем, чье прозвище – рынок,
Раздавлена грузом матрасов и соф,
Сгорела на пламени всех керосинок,
Пылающих в недрах кухонных Голгоф.
И вот они – вечная песенка жалоб,
Сонливость, да втертый в морщины желток,
Да косо, по-волчьи свисающий на лоб,
Скупой, грязноватый, седой завиток.
Так попусту, так бесполезно и глупо
Дотла допылала твоя красота!
Дымящимся паром кипящего супа
Весь мир от тебя заслонила плита!
В истрепанных туфлях, потертых и рыжих,
С кошелкой, в пальто, что не греет души́,
Привыкла блуждать между рыночных выжиг,
Торгуясь, клянясь, скопидомя гроши.
Трудна эта доля, и жребий несладок:
Пугаться трамваев, бояться людей,
Толкаться в хвостах продуктовых палаток,
Среди завсегдатаев очередей.
Но желчи не слышно в ее укоризне,
Очаг не наскучил ей, наоборот:
Ей быть и не снилось хозяйкою жизни,
Но только властительницей сковород.
Она умоляет: «Родимый, потише!
Живи не спеша, не волнуйся, дитя!
Давай проживем, как подпольные мыши,
Что ночью глубокой в подвалах свистят!»
Затем, что она исповедует примус,
Затем, что она меж людьми как в лесу, —
Мою угловатую непримиримость
К мышиной судьбе я, как знамя, несу.
Мне хочется расколдовать ее морок,
Взять под руку мать, как слепое дитя,
От противней чадных, от жирных конфорок
Увесть ее на берег мира, хотя
Я знаю: он будет ей чуден и жуток,
Тот солнечный берег житейской реки…
Слепую от шор, охромевшую в путах,
Я всё ж поведу ее, ей вопреки!
1933
7. БРОДЯГА
Два месяца в небе, два сердца в груди,
Орел позади, и звезда впереди.
Я поровну слышу и клекот орлиный,
И вижу звезду над родимой долиной:
Во мне перемешаны темень и свет,
Мне Недоросль – прадед, и Пушкин – мой дед.
Со мной заодно с колченогой кровати
Утрами встает молодой обыватель,
Он бродит, раздет, и немыт, и небрит,
Дымит папиросой и плоско острит.
На сад, что напротив, на дачу, что рядом,
Глядит мой двойник издевательским взглядом,
Равно неприязненный всем и всему, —
Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму.
А я человек переходной эпохи…
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю
И тех же сортов папиросы курю,
Но славлю жестокость, которая в мире
Клопов выжигает, как в затхлой квартире,
Которая за косы землю берет,
С которой сегодня и я в свой черед
Под знаменем гезов, суровых и босых,
Вперед заношу мой скитальческий посох…
Что ж рядом плетется, смешок затая,
Двойник мой, проклятая косность моя?
Так, пробуя легкими воздух студеный,
Сперва задыхается новорожденный,
Он мерзнет, и свет ему режет глаза,
И тянет его воротиться назад,
В привычную ночь материнской утробы;
Так золото мучат кислотною пробой,
Так все мы в глаза двойника своего
Глядим и решаем вопрос: кто кого?
Мы вместе живем, мы неплохо знакомы,
И сильно не ладим с моим двойником мы:
То он меня ломит, то я его мну,
И, чуть отдохнув, продолжаем войну.
К эпохе моей, к человечества маю
Себя я за шиворот приподымаю.
Пусть больно от этого мне самому,
Пускай тяжело, – я себя подыму!
И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!..
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла!
<1934>
8. ДОРОШ МОЛИБОГА
Есть у каждого бродяги
Сундучок воспоминаний.
Пусть не верует бродяга
И ни в птичий грай, ни в чох,—
Ни на призраки богатства
В тихом обмороке сна, ни
На вино не променяет
Он заветный сундучок.
Там за дружбою слежалой,
Под враждою закоптелой,
Между чувств, что стали трухлой
Связкой высохших грибов, —
Перевязана тесемкой
И в газете пожелтелой,
Как мышонок, притаилась
Неуклюжая любовь.
Если якорь брига выбран,
В кабачке распита брага,
Ставни синие забиты
Навсегда в родном дому,—
Уплывая, всё раздарит
Собутыльникам бродяга,
Только этот желтый сверток
Не покажет никому…
Будет день: в борты, как в щеки,
Оплеухи волн забьют – и
«Все наверх! – засвищет боцман. —
К нам идет девятый вал!»
Перед тем как твердо выйти
В шторм из маленькой каюты,
Развернет бродяга сверток,
Мокрый ворот разорвав.
И когда вода раздавит
В трюме крепкие бочонки,
Он увидит, погружаясь
В атлантическую тьму:
Тонколицая колдунья,
Большеглазая девчонка
С фотографии грошовой
Улыбается ему.
1934
Своротя в лесок немного
С тракта в город Хмельник,
Упирается дорога
В запущенный пчельник.
У плетня прохожих сторож
Окликает строго.
Нелюдим безногий Дорош,
Старый Молибога.
В курене его лежанку
Подпирают колья.
На стене висит берданка,
Заряжена солью.
Зелены его медали
И мундир заштопан,
Очи старые видали
Бранный Севастополь.
Только лучше не касаться
Им виданных видов.
Ушел писаным красавцем,
Пришел – инвалидом.
Скрипит его деревяшка,
Свистят ему дети.
Ой, как важко, ой, как тяжко
Прожить век на свете!
Сорок лет он ставит ульи,
Вшей в рубахе ищет.
А носатая зозуля
На яворе свищет.
Жена его лежит мертвой,
Сыны бородаты,—
Свищет семьдесят четвертый,
Девяносто пятый.
Лишь от дочери Глафиры
С ним остался внучек.
Дорош хлопчика цифири,
Писанию учит.
Раз в году уходит старый
На село в сочельник.
Покушает кутьи-взвара —
И опять на пчельник.
Да еще на пасху к храму
В деревню, где вырос,
Прибредет и станет прямо
С певчими на клирос,
Слепцу кинет медяк в чашку,
Что самому дали.
Скрипит его деревяшка,
На груди – медали.
Что с людьми стряслось в столице —
Не поймет он дел их.
Только стал народ делиться
На красных и белых.
Да от тех словес ученых,
От мирской гордыни
Станут ли медвяней пчелы,
Сахарнее дыни?
Никакого от них прока.
Ни сыро ни сухо…
Сие – речено в пророках —
Томление духа.
Жарок был дождем умытый
Тот солнечный ранок.
Пахло медом духовитым
От черемух пьяных.
У Дороша ж, хоть и жарко,
Ломит поясницу,
Прикорнул он на лежанку.
Быль сивому снится.
Сон голову к доскам клонит,
Как дыню-качанку…
Несут вороные кони
На пчельник тачанку.
В ней сидят, хмельны без меры,
Шумны без причины,
Удалые офицеры,
Пышные мужчины.
У седых смушковых шапок
Бархатные тульи.
Сапогами они набок
Покидали ульи.
Стали, лаючись погано,
Лакомиться медом,
Стали сдуру из наганов
Стрелять по колодам,
По белочке-баловнице,
Взлетевшей на тополь.
Дорошу ж с пальбы той снится
Бранный Севастополь.
Закоперщик и заводчик
Всех делов греховных,
Выдается середь прочих
Усатый полковник.
Зубы у него – как сахар,
Усы – как у турка,
Волохатая папаха,
Косматая бурка.
И бежит – случись тут случай —
На тот самый часик
С речки Молибогин внучек,
Маленький Ивасик.
Он бегом бежит оттуда,
Напуган стрельбою,
Тащит синюю посуду
С зеленой водою.
Увидал его и топчет
Ногами начальник,
Кричит ему: «Поставь, хлопчик,
На голову чайник!
Не могу промазать мимо,
Попаду не целя.
Разыграем пантомиму
Из „Вильгельма Телля“!»
Он платочком ствол граненый
Обтирает белым,
Подымает вороненый
Черный парабеллум.
Покачнулся цвет черемух,
Звезды глав церковных.
Друзья кричат: «Промах! Промах,
Господин полковник!»
Видно, в очи хмель ударил
И замутил мушку.
Погиб парень, пропал парень,
А ни за понюшку!
Выковылял на пасеку
Старый Молибога.
«Проснись, проснись, Ивасику,
Усмехнись немного!»
Брось, чудак! Пустяк затеял!
Пуля бьется хлестко.
Ручки внуковы желтее
Церковного воска.
Скрипит его деревяшка,
На труп солнце светит…
Ой, как важко, ой, как тяжко
Жить с людьми на свете!
С того памятного ранку
Дорош стал сутулей.
Он забил свою берданку
Не солью, а пулей.
А до города дорога —
Три версты, не дале.
Надел мундир Молибога,
Нацепил медали…
За то дело за правое
И совесть не взыщет!
В пути ему на яворе
Зозуленька свищет.
Насвистала сто четыре.
Чтой-то больно много…
На полковницкой квартире
Стоит Молибога.
Свербит стертая водянка,
И ноги устали.
На плече его – берданка,
На груди – медали.
Денщик угри обзирает
В зеркальце стеклянном,
Русый волос натирает
Маслом конопляным.
Сапоги – игрушки с виду,
Чай, ходить легко в них…
«Спытай, друже: к инвалиду
Не выйдет полковник?»
Лебедем из кухни статный
Денщик выплывает,
Ворочается обратно,
Молвит: «Почивают».
В мундир въелся, как обида,
Колючий терновник…
«Так не выйдет к инвалиду
Говорить полковник?»
И опять из кухни статный
Денщик выплывает.
Ворочается обратно,
Молвит: «Выпивают».
Подали во двор карету,
И вышел из спальни
Малость выпивший до свету
Румяный начальник.
Зубы у него – как сахар,
Усы – как у турка,
Волохатая папаха,
Косматая бурка.
Стоит в кухне Молибога
На той деревяшке,
Блестят на груди убого
Круглые медяшки.
Так и виден Севастополь
В воинской осанке.
Весь мундир его заштопан,
На плече – берданка.
«Что тут ходят за герои
Крымской обороны?
Ну, в чем дело? Что такое?
Говори, ворона!»
Дорош заложил патроны,
Отвечает строго:
«Я не знаю, кто ворона,
А я – Молибога.
Я судьбу твою открою,
Как сонник-толковник.
С севастопольским героем
Говоришь, полковник!
Я с дитятей не проказил,
По садкам не лажу,
А коли уж ты промазал,
Так я не промажу!»
Побежал на полуслове
Полковник к карете.
Грянь, берданка! Нехай злое
Не живет на свете!
Валится полковник в дверцы
Срубленной ольхою,
Он хватается за сердце
Белою рукою,
Никнет головой кудрявой
И смертельно дышит…
За то дело за правое
И совесть не взыщет!..
Наставили в Молибогу
Кадеты наганы,
Повесили Молибогу
До горы ногами.
Торчит его деревяшка,
Борода – как знамя…
Ой, как важко, ой, как тяжко
Страдать за панами!
Большевики Молибогу
Отнесли на пчельник,
Бежит мимо путь-дорога
В березняк и ельник.
Он закопан между ульев,
Дынных корневищей,
Где носатая зозуля
На яворе свищет.
1934








