Избранные произведения
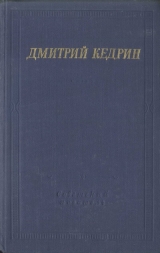
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Дмитрий Кедрин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
115. «О твоей ли, о моей ли доле…»
Шли пленные шагом усталым
Без шапок. В поту и в пыли
При всех орденах генералы
В колонне их – первыми шли.
О чем эти люди грустили?
Сбывался их сон наяву:
Без выстрела немцев пустили
В столицу России – Москву.
Здесь пленные летчики были.
Искал их потупленный взгляд
Домов, что они разбомбили
Недавно – три года назад.
Но кровель нагретые скаты
Тянулись к июльским лучам,
И пленных глаза – виновато
Глядели в глаза москвичам.
Теперь их смешок был угодлив:
«Помиримся! Я не жесток!
Я дьявольски рад, что сегодня
Окончил поход на Восток!»
Простить их? Напрасные грезы!
Священная ярость – жива!..
Их слезы – те самые слезы,
Которым не верит Москва!
У девушки в серой шинели
По милому сердце болит,
Бредя по московской панели,
Стучит костылем инвалид…
Ведь если б Восток их не встретил
Упорством своих контратак —
По солнечным улицам этим
Они проходили б не так!
Тогда б под немецкою лапой
Вот этот малыш умирал,
В московском отделе гестапо
Сидел бы вон тот генерал…
Но, смяты военною бурей,
Проварены в русском котле,
Они лишь толпою понурой
Прошли по московской земле.
За ними катились машины,
На камни струилась вода,
И солнца лучи осушили
Их пакостный след – навсегда.
22 июля 1944
116. «Месяц однорогий…»
О твоей ли, о моей ли доле,
Как ты всё снесла, как я стерпел,—
На рассвете, на рассвете в поле,
В чистом поле жаворонок пел?
Что ж осталось, что же нам осталось?
Потерпи хоть час, хоть полчаса…
Иссеклась, поблекла, разметалась
Та коса, заветная коса!
Я не знаю, я и сам не знаю —
Наша жизнь долга иль коротка?
Дом ли строю, песню ль запеваю —
Молкнет голос, падает рука!
Скоро, друг мой нежный, друг мой милый,
Голосистый жаворонок тот
Над моею, над твоей могилой
Песню, чудо-песню запоет.
24 июля 1944
117. ПОБЕДА
Месяц однорогий
Выплыл, затуманясь.
По степной дороге
Проходил германец.
С древнего кургана
В полусвете слабом
Скалилась нагая
Каменная баба.
Скиф ладонью грубой
В синем Заднепровье
Бабе мазал губы
Вражескою кровью.
Из куска гранита
Высечены грубо,
Дрогнули несыто
Идоловы губы.
Словно карауля
Жертву среди ночи,
На врага взглянули
Каменные очи.
Побежал германец
По степной дороге,
А за ним хромали
Каменные ноги.
Крикнул он, шатаясь,
В ужасе и в муке,
А его хватали
Каменные руки…
Зорька на востоке
Стала заниматься.
Волк нашел в осоке
Мертвого германца.
2–3 октября 1944
118. «Был слеп Гомер, и глух Бетховен…»
Шло донское войско на султана,
Табором в степи широкой стало,
И казаки землю собирали —
Кто мешком, кто шапкою бараньей.
В холм ее, сырую, насыпали,
Чтоб с кургана мать полуслепая
Озирала степь из-под ладони:
Не пылят ли где казачьи кони?
И людей была такая сила,
Столько шапок высыпано было,
Что земля струей бежала, ширясь,
И курган до звезд небесных вырос.
Год на то возвышенное место
Приходили жены и невесты,
Только, как ни вглядывались в дали,
Бунчуков казачьих не видали.
Через три-четыре долгих года
Воротилось войско из похода,
Из жестоких сеч с ордой поганой,
Чтобы возле прежнего кургана
Шапками курган насыпать новый —
Памятник годины той суровой.
Сколько шапок рать ни насыпала,
А казаков так осталось мало,
Что второй курган не вырос выше
Самой низкой камышовой крыши.
А когда он встал со старым рядом,
То казалось, если смерить взглядом,
Что поднялся внук в ногах у деда…
Но с него была видна победа.
14 ноября 1944
119. ИНФАНТА
Был слеп Гомер, и глух Бетховен,
И Демосфен косноязык.
Но кто поднялся с ними вровень,
Кто к музам, как они, привык?
Так что ж педант, насупясь, пишет,
Что творчество лишь тем дано,
Кто остро видит, тонко слышит,
Умеет говорить красно?
Иль им, не озаренным духом,
Один закон всего знаком —
Творить со слишком добрым слухом,
Со слишком длинным языком?
1944
1
Шлейфы дам и перья франтов
Не трепещут в блеске бала.
Молчалив покой инфанты
В глубине Эскуриала.
Там замкнулась королева
С королем, своим супругом.
Дочь их тяжко заболела
Изнурительным недугом.
Зря епископ служит мессу,
Лекарь бьется, маг ворожит,—
Захворавшую принцессу
Исцелить никто не может!
Где он, взгляд живой и пылкий,
Полный негою любовной?
Еле-еле бьется жилка
На руке ее бескровной.
Говорит король в томленье:
«Я бы дал врачу, как сыну,
За инфанты исцеление
Королевства половину!»
«Если б снять недуг с инфанты, —
Королева шепчет слабо, —
Я бы все мои брильянты
Иезуитам отдала бы!»
Меж родных нашедший место,
От сердечной скорби бледный,
Наклонился над принцессой
Португальский принц наследный.
«Если б стала донья крепче —
Я пошел бы, как скиталец,
К божью гробу!» – жарко шепчет
Безутешный португалец.
И, своим владыкам силясь
Пособить в беде их черной,
Из угла тихонько вылез
Бородатый шут придворный.
«Мой король! – сказал он грустно. —
Много раз встречал в беде я
Врачевателей искусных
Средь проклятых иудеев.
Этот род достоин смеха,
Обречен костру и шпаге,
Но вчера в Мадрид приехал
Рабби Симха из Гааги.
Мертвецы встают из гроба,
Если он прикажет: „Встаньте!“
Повелитель мой! Попробуй —
Позови его к инфанте!»
2
Королю поклон отвесив
И томясь придворным блеском,
Врач стоит перед принцессой
В пышной спальне королевской.
Тяготит его повязка
С желтым знаком иудея!..
На щеках инфанты краска
Выцветает, холодея.
Не встает она с постели,
Дышит слабо и неровно,
Жилка бьется еле-еле
На руке ее бескровной.
А вокруг – безлюдны залы,
Тишина в дворце просторном.
«У принцессы крови мало! —
Говорит еврей придворным.—
Злой недуг ее погубит,
Унесет или состарит.
Кто инфанту больше любит,
Тот ей кровь свою подарит!»
При словах его, как дети,
Царедворцы задрожали.
«Кровь моя, – король ответил,—
Это кровь моей державы!»
Королева, хмуря брови,
Отвечала: «Разве мало
Я дала инфанте крови
В день, когда ее рожала?»
Принц глядел в окно куда-то,
Теребя свои перчатки.
Он сказал, что кровь солдату
Лить прилично только в схватке…
Врач, блестя холодным взглядом,
Вынул скальпель и реторту:
«Сам я крови сколько надо
Дам инфанте полумертвой,
Чтоб поверили в науку,
Возвращающую силу!..»
Обнажил худую руку
И ножом надрезал жилу.
3
120. МАТЬ
Кровь инфанты стала жаркой,
Хворь ее прошла бесследно.
С ней гуляет в старом парке
Португальский принц наследный.
1944
121. «Такой ты мне привиделась когда-то…»
Любимого сына старуха в поход провожала,
Винцо подносила, шелковое стремя держала.
Он сел на коня и сказал, выезжая в ворота:
«Что ж! Видно, такая уж наша казачья работа!
Ты, мать, не помри без меня от докуки и горя:
Останусь в живых – так домой ворочусь из-за моря.
Жди в гости меня, как на север потянутся гуси!..»
– «Ужо не помру! – отвечала старуха. – Дождуся!»
Два года она простояла у тына. Два года
На запад глядела: не едет ли сын из похода?
На третьем году стала смерть у ее изголовья.
«Пора! – говорит. – Собирайся на отдых, Прасковья!»
Старуха сказала: «Я рада отдать тебе душу,
Да как я свою материнскую клятву нарушу?
Покуда из дома хлеб-соль я не вынесу сыну,
Я смертное платье свое из укладки не выну!»
Тут смерть поглядела в кувшин с ледяною водою.
«Судьбина, – сказала, – грозит ему горькой бедою:
В неведомом царстве, где небо горячее сине,
Он, жаждой томясь, заблудился в безводной пустыне.
Коль ты мне без спору отдашь свое старое тело,
Пожалуй, велю я, чтоб тучка над ним пролетела!»
И матери слезы упали на камень горючий,
И солнце над сыном затмилось прохладною тучей.
И к влаге студеной припал он сухими губами,
И мать почему-то пришла удалому на память.
А смерть закричала: «Ты что ж меня, баба, морочишь?
Сынка упасла, а в могилу ложиться не хочешь?»
И мать отвечала: «Любовь, знать, могилы сильнее!
На что уж ты – сила, а что ты поделаешь с нею?
Не гневайся, матушка. Сядь. Подожди, коли хочешь,
Покуда домой из похода вернется сыночек!»
Смерть глянула снова в кувшин с ледяною водою.
«Судьбина, – сказала, – грозит ему новой бедою:
Средь бурного моря сынок твой скитается ныне,
Корабль его тонет, он гибнет в глубокой пучине.
Коль ты мне без спору отдашь свою грешную душу,
Пожалуй, велю я волне его кинуть на сушу!»
И смерть замахнулась косой над ее сединою.
И к берегу сына прибило могучей волною,
И он заскучал по родному далекому дому
И плетью своей постучал в подоконник знакомый.
«Ну! – молвила смерть. – Я тут попусту времечко трачу!
Тебе на роду написали, я вижу, удачу.
Ты сыну, не мне, отдала свою душу и тело.
Так вот он стучится. Милуйся же с ним, как хотела!»
1944
122. «Ты говоришь, что наш огонь погас…»
Такой ты мне привиделась когда-то:
Молочный снег, яичная заря.
Косые ребра будки полосатой,
Чиновничья припрыжка снегиря.
Я помню чай в кустодиевском блюдце,
И санный путь, чуть вьюга улеглась,
И капли слез, которые не льются
Из светло-серых с поволокой глаз…
Что ж! Прав и я: бродяга – дым становий,
А полководец – жертвенную кровь
Любил в тебе… Но множество любовей
Слилось в одну великую любовь!
1944
123. «Юность! Ты не знаешь власти детских ручек…»
Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою,
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно куда старее нас…
1944
124. «Ночь поземкою частой…»
Юность! Ты не знаешь власти детских ручек,
Голоска, что весел, ломок и высок.
Ты не понимаешь, что, как звонкий ключик,
Сердце открывает этот голосок!
1944
Кайсыну Кулиеву
125. ЗАДАЧА
Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе. Здравствуй!
Офицер Шамиля.
Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.
Искры святочной ваты
В полутьме голубой…
Верно, в дни Газавата
Мы встречались с тобой.
Смолкла ярость былая,
Примириться веля,
Я – гусар Николая,
Ты – мюрид Шамиля.
Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».
Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас
Кабардинцу – Россию,
Славянину – Кавказ?
Эта сила – не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.
И, как Байрон, хромая,
Проходил к очагу…
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,—
В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,
И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.
К утру пней налипнет
На сосновых стенах…
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!
10 февраля 1945
126. «В заштопанных косынках полотняных…»
Мальчик жаловался, горько плача:
«В пять вопросов трудная задача!
Мама, я решить ее не в силах,
У меня и пальцы все в чернилах,
И в тетради места больше нету,
И число не сходится с ответом!»
– «Не печалься! – мама отвечала.—
Отдохни и всё начни сначала!»
Жизнь поступит с мальчиком иначе:
В тысячу вопросов даст задачу.
Пусть хоть кровью сердце обольется —
Всё равно решать ее придется.
Если скажет он, что силы нету,—
То ведь жизнь потребует ответа!
Времени она оставит мало,
Чтоб решать задачу ту сначала,—
И покуда мальчик в гроб не ляжет,
«Отдохни!» – никто ему не скажет.
1 марта 1945
127. КАК МУЖИК ОБИДЕЛСЯ
В заштопанных косынках полотняных,
Для праздника отмытых добела,
Толпа освобожденных полонянок
По городу готическому шла.
А город был купеческий, старинный,
Глухой, как погреб, прочный, как тюрьма.
Склонявшийся над свечкой стеаринной,
В нем Гофман медленно сходил с ума.
В домах, за стеклами в стрельчатых рамах,
Полночный, буйный факультетский пир
Справляли бурши в синеватых шрамах —
Следах тупых студенческих рапир.
Морщинистой рукой котенка гладя,
Поднявши чашечку в другой руке,
Он пил свой кофе – в байковом халате,
В пошитом из фланели колпаке.
Румянец выступал на щечках дряблых,
Виски желтели, как лежалый мел.
В неволе ослепленный гарцский зяблик
Над старичком в плетеной клетке пел.
Апрель 1945
128. «Всё мне мерещится поле с гречихою…»
Никанор первопутком ходил в извоз,
А к траве ворочался до дому.
Почитай, и немного ночей пришлось
Миловаться с женой за год ему!
Ну, да он был старательный мужичок:
Сходит в баньку, поест, побреется,
Заберется к хозяюшке под бочок —
И, глядишь, человек согреется.
А Матрена рожать здорова была!
То есть экая баба клятая:
Муж на пасху воротится – тяжела.
На крещенье придет – брюхатая!
Никанор, огорченья не утая,
Разговор с ней повел по-строгому:
«Ты, Матрена, крольчиха, аль попадья?
Снова носишь? Побойся бога, мол!»
Тут уперла она кулаки в бока:
«Спрячь глаза, – говорит, – бесстыжие!
Аль в моих куличах не твоя мука?
Все ребята в тебя. Все – рыжие!»
Начала она зыбку качать ногой,
А мужик лишь глазами хлопает:
На коленях малец, у груди – другой,
Да еще трое лазят по полу!
Он, конечно, кормил их своим трудом,
Но, однако же, не без жалобы:
«Положительно, граждане, детский дом:
На пять баб за глаза достало бы!»
Постарел Никанор. Раз – глаза протер,
Глядь-поглядь, а ребята взрослые.
Стал Никита – шахтер, а Федот – монтер,
Все – большие, ширококостые!
Вот по горницам ходит старик, ворча:
«Без ребят обернулся где бы я?
Захвораю, так кличу сынка-врача,
Лук сажу – агронома требую!
Про сынов моих слава идет окрест,
Что ни дочка – голубка сизая!
А как сядут за стол на двенадцать мест,
Так куда тебе полк – дивизия!..»
Поседела Матренина голова:
Уходилась с такою оравою.
За труды порешила ее Москва
Наградить «Материнской славою».
Муж прослышал и с поля домой попер,
В тот же вечер с хозяйкой свиделся.
«Нынче я, – заявляет ей Никанор,—
На Верховный Совет обиделся.
Нету слов, – говорит, – хоть куда декрет:
Наградить тебя – дело нужное,
Да в декрете пустячной статейки нет:
Про мои про заслуги, мужние!
Наше дело, конешно, оно пустяк.
Но меня забижают, вижу я:
Тут, вертись не вертись, а ведь как-никак —
Все ребята в меня. Все – рыжие!
Девять парней – что соколы, и опять —
Трое девок, и все – красавицы!
Ты Калинычу, мать, не забудь сказать:
Без опары пирог не ставится.
Уж коли ему орден навесить жаль,
Всё ж пускай обратит внимание
И велит мужикам нацеплять медаль —
Не за доблесть, так за старание.
Коль поправку мою он внесет в декрет —
Мы с тобой, моя лебедь белая,
Поживем-поживем да под старость лет
Октябренка, глядишь, и сделаем!»
4 мая 1945
129. МЫШОНОК
Всё мне мерещится поле с гречихою,
В маленьком доме сирень на окне,
Ясное-ясное, тихое-тихое
Летнее утро мерещится мне.
Мне вспоминается кляча чубарая,
Аист на крыше, скирды на гумне,
Темная-темная, старая-старая
Церковка наша мерещится мне.
Чудится мне, будто песню печальную
Мать надо мною поет в полусне,
Узкая-узкая, дальняя-дальняя
В поле дорога мерещится мне.
Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,
Комната с пестрым ковром на стене?
Милое-милое, давнее-давнее
Детство мое вспоминается мне.
13 мая 1945
130. «На кладбище возле домика…»
Что ты приходишь, горбатый мышонок,
В комнату нашу в полуночный час?
Сахарных крошек и фруктов сушеных
Нет и в помине в буфете у нас.
Бедный мышонок! Из кухонь соседних,
Верно, тебя выгоняют коты.
Знаешь ли? Мне, мой ночной собеседник,
Кажешься слишком доверчивым ты!
Нрав домработницы нашей – не кроткий:
Что, коль незваных гостей не любя,
Вдруг над тобой занесет она щетку
Иль в мышеловку изловит тебя?..
Ты поглядел, словно вымолвить хочешь:
«Жаль расставаться с обжитым углом!»,
Словно согреться от холода ночи
Хочешь моим человечьим теплом.
Чудится мне, одиночеством горьким
Блещут чуть видные бусинки глаз.
Не потому ли из маленькой норки
Ты и выходишь в полуночный час?..
Что ж! Пока дремлется кошкам и людям
И мышеловок не видно вокруг, —
Мы с тобой все наши беды обсудим,
Мой молчаливый, мой маленький друг!
Я – не гляди, что большой и чубатый,—
А у соседей, как ты, не в чести.
Так приходи ж, мой мышонок горбатый,
В комнату к нам – и подольше гости!
15 мая 1945
131. «Ой, на вербе в поле…»
На кладбище возле домика
Весна уже наступила:
Разросшаяся черемуха,
Стрекающая крапива.
На плитах щербатых каменных
Любовники ночью синей
Опять возжигают пламенник
Природы неугасимой.
Так трется между жерновами
Бессмертный помол столетий…
Наверное, скоро новые
В поселке заплачут дети.
2 июня 1945
132. Я
Ой, на вербе в поле
Черный ворон крячет,
У врага в неволе
Полонянка плачет.
Смотрит, затуманясь,
Как на тын высокий
Вешает германец
Проволоку с током…
Барахля мотором,
По щебенке хрупкой
Мимо в крематорий
Мчится душегубка.
В ней – казак, с губами,
Что краснее мака.
В газовую баню
Повезли казака.
Больше полонянка
Не обнимет парня…
Встал на полустанке
Порожняк товарный.
В ноги Украине
Поклонись, Ганнуся,
С каторги доныне
Разве кто вернулся?..
Язычище мокрый
Вываливши жарко,
На дивчину смотрит
Рыжая овчарка.
И на всю округу
Тянет обгорелым
Тошнотворным духом —
Человечьим телом.
Утро просыпаться
Начало, мерцая,
На постах в два пальца
Свищут полицаи.
Но над чьей засадой,
В синеве купаясь,
Вьется чернозадый,
Красноногий аист?
Почему, росою,
Как слезами, полный,
Встал среди фасоли
Сломанный подсолнух?
Видно, близко-близко
У степных колодцев
В автоматы диски
Заложили хлопцы!
2 июня 1945
133. «Нам, по правде сказать, в этот вечер…»
Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.
Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё стремящийся потерять.
Июнь 1945
Л. К.
134. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ
Нам, по правде сказать, в этот вечер
И развлечься-то словно бы нечем:
Ведь пасьянс – это скучное дело,
Книги нет, а лото надоело…
Вьюга, знать, разгуляется к ночи:
За окошком ненастье бормочет,
Ветер что-то невнятное шепчет…
Завари-ка ты чаю покрепче,
Натурального чаю, с малиной:
С ним и ночь не покажется длинной!
Да зажги в этом сумраке хмуром
Лампу, ту, что с большим абажуром.
У огня на скамеечке низкой
Мы усядемся тесно и близко
И, чаек попивая из чашек,
Дай-ка вспомним всю молодость нашу,
Всю, от ветки персидской сирени
(Положи-ка мне ложку варенья)
До рассвета на узком диване
(Ишь ведь как ты полно наливаешь!).
Вспомню я, – мы теперь уже седы, —
Как ты раз улыбнулась соседу,
Вспомнишь ты, – что уж нынче за счеты, —
Как пришел под хмельком я с работы,
Вспомним ласково, по-стариковски,
Нашей дочери русые коски,
Вспомним глазки сынка голубые
И решим, что мы счастливы были,
Но и глупыми всё же бывали…
Постели-ка ты мне на диване:
Может, мне в эту ночь и приснится,
Что ты стала опять озорницей!
5 июля 1945
135. УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙЩИК
…Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!
У нас васильки собирай хоть охапкой.
Сегодня прошел замечательный дождик —
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой.
Он брызнул из маленькой-маленькой тучки
И шел специально для дачного леса,
Раскатистый гром – его верный попутчик —
Над ним хохотал, как подпивший повеса.
На Пушкино в девять идет электричка.
Послушайте, вы отказаться не вправе:
Кукушка снесла в нашей роще яичко,
Чтоб вас с наступающим счастьем поздравить!
Не будьте ленивы, не будьте упрямы.
Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте.
В кокетливых шляпах, как модные дамы,
В лесу мухоморы стоят на пуанте.
Вам будет на сцене лесного театра
Вся наша программа показана разом:
Чудесный денек приготовлен на завтра,
И гром обеспечен, и дождик заказан!
6 июля 1945
Литейщик был уральцем чистой крови
Из своенравных русских стариков.
Над стеклами его стальных очков
Топорщились седеющие брови.
Куда был непоседлив старичок!
Таким июльский день и тот – короткий.
Торчал из клинышка его бородки
Прокуренный вишневый мундштучок.
В сатиновой косоворотке черной
Ходил литейщик, в ветхом пиджаке,
По праздникам копался в цветнике
Да чижику в кормушку сыпал зерна.
Читал газету, морщась, выпивал
Положенную чарку за обедом
И, в шашки перекинувшись с соседом,
Чуть вечер, беззастенчиво зевал.
Зато землею формы набивать
Он почитал не ремеслом, а счастьем.
Литейных дел он был великий мастер
И мог бы кружево отформовать.
Как он доволен был, когда в дыму
В цеху его ряды опок стояли!..
Художество – не в косном матерьяле,
А только в отношении к нему.
Литейщик сам трудился дотемна
И тех шпынял, кто попусту толчется.
Он вел свой честный род от пугачевцев,
И от раскольников вела жена.
Крутой литейный мастер в страхе божьем
Держал свою рабочую семью,
Жену, подругу верную свою,
С которой он полвека мирно прожил.
Хоть со старухой муж и не был груб,
А только строг, – всё улыбались горько,
По-стариковски собранные в сборку,
Углы ее когда-то пухлых губ.
Она вставала, чуть светал восток,
И позже всех ложилась каждый вечер,
Был накрест через узенькие плечи
Накинут теплый шерстяной платок.
И вся семья устойчиво лежала
На этих хрупких сухоньких плечах.
Та область жизни, где стоит очаг,
Была ее старушечья держава.
Без вот такой молчальницы покорной
Семья – глядишь – и превратится в труп.
Не так ли точно коренастый дуб
Незримые поддерживают корни?
Всё в домике блестело: и киот,
Что от детей спасло ее старанье,
И на окошке свежие герани,
И маленький ореховый комод,
Где семь слонов фарфоровых на счастье
По росту кто-то выстроил рядком,
Где подавал ей руку крендельком
На старом фото моложавый мастер.
И тот диван с расшитою подушкой,
Где сладко муж похрапывал во сне,
И мирно тикавшие на стене
Часы с давно охрипшею кукушкой.
Уже гражданских бурь прошла пора,
А домик оставался неизменен.
Лишь в зальце к литографии Петра
Прибавился однажды утром – Ленин.
Соседство взгляды вызвало косые
Детей, не почитавших старину,
Не знавших, как сливаются в одну
Реку все русла разные России.
Судьба ребят послала старикам,
Чтоб им под старость не истосковаться.
Литейщик отыскал для сына в святцах
Диковинное имя – Африкан.
И не один мальчишеский грешок
Старуха терпеливо покрывала,
И все-таки не раз гулял, бывало,
По сыну жесткий батькин ремешок.
Мальчишка рос веселый, озорной,
Он был крикун, задира, голубятник.
Зимою, выряжен в отцовский ватник,
На лыжах бегал в школу, а весной
В лес уходил с заржавленной двустволкой
В болотных заскорузлых сапогах
И сладко отсыпался на стогах,
Мечтая встретить лося или волка.
Старуха дочь назвала Анной – Анкой.
Моложе брата на год в аккурат,
Она была куда смирней, чем брат,
Росла в семье задумчивой смуглянкой.
Девчонка рукодельницей была.
Отец теплел, когда она, бывало,
Зимой у печки за шитьем певала
Всё про Катюши сизого орла.
«Клад, а не девка! – говорили все. —
Красавицею будет, не иначе!»
И девочку фотограф снял бродячий
С цветущими ромашками в косе.
Как водится, меж братом и сестрой
Бывали часто маленькие драки,
Но против уличного забияки
Мальчишка за сестру вставал горой.
Порою он, почесывая зад,
Бежал к отцу, – но тот судил иначе:
«Коль бьют – дерись! А если не дал сдачи —
Не жалуйся: кто бит, тот виноват!»
Как водится, любимицей отцовской
Была задумчивая Анка, дочь.
А мать ходила за сынком, точь-в-точь
Как олениха за своим подсоском.
А жизнь с собой несла событий короб.
Был ход ее то горек, то смешон:
Сестра переболела коклюшом,
Брат ненароком провалился в прорубь.
Потом отцовской бритвою усы
Впервые сбрил мальчишка неумело.
И вот однажды, глядя на часы,
Старик сказал: «Пора тебе за дело!
Не век тебе, – добавил он сурово,—
По улицам таскаться день-деньской».
И стал мальчишка в школе заводской
Вникать помалу в ремесло отцово.
И правда: детство тянется не век,
Любовью материнскою согрето…
Врачи худую девочку в то лето
Подзагореть отправили в Артек.
1945








