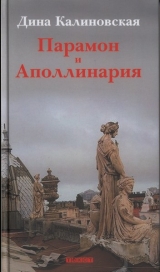
Текст книги "Парамон и Аполлинария"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
На другом берегу на выпасе один-единственный теленочек, забытый, наверно, и голодный, мычал, тянул мордочку во все стороны, а никто за ним не шел, и так жалко стало его Парамону, такими безнадежными показались телячьи призывы, что и сам заплакал.
Отставала лебедь бела-а-ая… —
негромко гуляла свадебка.
Тетя Маша Зайцева со снохой в красной лодке и на красных веслах пришлепали из слободы домой, устало вытащили лодку на красный берег.
– Парамон! Чего это у нас – свадьба?
Отмахнулся.
– Парамон! Поди, чего-ит дадим!
Не пошел.
– Парамо-оня! – протяжно кликнула мамка из окошка. – Ужинать!
Не отозвался, однако встал – мамка дважды не позовет, а раздаст кисель братьям, такое у нее правило. Перед тем как уйти, всей силой качнул под собой плотик. Заходили тугие, неторопливые круги по красной воде, а из-под плотика тенью метнулся вспугнутый рак. Сегодня, как совсем потемнеет, вспомнил Парамон, братья собирались ловить раков на огонь. Надо было и себе успеть факел сделать.
СНЫ И ПЕСНИ
Женщины в палате говорили – пять минут. Пять-десять, редко пятнадцать. Одним словом, чепуха. На эти пять или пятнадцать имеется, кроме того, уйма отличных отвлечений. Лучшее – вообразить себя мухой и мушиным шагом и с мушиной скоростью пройти по потолку. Тут главное – не останавливаться и не терять направления. Пока дойдешь, все будет позади. А можно тонко щипать кожу на руке или ляжке, можно кусать палец на суставе, тоже хорошо отвлекает.
Женщины были здесь не первый раз, а одна даже четырнадцатый. Она как будто гордилась своеобразным рекордом, и женщины смотрели на нее как бы с восхищением. Но когда сестра стала приглашать в операционную, она не пошла первой, хотя все настойчиво уступали ей право пойти первой. Тогда первой пошла Фридка.
И белой пропастью разверзлась боль и в мгновенье поглотила и бледный полдень, и кафельные стены, никель, блики, голоса. Померкли лица, повисли, не долетев, чьи-то слова, какие-то вопросы. Надо было отвлечь себя, надо было думать о чем-нибудь важном, надо было попробовать стать мухой, но подлая боль вонзилась с деловым металлическим клацаньем и захлопнула все выходы сознания. Только ненависть к себе вырывалась наружу безобразным рваным воплем.
– Не кричи, отправлю в класс.
– Она не школьница, доктор, она уже студентка…
В институте прозвище «Фоксик» прилипло к Фридке из-за маленького роста, из-за веселой злости, из-за умения любой самый мирный разговор превратить в свалку. Она умела втянуть в нее всех, кто оказывался поблизости, умела повести дело так, что все втянутые сразу же становились ее противниками. Она любила ошарашивать своей боеспособностью спорщицы, она любила разъярить всех, с насмешливой беспринципностью утверждая то, что только на прошлой неделе отвергала с такой же ураганной страстью, с такой же устрашающей логикой. А переспорив со всей группой, доведя хоть по разу до бешенства каждого, даже болгарочку Раю Христинову, алебастровый сосуд здравого смысла, она никогда ни к кому не испытывала недружелюбия, всегда, чуть отдышавшись после боя, заговаривала первая, одобрительно оглядывая противников с выражением вожака здорово отлаявшейся собачьей стаи.
Вот, к примеру. Стоят они однажды с Костей Утюжко на большом перерыве в коридоре и ждут Шурика, рванувшего в буфет за бутербродами. Костя – спринтер, легкоатлетическая гордость института, вдали от гаревой дорожки меланхолик и лентяй. Ни с того ни с сего Фридка спросила:
– Согласись, Костик, спорт – опиум для народа?
Костя подвигал кадычком и ничего не сказал.
– Молчишь?! – поразилась Фридка, а полминуты тому она и не думала ни о Косте, ни о спорте. – Ну, еще бы! Ты в этой церкви хоть и не поп, а дьячок исправный!
Тут Костя произнес:
– Здрасьте.
– То есть? Ты не согласен, что подло растрачивать душу на психоз футбола?
Костя улегся лопатками на подоконник, растопырил по нему локти, скрещенные ноги вытянул чуть не до середины коридора и, вот так устроившись, поднял выцветшие брови, раздул ноздри облупленного носа и в растяжку спросил:
– Фоксик, любонька, а если человек имеет удовольствие – что?
Когда прибежал Шурик с охапкой сосисок, вокруг них собралось народу – не пробиться. Каждый что-то кричал Фридке, каждому успевала что-то крикнуть она, и слезы азарта текли по ее лицу совсем как слезы о гибнущем человечестве. Так началось.
– У меня спортивный психотип. Прошу отметить, спортивный, а не агрессивный. Я обожаю загонять людей в затруднительные позиции, но бываю счастлива, если они красиво выбираются из них, и несчастна, если застревают, – кокетничала с группой Фридка, когда все спортивные проблемы были решены. – Спортивные характеры, – рассуждала Фридка, – отличаются добродушием…
– И последовательностью, – добавил Костя с любимого подоконника.
Еще нужно было ходить на лекции, и они ходили с Шуриком, не пропускали. И сидели рядом за одним столом, щурились, потому что солнце через открытые окна аудиторий с утра вонзалось в самые глаза. Дремали понемножечку, потому что оно не только ослепляло, но и оглушало. И лица, и голоса преподавателей тонули в его потоке. Было совсем уже лето. Казалось, что сидение на лекциях – ошибка и она должна быть с минуты на минуту исправлена по жестокой небрежности кем-то необъявленным распоряжением. Вот-вот кто-то должен был войти и, так же щурясь, как они тут все щурятся, прочитать по бумажке, что занятия окончены и можно идти. И все разбредутся.
– Пойдем на пляж? – заискивая, спросил Шурик на сопромате.
«Вот и все его заботы. Море ему, пляж. Какой мальчик. Дитя», – несердито подумала Фридка, но отвечать не стала, только тускло посмотрела на него. И он пришибленно замолчал, а на технологии металлов опять заныл:
– Пошли, Фри, в скалках купнемся…
– Иди ты! – теперь уже зло огрызнулась Фридка.
– Фри, ты что? – испуганно зашептал Шурик.
– Говорю, отстань! – зашипела она.
«Привалиться бы где-нибудь на горячей скамейке, – тосковала Фридка, – ни с кем не говорить, ни о чем не думать…»
К прежнему возврата нет, чувствовала Фридка. Все кончено. И ничего, что все кончено, потому, что все было, все, что бывает. И солнце вот так же палило и в том году, и в позатом. И было длинное-длинное детство. И бабушка умерла, и Фридка пережила и смерть, и ее похороны. И была школа, и была долгая любовь в шестом классе к Эдику Миронову и ненависть в седьмом к Надьке Опружак. И было счастье балетной студии. Ноктюрн в шопеновской пачке. И был поход на лиманы, и жареные жаворонки, и змеи в камышах, и песня, которую вдруг сочинила там Фридка. И даже это, с Шуриком, – все, все было, все, что бывает у людей.
– Аустенит. Аустенитная структура, аустенитное состояние… – Голос технолога звал как бы с другого берега. На соседних столах слушали, кто-то даже записывал, а Фридка рисовала в тетрадке фигуры из мятых кружочков, и фигурки получались несчастными.
Вдруг стало жалко Шурика, и Фридка придвинула к нему локоть, и он сразу отдал ей желтые с родинками глаза. Фридка опять подумала: дитя.
– Послушай, какой мне сон снился сегодня.
Ей снилось, как будто перед аптекой на Садовой ставят скульптуру. Молоденькая голая богиня держит опрокинутую амфору шестипалыми руками. А Фридке велено придумать надпись на постаменте. И она придумала, и надпись высекли: «Не все болезни лечатся лекарствами».
– Видишь, придумала. – Фридка имела мучительное свойство страдать от нерешенных задач.
– Ох, мать, и гигант же ты! – А Шурик умел восхищаться. – Гениально!
Таких снов, какие снились ей сейчас, в этом ее состоянии, не было никогда. Бывало, снились погони или лестницы, которым нет конца, или кошки с вещим взглядом, или бездонные ущелья. Теперь же – никаких провалов, никаких кошмаров, ничего давящего. Светлые, законченные сказки, каждый раз, радостно удивляя, вызревали внутри ее сознания, разыгрывались, как спектакль, и так прочно запоминались, что она могла бы и записать их, и нарисовать. Богиня – матовая, голубоватая, а постамент коричневый, гладкий, и вокруг целый лужок фиалок. Раньше снились отрывки чего-то неясного, а тут вот шестипалая красавица, которую нельзя вылечить лекарствами. И Фридка чувствует всю значительность чудного сна.
– Фри, а ведь точно – не все лечат лекарствами! – не уставал восхищаться Шурик. – От старости не лечат, от глупости, от любви!.. Да, Фри? Как от шестого пальца…
– Ледебурит, ледебуритная структура, ледебуритное состояние металла, – слабо неслось с той стороны солнечного потока. Пред экзаменами повторяли основы металловедения.
Был еще сон про Пушкина. Как будто она, Фридка, дружна с ним и идут они рядом по песчаной дорожке между газонов и фонтанов, совсем рядом – рукав туристской штормовки касается рукава зеленой бекеши… Пушкин о чем-то говорит, о чем-то доверительно важном, возможно, о стихах, но Фридка не может внимательно слушать его, потому что чувствует, их дружба вот-вот оборвется, уже обрывается, что синее платье и атласные туфли – лица она не видит, из гордости не хочет поднять глаза на лицо, – а синее платье и бальные туфли принадлежат той, кто есть часть самого Пушкина. Опять же из гордости, больно, мол, надо, зная, что все пропало, развязным злым голосом грубит: «И эта мадам называется Гончаровой?» А Пушкин откидывает руку ладонью вверх, нежно улыбается Фридке, все понимая и жалея ее, и, вмещая в улыбку еще и грусть от вынужденной жестокости, виновато говорит: «Мне ли не любить Наташи!» А Фридка тут же, во сне, устыдилась своей неизящности, своих вульгарных интонаций и от неловкости пропала из сна, хотя продолжала видеть влажные газоны, радостную походку Пушкина и синее платье, с уверенностью плывущее навстречу ему. Такой сон.
– Смотри, что я выменял на жокейку! – Шурик положил на тетрадь пачку американских сигарет.
Фридка раскрыла пластмассовую коробку, вдохнула и отшатнулась от тошной и сладкой табачной струи.
– Убери, дурак!..
– Вы что-то спросили? – аукнул с того берега математик.
– Нет… То есть можно мне выйти?
– Вам плохо? – Фридка держала руку на горле.
– Фоксик? – всполошился Шурик, зашуршал ресницами.
Фридка слабо отмахнулась, мол, обойдется, и вышла через холодный, как операционная, вестибюль во двор, на асфальтное пекло.
Цепляя плечом за стену, приникая к ней то спиной, то лицом, переставляя ладони по горячим кирпичам, отрывисто вдыхая запах кирпичной пыли, старой известки и разогретого гудрона, Фридка вдоль высокого цоколя дошла до замкнутого угла, где было особенно горячо. Здесь можно было посидеть на корточках за тополиным кустиком, согреть зазнобившую спину, перебороть, если удастся, тошноту.
От кустика липко пахло. Яркие, блестящие листья его выглядели и здоровее, и увереннее, даже наглее, чем листья большого тополя, чьим незаконнорожденным сыном был кустик. Листья его вертелись на неуловимом ветерке, как ладошки, показывающие, что вымыты. Кустик мог вполне по-человечьи сказать «ку-ку», и нырнуть на минутку под землю, и разровнять над собой разодранный при рождении асфальт, и опять выскочить. А большой тополь так бы не смог… Согревалась спина, согрелись под натянутой юбкой голые колени. От стены не пахло ничем тошнотворным. Невесомая мошка с мешающими в пешеходной жизни крыльцами перебиралась с той кирпичины, где лежал Фридкин нос, на ту, где улегся глаз, через труднопроходимый хребет цементной прослойки. Фридка старалась не дышать, чтобы не поднять урагана в этой местности. И, дождавшись, когда еле видимые волоски ножек засеменили по гладкой равнине, она встала и пошла на могучий зовущий запах жареных пирожков из окон институтского буфета.
Женщины в палате говорили жадно, и слушали жадно, и торопились сказать про себя почему-то самое плохое – как поссорились со свекровью, какой мстительный начальник на работе, как корыстны подруги. Говорили о мужьях – со злобой или с пренебрежением, но никто – хорошо. Та, что была здесь четырнадцатый раз, заикнулась: мой-то… Но ее оборвали: то-то хорошо, бережет тебя, главное. О любви говорили грубо, только о той, что привела их сюда… Ужинать одни не пошли – тошнило, другие, напротив, и поужинали, и подъели домашние припасы – так их меньше тошнило.
ПЕСНЯ, СОЧИНЕННАЯ НА ЛИМАНАХ
Шатер покинут и очаг, не для меня тепло и чад, вокруг котла пусть без меня и врут, и клянчат, и урчат! Коня возьму – он бел и чист, струится грива, взгляд лучист. Клинок возьму – луной обласкан, мой свист во тьму опасно-ясный. На знамени моем – ясность, и в сердце у меня ясность, и клятва первая моя – ясность, и жертва страшная моя – ясность.
Лечу, скачу, ищу, где бой, где прост и ясен спор любой. Мой конь храпит, а я пою балладу буйную мою. Пусть без меня дымит очаг, не для меня тепло и чад, вокруг котла пусть без меня и врут, и клянчат, и урчат! На знамени моем – ясность, и в сердце у меня ясность, и клятва первая моя – ясность, и жертва страшная моя – ясность!
Но вот – рассвет, а боя нет, и ясность утренней звезды пленяет. Мой конь бредет, заря встает, рожок дудит, роса сверкает… И я, усталая, пою балладу тихую мою. На знамени моем – ясность, а в сердце у меня верность, а клятва первая моя – щедрость! Кому отдам души моей нежность, кому отдам руки моей слабость?.. Там без меня горит очаг… Не для меня тепло и чад…
Вокруг котла пусть без меня и врут, и клянчат, и урчат!..
– Не пугайся, деточка, ты просыпаешься.
– Я вращаюсь!.. Какая правильная орбита! Я не человек, я сознающий элемент, нечто… Вращаюсь в глухом и бездонном одиночестве… Некому, кроме меня, осознать багровое окружение… Ключ жизни у меня! В моем сознании, в моем вращении! Вся ответственность – на мне! Я хранительница, я держательница – единственная в красно-коричневых скалах, единственная в гранатовом море, единственная в вечно-закатном небе…
– Все хорошо, все позади, не пугайся… Просыпайся!..
– Я проснулась.
– Все позади, все хорошо…
– Кто мог у меня быть, доктор? Девочка или мальчик?
– Что ты, миленькая, что ты, моя бедняжечка, доктор не может тебе сказать на твоем сроке, что ты!..
– Двойня.
Женщины в палате стали другими – слабыми, усталыми, нежно-удрученными. Они подходили к окнам, махали мужьям с виновато-ободряющими улыбками, растроганно разворачивали передачи, умилялись неуклюжей заботливости. Говорили мало, главным образом о детях. О своих, у кого были свои, о чужих, если своих не было. О вчерашнем почти не вспоминали – случайность, с кем не бывает, но больше нет, никогда. Только та, что была здесь четырнадцатый раз, смеялась, широко показывая на зависть прекрасные зубы чертовки.
Она однажды приснилась Фридке в жутком сне. Как будто стоит у окна в длинной, до полу, рубашке, достает изо рта по одному свои зубы и, плутовски оглядываясь на Фридку, швыряет светящуюся жемчужинку в ночной сад. И считает: сорок шесть, сорок семь, сорок восемь.
– Сколько же у вас зубов?! – в ужасе кричит ей Фридка.
– Сколько захочу! – отвечает та и хохочет. – Сколько за-хо-хо-чу!
Далеко в теплой ночной степи маячил махонький огонек, не останавливаясь, без пути слоняясь туда-сюда, жутковатый. Ребята предположили, что это фонарик, привязанный на рогах пасущейся скотины, чтобы не потерялась ночью. Возможно, так оно и было.
Костер погас, но под рыхлым пеплом что-то еще тлело. Можно было бы подбросить камыша – так, для настроения, но Фридка камыш экономила, даже такого топлива здесь было мало. Объевшиеся макаронами ребята спали. Возле костра валялся бидон из-под шабского. Фридка взяла бидон и пошла к воде ополоснуть. Осторожно нащупала кедом невидимую в темноте кромку, присела. Не трещали лягушки в бочаге, не плескалась рыба на отмели, не толкалась о берег кем-то оставленная лодка. Давно собирался дождь, уже с середины дня не было солнца, а сейчас не было звезд, не пробивалась луна, но ни одна капля еще не ударила по воде, не царапнулась о палатку. Иногда за курганом гулко перепрыгивала с места на место чья-то туго стреноженная лошадь. Фридка бесшумно черпнула бидоном немножко воды, бесшумно поболтала ею, бесшумно вылила в песок.
«Шатер покинут и очаг…» – подумала Фридка и усмехнулась выспренности выскочившей фразы. Они ушли из дому три дня назад, думали – надолго, дней на десять, но только поставили палатку, только искупались по разу в лимане, только развели костер, как на всех напало обжорство, за три дня съели и хлеб, и консервы, вчера – последние макароны, деньги до копейки ушли на шабское, и завтра надо будет возвращаться. Костя Утюжко клялся настрелять уток. Врет, какие здесь утки.
«Шатер покинут и очаг…» – опять подумала Фридка и удивилась охватившему ее предчувствию радостной опасности, счастья и риска. Вот-вот что-то должно было случиться, казалось, воздух задрожал от напряжения вокруг Фридкиной головы. Что же, что? Что будет? Разгуляется лиман океанской волной? Полыхнет на всю вселенную тот махонький таинственный огонечек? Что? Что же? Опрокинется небо на тихую степь? Молнии растерзают мирную непроглядность? Столкнутся солнца? Гром великого разрушения? Буря? Потоп? Бешеная скорость полета? Обновление природы? Что? Что?
«Не для меня тепло и чад…» – пропелось или прошуршалось где-то в камышах.
«А, вот оно – что!.. – ответила Фридка камышам. – Шатер покинут и очаг, не для меня тепло и чад… А, ясно… Но кто это – я? Буквально – я? Глупо… Вокруг котла пусть без меня… Да, да! Пусть! Что?..»
Она оставила бидон на песке, вернулась в лагерь, бесшумно нашарив в кармане рюкзака туристскую карту, карандаш, легла на теплую землю возле костра, дунула в тлеющий глазок. Разметался легкий камышовый пепел, чуть посветлело у самого лица. На обратной стороне карты крупно и почти не останавливаясь, осатаневшая перед невозможной своей отвагой, гордая и изумленная, она записывала свершавшиеся как бы и без ее участия строчки. За курганом, безмерно печалясь о всех, покинувших очаг, длинно вздохнула лошадь. В палатке зашептались ребята, видно, Рая Христинова расталкивала Шурика на дежурство.
«На знамени моем – ясность!» – торопилась Фридка, а кто-то загадочный по-прежнему блуждал по степи с фонарем, не приближаясь, не удаляясь…
Из палатки, зевая, что-то бормоча, вылез Шурик, Фридка слышала, как он натягивает кеды, как пьет из ведра, потягивается. Какие все-таки ребята!.. Как ужасно любила она их сейчас!.. Если бы можно было не расставаться всю жизнь!..
– Фри, купнемся?.. – зашептал Шурик.
– Не холодно? – шепнула она.
– Что ты, вода теплая!.. Я возьму для тебя полотенце!..
– А для себя? Возьми для себя тоже!..
– Ты совсем не спала?..
– Нет…
– Я тоже не хотел спать, но вдруг заснул… Ты не обиделась?..
– Нет…
– Давай здесь, тут песочек… Не смотри, я разденусь…
– Я все равно ничего не вижу… Я не смотрю…
– Иди скорей, вода теплее воздуха!.. Ты меня видишь?
– Нет, совсем не вижу… Ты где?
КАМНИ
Он любил путешествовать и однажды они с Фридкой прошли от Краснодара до Азовского моря. На дамбе через дельту Кубани он на память читал ей «Песнь песней», а мимо неслись грузовики из Краснодара на Темрюк, водители тормозили возле них, приглашая в кузов, но они все же дошли до моря пешком. Потом он увлекся камнями, и они с Фридкой ездили в Среднюю Азию на медные разработки. На самом дне карьера, куда по спиральной дороге они спустились тоже принципиально пешком, хотя отчаянные шоферы гигантских самосвалов зазывали их на подножку, он читал на память целые абзацы из Библии.
«Войска царя ассирийского заполнили землю Ханаанскую, как море заполняет дно свое…» – читал он, и в глазах его стояли слезы.
Осенью они разбирали в его мастерской каменную добычу, определяли незнакомые образцы по справочнику Ферсмана, бегали в минералогический музей, делали шлифы. Он говорил Фридке об Израиле, о холмах, и пустынях земли Ханаанской, о картинах, которые мог бы написать только там. Фридка сочинила стихи: «Камни в моем доме».
Мне сказали:
– Ты любишь камни?!
Ты ищешь камни?!
Ты в дом свой приносишь камни?!
Я сказала:
– Люблю я камни!
Ищу я камни!
И в дом приношу цветные камни!
Мне сказали:
– Ты не знаешь приметы!
В доме камни – ужаснее нету!
– Где запреты – там нету секретов, – я сказала. – Я знаю приметы!
Мне сказали:
– Не узнаешь любви! Не взвидишь света!
Я сказала:
– Взгляните на этот прозрачный —
Он приносит успех и удачу.
Лазоревый в жилку – улыбку и взгляд,
Калитку, тропинку, рассвет и закат.
Зеленые кристаллы —
Беспечности бокалы!
И дружбы объятия!
И новые платья!
А мачту и парус, океан при луне
Добудет мне красный, завещанный мне!..
Я сказала:
– Синий
Сулит мне сына!..
Они сказали:
– Ты любишь камни.
Ты ищешь камни.
Ты в дом все приносишь и приносишь камни.
А ты
Знаешь,
Что
Твоему
Народу
Не будет радости, не будет свободы?
Я сказала:
– Да!
Люблю я камни!
Да, да, да!
Ищу я камни!
И приношу,
Сколько хочу,
Красивые камни! О камни! Камни!
А от народа моего напасти
Отведет мое счастье!
Они сказали:
– Ну, смотри!
Я сказала:
– Как-нибудь!
Они сказали:
– Тебя не переговоришь!
Я сказала:
– То-то и оно!
У него был дедушка, девяностолетний, совершенно немощный, и больше никого из родных. Фридка не смела спросить, боясь оскорбить его чувство, откуда, из какого источника он напитал душу такой больной любовью к земле древних предков – ведь рос он в Москве, изъездил весь Союз, везде у него было множество друзей – вулканологи на Камчатке, геологи в Якутии, художники в Самарканде. Фридка предполагала – дедушка.
Сейчас дедушка едва в состоянии был задавать Фридке задыхающимся голосом свой ежедневный вопрос:
– Вы откуда?
И в сотый раз понимающе покивать головой, узнав, что из Одессы, как бы говоря: я так и думал. Но прежде, наверно, пел ему древние песни…
Дедушке становилось все хуже, а он говорил Фридке, что уедет, когда не станет дедушки. Фридка втайне от него оплакивала его будущий отъезд. Однажды, не имея больше сил ждать разлуки, она придумала, что надо заранее рассориться с ним, сделать так, чтобы он оскорбил ее, и тогда ей будет безразлично, что он едет, пусть катится, подумаешь!.. Она хорошо знала, когда он бывает беспощаден. Она спровоцировала спор об Израиле, и понеслась не слыша окриков, по острому гребню… Он задохнулся от обиды и неожиданности, он выставил ее вон, она хлопнула дверью, он вышвырнул на лестницу забытую сумку…
Потом Фридка слышала, что скончался дедушка, что были похороны. Потом Фридка слышала, что он хлопочет о памятнике, что памятник поставили. Потом она ходила на его очередную выставку, убедившись, что его нет в залах. Потом она слышала, что он принял заказ на большую многолетнюю работу.
Иногда, когда она о нем долго ничего не слышит, она звонит ему.
– Да? – говорит он отрывистым голосом всегда занятого человека, и бедная Фридка с облегчением опускает трубку.








