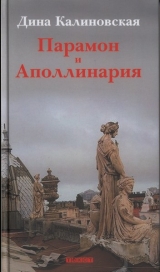
Текст книги "Парамон и Аполлинария"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Дина Калиновская
ПАРАМОН И АПОЛЛИНАРИЯ
ИЗБРАННОЕ
ПАРАМОН И АПОЛЛИНАРИЯ
Вечером дед Володя машинкой постриг Парамона под нуль, а Парамон, пока спал, об этом забыл. Утром проснулся – и не может понять, почему голову холодит. Потрогал макушку, потрогал затылок, вспомнил сугробчик желтых волос на полу, сразу встал, натянул штаны, футболку и, не умывшись, не поев, пошел показаться Аполлинарии.
По озеру еще слонялся сонным бараном туман, а тетя Маша Зайцева со снохой пошлепали на веслах в слободу, они работали в столовой, им надо было рано. На коньке за овсяным полем разбрелись коровы, там щелкал по земле тяжелым кнутом и покрикивал «и-их!» дед Володя. Черный безголосый петух с ненавистью посмотрел на Парамона. Парамон давно бы прибил петуха, потому что никакой вины перед ним не имел и не понимал, как можно ненавидеть без причины. Но во-первых, петух принадлежал Аполлинарии, а во-вторых, он один остался на всю деревню. В прошлом году слободской магазин стал продавать яйца с птицефермы по восемьдесят копеек десяток, и вся деревня посчитала разумным за зиму своих кур съесть. И скушали. А яйца в слободе пропали. Теперь сидят без яиц, кукуют. У одной Аполлинарии три курочки остались да этот черный фашист.
К Аполлинарии идти через два дома на третий. Она уже встала, знал Парамон, сидит кашу ест или чай попивает. А если попила, знал Парамон, то самовар все равно стоит на столе, его дожидается, Парамона. Сама же Аполлинария в ситцевой кофте и в белом платке под окошком доплетает позавчера начатый воротник. Аполлинария на всю деревню первая кружевница, так старухи определили между собой. Она за зиму наплетет воротников и косынок, за лето туристы всё раскупают. А она и летом плетет. Она не может не плести, у нее, если не поплетет день, начинают болеть руки, особенно ломит пальцы, знал Парамон.
Ворота Аполлинарииного дома были раскрыты настежь. Видно, успела натаскать воды из озера. Парамон вошел на мост, покачался на доске. Она торчала тут, когда Парамон еще не родился. Пришел цыган, знал Парамон, завел коня, а настил под конем проломился. Виноватый цыган заплатил Аполлинарии за нечаянное безобразие самоваром. Аполлинария осталась довольна.
Парамон покачался на скрипучей доске, покачался и толкнул плечом толстенную дверь.
Аполлинария, как он и знал, возле окошка щурилась и улыбалась над валиком – плела. Над ней в простенке качался дразнилка-маятник, в руках у нее прыгали, щелкали коклюшки.
– Смотри! – крикнул он с высокого порога.
Она посмотрела. Перестала плести, отвела голубую занавеску, чтобы было виднее.
– Настоящий солдат стал.
Аполлинария лучше всех все понимала. Парамон сам просил деда Володю не оставлять никакого чубчика, чтобы было как у солдат, тех, что строят возле дороги над озером большой дом для школьного интерната.
– Чаю попьешь, солдатик?
– Четыре ложки позволишь – попью.
У них заведено было торговаться из-за сахара.
– Четыре так четыре, – сказала Аполлинария, и Парамон очень удивился: больше трех она не разрешала никогда, говорила – мужикам много сладкого нельзя, у них, считала, от сладкого смолоду расползается лысина.
– Времечко через деревню бешеным козлом скачет, – сказала Аполлинария, опять взявшись за коклюшки. – Осенью в школу поступишь, а там, глядь, и в армию позовут.
– Сперва женюсь, а потом уже в армию, – подумав, заявил Парамон.
– Кто ж сперва женится? – заспорила Аполлинария. И Парамон опять удивился – спорщицей Аполлинария не была никогда. Но она быстренько спохватилась и поправила разговор: – Или невесту приглядел?
Парамон промолчал.
– А как же без невесты-то жени-и-иться? – пропела Аполлинария. Она любила так – говорит, говорит, а вдруг и пропоет.
Парамон посмотрел на нее и тоже пропел:
– Надо будет – и найдется неве-е-еста!.. – И стал цедить себе в кружечку из самовара. – Еще не примут-то, – усмехнулся Парамон, играя краником: то тонко пустит, то вовсю. – В школу-то.
– Их власть, – согласно усмехнулась Аполлинария. – Могут и не принять.
И они весело и победительно посмотрели друг на друга.
А дело в том, что четвертого дня к Парамону лично приходила интернатская учительница тетя Маша Шилова. Она обходила все приозерные деревни и записывала в первый класс. А Парамона брать не захотела, когда узнала, что ему семь лет только зимой будет. «Погуляй еще на воле, рано тебе». Парамон молчал, он не такой, чтобы упрашивать. Но сестра Катя поискала букварь и заставила прочитать учительнице. Он прочел, где указали: «Мы-a, шы-а – Маша, у-мы-ны-а – умна». – «Вот ты какой молодец! – похвалила учительница тетя Маша. – А что же это значит, Парамон – „Маша умна“?» И обиженный Парамон, хоть и понимал, что выйдет неуважительно, ответил: «А то и значит, что сперва подумает, а потом уже скажет!» Учительница засмеялась и записала его.
Парамон завернул краник, уселся с кружечкой поближе к Аполлинарии, чтобы было видно, как плетет, и повел их обычный утренний разговор.
– Ну что, не падала больше? – спросил он.
Имелась в виду болезнь, которая стряслась с Аполлинарией весной. Она упала в курятнике и сколько-то без сознания там пролежала, пока Парамон не нашел ее. Он испугался, подумал, что умерла, побежал за старухами. Старухи пришли, подняли Аполлинарию, принесли в дом, положили на лавку, тут она и проснулась. Ничего, говорила, не помню. Не помню, говорила, как в курятник шла, не помню, говорила, зачем шла, ничего не помнила. Парамон, говорила потом, меня спас, а то бы, говорила, замерзла в курятнике. Конечно, замерзла бы, понимал Парамон. Тогда была совсем еще ранняя весна, снег не стаял, по озеру вовсю ездили на санях. Парамон теперь всегда первым делом спрашивал, не падала ли еще. На нем теперь за нее была ответственность. «Неужто мне каждый день падать?» – всегда отвечала Аполлинария, притворяясь обиженной за недоверие к ее здоровью. «Не падала – и хорошо», – хвалил Парамон, не замечая притворства.
Парамон нырнул носом в кружечку, глазами показал на малиновый платок, повязанный сегодня Аполлинарией:
– А ты чего это – праздник?
Аполлинария вдруг как засмеется. Смешлива она, всех пересмеет.
– Праздник, вот уж! – Бросила коклюшки, заплескала руками. – Всё пиво выпили – так уже и праздник! – через смех вскрикнула она.
– Кто выпил-то? – строго спросил Парамон.
Пиво Аполлинария сама делала из картошки и берегла для мастеров. Если случалось починить радио, или ходики, или электричество – да мало ли? – без пива звать мастера не полагалось.
– Кто выпил-то? – еще строже спросил Парамон, потому что смех Аполлинарии говорил, что о пиве она нисколько и не жалеет.
Аполлинария отсмеялась.
– Николашка мой приходил, – шепотом доложила она, как если бы под окном кто-то слушал. – Со сватом!
Парамон переждал, пока отсмеется совсем.
– Чего это?
– Так свататься же! – И опять зашлась.
– Было из-за чего пиво тратить, – заворчал Парамон, когда она затихла. – А до новой картошки ой сколько.
– Я и говорю, – быстро закивала Аполлинария.
– Ну?
– Иди, говорю, не шути. А он – не возьмешь меня, плохо мне будет, Поля. – Она посмотрела вопросительно, больше не смеялась, лицо ее сделалось строгим, как у Парамона.
– Вот и хорошо, что плохо, – сказал Парамон. – Ишь какой!
– Я и говорю, – опять согласно закивала Аполлинария. – Ишь, говорю, какой! Тридцать лет без тебя жила. Детей без тебя поставила. Алиментов от тебя не брала. За дом всю страховку без тебя выплатила. И в колхозе, и плела, и рыбачила. Все мои две рученьки. А теперь твоя молодка померла – ты и тут. И не думай, говорю.
– Так, – одобрил Парамон. – Разбежались мы, как же! Ну и чего – ушли?
– Да ушли. Пиво допили – и ушли. Но только, Парамоша, – зашептала Аполлинария торжественно и виновато, как будто сама накликала беду, – завтра, сегодня, значит, опять грозился прийти. На коленях, грозился, просить будет!
Парамон обозлился:
– А ты не пускай! Ты закройся – и не пускай! Чего тебе глядеть, как он на коленях просится? Кому это весело – глядеть, как кто-то на коленках перед тобой ползает?
– Так оно, так. – Аполлинария полностью соглашалась.
– Нечего тебе на такое глядеть, – уже помягче наставлял Парамон. – И пиво тратить было нечего. А мастера придут? Дрова пилить собираешься? Это без пива-то?
И Аполлинария закручинилась, закивала: так, мол, все верно, дура я. Она прислонила к коленям валик, собрала в горсть коклюшки. Хорошо, мол, ты у меня есть, говорил весь покорный ее вид, советчик мой самый лучший, прав, мол, ты совершенно во всем, и буду я всегда тебя одного слушать.
Парамон досыпал в кружечку пятую ложку сахара.
– Непонятно мне только, – он с трудом размешивал густой сироп, – зачем же малиновый платок-то на тебе? Праздник разве?
– Как же!
Аполлинария вскинулась, заулыбалась редкими щербатыми зубами, вздернула морщинки на лбу, глаза сделала кругленькими и опять, как приставучего теленка, отстранила валик.
– Как же, Парамоша! Для женщины хоть какое сватовство – всегда главный праздник жизни!
– Скажешь! – Парамон покрутил головой, как бы удивляясь вечному женскому легкомыслию. – Главнее Восьмого марта?
Но Аполлинария с веселым упорством подтвердила:
– Главнее.
Парамон не спеша запустил руку за ворот, почесал, где и не чесалось, поцыкал зубом с видом человека, попавшего в чуждую по взглядам компанию, но имевшего в запасе козырный аргумент.
– Главнее Первого мая? – спросил он, заранее жалея побежденную Аполлинарию.
Аполлинария поправила платок на темени.
– Ей-богу, главнее!
– Спорщицей вдруг сделалась… – неодобрительно буркнул Парамон и сердито задолбил босой пяткой по ножке табурета. – Пьяница твой дед Николашка!.. – подсигивая от злости, заорал он. – Алкаш самый что ни есть слюнявый! – Парамон сотворил наиотвратнейшую, как считал, рожу – рот наперекосяк, глаза к носу. И понес с горючим презрением: – Нашла себе!.. Бросил же! С малыми детями!.. И крышу дыряву оставил!.. И дров не напас!.. И корове сена не вывез из леса!.. Забыла?
Аполлинария глядела на него, не плела, потерянно сложила руки на коленях.
– Да я б такого!.. – слез с табурета и наступал на нее Парамон. – Ухвата у тебя, что ли, нету? Тридцать лет не являлся, а счас чего ж? Может, дом у него сгорел в Кнышове? Небось конура-то собачья не сгорела, в ней бы и жил!.. Пошто к тебе пристал и путает? Ты, мол, плети, гни спинушку, а ему чтоб денежки на пропой?..
– Чего ж такого ты наслушался, робенок? – сказала Аполлинария. – Старухи плетут языками, ты и набрался у них…
Парамон успокоился от ее жалостного голоса, вздернул чертовы штаны – они непрестанно сползали.
– Не ходи ты за него.
Аполлинария виновато сморщилась:
– Говорит, любит меня, Парамоша. Говорит, одну тебя всегда и любил, Поля.
– Так любил, что бросил с детями? – безнадежно махнул он и опять влез на табуретку. Раскинул руки по столу, щекой положил голову. – А Наталья?
– А Наталья, говорит, была как дурман… – Аполлинария поводила вокруг головы руками. – И считаться с покойницей, говорит, нехорошо, грех, Поля, – робко объясняла она.
– Ну и женись с ним, пропадай!.. – выдохнул Парамон. – Будет он тут… сидеть!
Аполлинария помолчала, потом снова приобняла валик и невесело стала играть коклюшками над почти готовым воротником. Воротник плелся из черных ниток – широкие волнистые дороги по краю и маленькие юркие волны в середине. Парамон не одобрял черное кружево. «Сделала бы паучки красными нитками, что ли!» – требовательно предлагал он. «А где же взять красных катонов-то?» – прикидывалась незнающей она. «В слободе возьми, в магазине», – поучал Парамон. «Вот за пенсией пойду на почту, тогда и куплю», – заверяла Аполлинария. Ей нравились одноцветные кружева – черные ли, белые, но обижать Парамона не хотела, соглашалась. «Чего ждать-то? Когда еще пойдешь! Сгоняй меня в магазин, я и куплю», – настаивал Парамон. «Детям не продают», – сокрушалась Аполлинария.
Сейчас Парамон молчал. Расплющился по столу, размазывал пальцем чайную лужицу, горевал.
Аполлинария не выдержала.
– Пошто рассердился, Парамон? – позвала она тихим и веселым голосом.
Он не ответил.
– Не пущу я его сюда. Ей-богу, не пущу! Зачем он нам?
Он не ответил, перелез с табуретки на лавку, высунулся в окно. Вокруг недостроенной зайцевской бани проснувшиеся братья гонялись друг за другом – плевались из камышовых трубок прошлогодней рябиной.
– Колька! Толька! – крикнул Парамон вместо утреннего приветствия.
Братья в азарте не обернулись.
– Точно не пустишь? – спросил он у Аполлинарии через плечо.
– Кого? – слукавив, не поняла она.
– Да деда-то Николашку!
– Не пущу. – Аполлинария прошла за печку и переменила малиновый платок на каждодневный белый. – Ни за какой подарок не пущу, – договорила она, снова усевшись под окошком. – Как же мне пускать его, ежели я не доверяю ему, и не жалею его, и покою мне от него не ждать. А помру – так дом детям хоть на дрова отойдет, а то ему достанется. А страховку я всю сама, без него выплачивала. Нет, пусть как хочет, нас не касается.
Она не плела, задумалась, а Парамону стало весело, захотелось измерить ногами новый ее половик, рябенький, весь разноцветный, еще не стиранный. Старые Аполлинария сто раз стирала в озере, он сам помогал полоскать их, они и выцвели, посерели, а новый прямо сиял весь. Аполлинария плела его зимой. Парамон большими ножницами помогал ей резать тряпки на полоски. Тряпки попадались интересные – то городское платьице маленькой девочки, то мужская клетчатая рубашка, даже форменные милицейские штаны попались. Парамон воображал себе кудрявую, с бантиком девчонку, сердитого шофера, важного милиционера. У Аполлинарии с кем-то в городе был договор – вы мне, мол, насобирайте тряпок, я сплету половик, а вам за то насушу грибов, наберу клюквы.
Парамон пошел мерить от двери через всю избу – пятку к пальцам, шажок за шажком.
– Я, говорит, – добавила еще Аполлинария, – в Узкое пойду, к дочери нашей, я, говорит, в Череповец сыну нашему письмо отпишу, они, говорит, прикажут тебе принять меня, Поля…
Парамон сбился со счета.
– А прикажут?
Аполлинария только плечами повела:
– В таком деле никто приказать не может!
И Парамон пошел мерить сначала.
– Хочешь, я тебе камышовую трубку срежу? – обернулся он к Аполлинарии на двадцать второй ноге.
– Нашто мне?
– Будешь плеваться рябиной!
– Ну срежь.
Всего намерилось двадцать девять шажков. Парамон пожалел, что мало, он любил показывать свое умение счета.
– Я могу всем старухам срезать! Будете друг в дружку стрелять! Вечером вам все одно скучно.
– Давай! – умело обрадовалась Аполлинария, а потом повела его в клеть и насыпала сухого гороха из берестяного короба прямо за пазуху. Штаны Парамону, сколько ни просил, покупали без карманов.
Трубка была припрятана в дровах под мамкиной печкой, Парамон побежал домой и застрял.
Мамка, как всегда после папкиной получки сердитая с утра, уже вытаскивала из печки картошку. Папка возле окошка брился, он после получки всегда брился, чтобы в лесхоз идти с хорошим лицом, а без получки он и небритый себе нравился. Катя, самая старшая – на тот год будет кончать десятый класс, – сидела на лавке с ногами, нечесаная, сонная, в одной длинной рубахе, сумрачно обдирала вяленого леща.
– А может, я и не поеду ни в какой ни в техникум, – бубнила Катя. – Может, я на ферму пойду. Надька Ошукина идет и Валька Козлова тоже. А поеду – так в городе какие девчонки модные. С городскими мне не тягаться…
– Пока школу не кончила, нечего и языком брякать! – Мамка громыхнула об пол ухватом.
– А десятый класс можно и в вечерней закончить, – дудела Катя, – Надька Ошукина собирается в вечернюю и Валька Козлова…
– Они, что ли, тоже замуж хотят, Надька-то с Валькой?
Катя засмеялась:
– За кого же?
Но мамку не рассмешишь, если она с утра не в настроении.
– На деда Трошку он похож, твой уважаемый, на Трофима Алексеевича. И видом, Катька, похож, и разговором, и всеми замашками, – говорила мамка Кате, а сама строгала лук на тарелке.
От скрипа ножа по тарелке у папки ломило зубы, он злился и кричал, бывало, на мамку, а сегодня терпел. Он после получки всегда был очень терпеливый.
– А дед Трошка, – говорила мамка, – на руку был тяжел, все помнят, на расправу ох как скор, а на ласку уй какой экономный. Его баба где и слезы брала, не пойму. А дети чуть подросли – все поразбежались по Москвам да Ленинградам. И тебе, девка, мотать сопли на кулак. Чересчур он на деда своего похож. И больше убеждать не буду.
Парамон знал, что будет. Уж который день мамка уговаривает Катю не ходить замуж за Олега Бибиксарова. А Олег отслужил армию, имеет мотоцикл. К Кате каждый вечер подкатывает на мотоцикле, и они едут в слободу на танцы. Парамону Олег вполне нравился. И куртка у него хороша, вся в молниях, финская болонья. Такого парня любить было правильно.
А папка не вмешивался и молчал. Он всегда помалкивал на другой день после получки. Детишечки, плакал вчера, сыночки мои, виноградинки! Катюшечка, красавка моя, картиночка распортретная!.. Нюшенька (это мамке), хозяюшка моя, стряпеюшка золотая, умница!.. И все-то я для вас сделаю, и жизни не пожалею. И всякое такое. Насилу спать уложили.
Катя хоть и просит, но не плачет, потому что мамка убеждать убеждает, а от каждой получки откладывает рубли на свадьбу, и Кате это известно.
Мамка потащила на стол поспевший самовар, раскидала по клеенке тарелки, утерла луковые слезы и приказала Парамону:
– Зови охламонов-то!
Так и не пострелял Аполлинарииным горохом.
Солнце высунулось из-за водокачки и погнало туман с озера за протоку, в холодок тухлой заводи за мыском, где черная от ила вода, мелкое, гнилое дно, всяческий хлам мокнет – битая фаянсовая раковина, дырявое корыто, мятое ведро. Раки там не водятся, а утки ничего, любят. Там туман и дотаивал. От конька прямо навстречу солнцу выдувало на деревню и на все небо круглые плотные облака. Они тесно шли над овсяным полем, над деревней, переплывали озером, переваливались через телячий выпас на том берегу и, толкаясь, заползали за темные зазубрины большого леса, куда Парамон не ходил ни разу.
– Откуда облака ползут-то? – спрашивал Парамон у Аполлинарии.
– Оттуда, – отвечала Аполлинария и улыбалась своему незнанию.
– А куда?
– А туда, – махала Аполлинария и, как маленькая, радовалась, что не знает.
– Откуда облака ползут-то? – спрашивал Парамон у деда Володи.
– Оболок-то? С Ледовитого океану, с полюса, – прочно отвешивал дед. Он на войне был разведчиком и на все обязан был иметь хороший ответ.
– А куда? – допытывался Парамон, и уже не для себя, хоть и для себя, конечно, но больше для Аполлинарии.
– В Батуми, само собой.
– А там что?
– А там лимоны, там мандарины. Там что ни день – тропическому ливню полагается быть. Иначе ни лимон, ни мандарин произрасти не могут.
– И сколько же их ползет, облаков-то этих, с океану!.. – озабоченно глядел Парамон на небо с мокрого, только что выскобленного крыльца Аполлинарии.
– С океану, говоришь? – дивилась Аполлинария и запрокидывала к небу продолговатое свое лицо.
– С Ледовитого. Видишь, какие они белые да холодные, ледовитеющие!..
– А куда ползут-то, не знаешь?
– В Батуми небось. Слыхала такое место?
– He-а. Далеко ли?
– Не шибко. Может, за большим лесом да на машине чуток. Лимоны там, как шишки на елке. Дождя надо – прорву. Туда и идут.
Аполлинария выплескивала обмылки из ведра, они пузырились по траве, ведро бочком ставила на дровяную поленницу сохнуть. Там у нее сохли уже стиранные с утра юбка и чулки, она трогала их, поворачивала другой стороной к солнышку, потом набирала дров на руку. Парамон и себе накладывал полешки.
– Сметанник собралась печь?
– Ну, – подтверждала Аполлинария.
– Сегодня? – радовался Парамон.
– Тесто уже створено, – сообщала Аполлинария.
Муки Аполлинария запасла не белой, а серой, но сметанники у нее выходили куда душистее и сдобнее мамкиных белых.
– Почему твои сметанники хоть и серые, а запашистей и пышнее мамкиных? – спрашивал Парамон. – Секрет небось знаешь?
– Да уж, – вовсю улыбалась она. – И никому не скажу.
– Жалко, чтоб и у других такие получались? – корил Парамон.
– И жалко! – капризно соглашалась Аполлинария. – Чем же я тебе свое уважение докажу, если у меня сметанник, как у всякой бабы, будет?
Когда солнце добиралось до зенита, дед Володя перегонял коров на бугор возле озера. Коровы, какие хотели пить, махая хвостами, сбегали по бугру к воде, какие не хотели, укладывались на ощипанном склоне под солнышком. А дед на самой вершинке раскладывал газетку, придавливал ее по всем углам запасенными тут голышами, чтобы ветер не беспокоил его харч, доставал бутылку, говорил про нее – «генерал», если полная, и «полковник», если половина, доставал потом хлебца, картошечки, луку штуки четыре, коробочку с сольцой, усаживался лицом на монастырь, говорил – глазами на диво, и тогда Парамон мог сколько хотел хлестать по земле длиннющим кнутищем деда. При «генерале» дед не уводил коров с водопоя до вечера, хоть старухи ругали его – коровам на бугре щипать совсем было нечего. При «полковнике» тоже долго получалось, так что за лето Парамон наловчился сшибать кнутом камешки в озеро, одной подсечкой мог срезать ромашку со стебля. Его хлопанья все лето глушили деревню.
Время водопоя еще не подошло, дед пока пребывал на коньке, и Парамон пошел к нему, но не прямо через поле, а по петлястому руслу сухой в это лето речки. Речка была маленькая, кустики, поросшие берегами, соединялись ветками, Парамон шел как бы коридором. Он ступал босыми ногами по непрерывной дороге из мшелых плоских камней. Те небольшие завалы, что речка, пока бежала, настроила вокруг какой-нибудь затопленной коряги, Парамон еще раньше раскидал. Здесь под сыроватым, темноватым, тайным сводом и малины было больше, чем наверху. По бережкам, случалось, брали малину, а здесь, где никто, кроме Парамона, пролезть не мог, было его хозяйство. Здесь грызли комары. Наверху их почти и не было по сухости лета, а здесь только присядешь за ягодой, сразу и вопьется какой-нибудь кузя. Так что Парамон не очень объедался малиной. Хорошо было ставить босую ногу в мягкий прохладный мох, и он шел, не останавливался. Ну если какая ягода очень уж просилась, тогда.
За размашистой излучиной Парамон набрал все же полную горсть и, обойдя высокий крапивник, выкарабкался на берег.
Дед Володя сидел под стожком, который накосил сам, Парамона заставлял ворошить, а нагреб перед тем воскресеньем для удобства, сказал, отдыха. Отсюда, с конька, ему была видна вся деревня на откосе и слобода за озером, а на другом откосе – поле до леса, до великих сосен, до кладбища. Говорил – все мое видать, ценил высокое положение.
Дед пребывал под стожком не один. С ним старичок еще постарее, с пегонькой бородочкой, с жалконькой улыбочкой, в стираном пиджачке, но с медалью «За отвагу» и в новой фуражке.
У них шел разговор.
– Не знаю, Николаха, – неспешно обчищая картошку и подавая ее старичку, вел дед Володя. «Генерал» стоял между ними почти что уже «полковником». – Вот думаю, а не додумаюсь, как твое дело сделать по-хорошему, не знаю. Аполлинария, самому известно, от тебя добра не видела и не слышала, а одно только зло и неуважение.
– Я не счеты пришел к ней считать! – беззубо, но гордо выкрикнул старичок. – Я, рядить твою, прощенья пришел у ней просить! А то не шутка! – И принял картошечку.
Парамон укрылся за стожком, не стал у них на глазах вертеться, чтобы не прогнали, – хотелось послушать, что они про Аполлинарию еще скажут.
Старички помолчали, пошуршали сеном, булькнуло у них, звякнуло, вместе крякнули потом, повздыхали.
– На третью после войны зиму, – осторожно, ласково потянул дед Володя разговор дальше, – ты брал у ней корову на зимний покорм. Брал? Ты вспомни. Уже и в Кнышове жил, и с Натальей. Ну?
– Чего? Не помню… А, было, было!
– Было. Так Аполлинарьюшка-то всю зиму тряслась – отдашь ли! И вся деревня переживала о ней.
– Так на покорм брал ведь, рядить твою!.. – Старичок жиденько высморкался. – Брал да отдал. Весной привел сыту, дойну. А брал-ыт заморенную! Было, было!
– Было, – с авторитетным укором подтвердил дед Володя. – И брал и отдал. Дело. Помог бабе корову прокормить.
– И в уме не было – не отдавать!.. – взвизгнул старичок. – Переживала, рядить твою!..
– Погоди, Николаха, не дергай. И брал и отдал. Да только чем же таким ты настращал бабу, что всю зиму маялась, робят, мол, весной кормить будет нечем, как картошка кончится? Это коли не отдашь.
– Так отдал ведь!.. – с еще горшим взвизгом крикнул дед Николашка, и Парамон испугался – заплачет.
Старички помолчали.
А Парамон увидел, что из слободы к школе подъезжает телега, груженная желтыми досками, а рядом с лошадью Майкой сучит ножонками-камышинками ее вороной Фунтик. С ним, пока солдаты будут сгружать доски, можно поиграть, погонять его хлыстиком. Парамон и собрался было, встал.
– Нет, – прочно, как умел, сказал за стожком дед Володя, – не пустит тебя Аполлинария.
Тут и заплакал старичок. Засморкался, захлюпал и вовсе завыл:
– Креста-а на ней нету-у!..
– Парамон! – крикнул тогда дед Володя.
– Ну, – отозвался Парамон, но не двинулся.
– Подь!
Парамон пошел с любопытством и отвращением.
– Постереги коров. – Дед кинул ему кнутище.
– А чо их стеречь?.. Не убегут, часом… – заворчал Парамон, ему до смерти было противно оставаться тут с хныкающим дедом Николашкой.
– Гони на бугор, – подумал и переменил приказание дед Володя. А несчастненькому сказал отдельно: —Попробую, Николай Павлыч, но не гарантирую. – И пошел.
Тот благодарно закивал, достал холщовую тряпочку из кармана, утерся, приосанился.
– И-их!.. – крикнул Парамон и так страшно ударил по земле кнутом, что дед Николай Павлыч ойкнул и ругнулся:
– Малахольный, рядить твою…
Коровы не уходили с сытного места на вытоптанный голодный бугор, и пить им еще не хотелось. Они не слушали Парамоновой команды, поворачивали к нему головы, смотрели с удивлением и щипали себе опять. Пришлось хлестнуть вожатую Рыжку по оттопыренным бокам. Потрусила, мотая выменем. И те потихоньку побрели вдоль речки, бережно выщипывая под кустами.
Дед Николай Павлыч еще покопошился возле стожка, поскладывал в туес остатки пастушьего завтрака, сунул и бутылку, постанывая и сопя, стал подниматься с земли – сперва перекрутился на коленки, с хрустких коленей на корточки, с корточек стал выпрямлять корявые ноги, ухватясь за воткнутую в землю осиновую палку с сучком на верхнем конце. Постоял сколько-то, приучая никудышное тело к стоянию.
– Понесешь? – Он показал Парамону на туес.
– Чего? – злобно переспросил Парамон и отвернулся к коровам.
А дед Володя уже подходил к деревне. И спина его, и решительная походка показывали Парамону, что в успехе дед уверен.
Парамона затомило беспокойство. Он знал упорный норов деда и знал ласковую покладистость Аполлинарии.
– И-их!.. – тяжко шарахнул кнутищем.
– Па-а-ук тебя съешь! – услышал позади.
С бугра был виден весь заносившийся большой дом Аполлинарии. Парамон стоял на вершинке возле наложенных дедом Володей камешков и глядел на дом, ждал. Приплелся следом и дед Николай Павлыч с туеском. На бугор забираться не стал, стоял, упершись в осиновую свою палку, выжидательно натянул цыплячью шею в сторону Аполлинарииного дома, хоть ему с низинки была видна одна только щепная крыша. Коровы разбрелись. Воспитанные в строгости, они не шли за дорогу, в овес, но держались как можно ближе к овсяному полю, мечтательно взглядывая на него и тихонько молитвенно мыча.
А через час на крыльцо веселым шагом вышел дед Володя, а за ним вышла и сама. И платок на ней опять был малиновый…
Отставала лебедушка
Да все от стаду,
Ой, все от стаду лебединого, —
пели нарядные старухи вечером, рассевшись на лавке у Аполлинарии.
Весь день старухи хлопотали по деревне, бегали из дома в дом, что-то мыли, что-то носили – кто пиво в стеклянных баллонах, кто баранки из города, кто пирога с рыбой, или грибами, или черникой. Лица у старух были то ли радостные, то ли насмешливые – не разберешь. Теперь вот уселись все в ряд, все в цветастых платках, в новых кофтах – закадычная подружка Аполлинарии басовитая баба Шура, и Прасковья, про которую старухи знали страшный секрет, в дом к ней не ходили, но к себе не пускать стереглись, и все другие. Они уже попили пивка, закраснелись, глядят на Аполлинарию заплаканно и весело, поют:
Да приставала-а лебедь белая,
Ой приставала
Все ко стаду ко серым гусям…
И дед Володя тут. В белой рубахе, три медали. Сидит возле жениха, толкает в бок, чтобы не спал. Дед Николай Павлыч весь день не уходил с крыльца, пьяненько плакал, не верил счастью, а теперь устал, дремлет.
Аполлинария рядом с ним тихая, неулыбчивая, но настоящей печали Парамон не усмотрел на ее лице, и это его бесило.
Аполлинария заметила его за окном, замахала, зазывая в дом. Тогда Парамон, глядя прямо на нее, пихнул плечом, а потом всей спиной поленницу, дрова с грохотом обрушились на крыльцо. Старухи пели себе, грохота за собой не слышали, а Аполлинария все видела, смотрела обеспокоенно. Парамон уперся ногой в плетень, дернул из плетня тонкую слегу, сунул в окно и кинул. Она упала на пол возле печки. Старухи обернулись, удивились, но не примолкли, пели дальше:
Да не щиплите, гуси серые,
Да не сама я к вам в залет зашла-а…
Аполлинария встала от стола, приблизилась к окошку.
– Ты пошто так, Парамоша?
– А ничего! – огрызнулся Парамон и, глядя на нее как умел наипрезрительнейше, сунул за щеку горсть гороха, нацелился ей в самое лицо.
Он думал – испугается, а она не пошевелилась, не прикрылась рукой, смотрела на него ласково и виновато. Тогда он с сердцем стрельнул в огород. Из кустов картошки, треща крыльями и сипло квохча, как придушенная курица, выпрыгнул и побежал со двора загулявший до заката черный петух.
Да занесло меня погодою…
Красные, дымные катились облака бесконечной чередой из-за конька через деревню, красили крыши, расплывались в озере, густили его, темнили, заползали в лес на том берегу, путались в елях, обжигали стволы и листья берез. Дышало пожаром и сокрушительством.
– Как запалю чего-нибудь!.. – бормотал Парамон, уходя от крыльца к озеру.
Зафурыкал на дороге мотоцикл, не спеша на каблучках прошла Катя в красном платьице.
– Парамош, иди домой кисель есть! – Посмотрел и не ответил.
– Как запалю!.. Повыскакивают, заполошат… Дед Николашка обмарается от страху… Пусть тогда полюбуется на него эта… – Он перестал бормотать, подбирая для нее справедливое ругательное слово, но крепкие слова, какие он знал, были совсем хулиганские, к Аполлинарии неприменимые.
На зачаленном к берегу плотике, с которого деревня черпала воду, сел, обхватил колени.
– А сам уйду к солдатам, и все, – додумал и добормотал тут.








